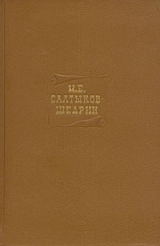
Текст книги "Том 7. Произведения 1863-1871"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 52 страниц)
Пусть говорят они, что и у них имеются свои идеалы, пусть называют себя консерваторами и охранителями общественного порядка – их идеалы, осужденные историей, могут привести за собой лишь пагубу и истощение общественных сил, а консерватизм их может быть выражен следующим характеристичным стихом:
И когда эти праздные и самолюбивые утописты, мечтающие повергнуть весь мир в оцепенение, одерживают, благодаря горькой случайности, верх в обществе, тогда-то действительно наступает постыднейшая из всех анархий, о которых когда-ли<бо> свидетельствовала история.
Замечательно, что никогда анархисты мнимые, то есть сторонники прогресса, не действуют с таким поразительным ожесточением, с такою ужасающею бесповоротностью, с какою всегда и везде поступают анархисты успокоения. Одичалые консерваторы современной Франции могут служить тому очень убедительным примером. Они в одни сутки уничтожают более жизней, нежели сколько уничтожили их с самого начала междоусобия наиболее непреклонные из приверженцев Парижской коммуны! Нет спасения от одичалого охранителя, да и не для чего искать его! Искать спасения значит только обрести лишнее унижение, лишнюю подго<то>вительную жестокость к жестокости последней, окончательно вырывающей жизнь! Ибо анархия успокоения изобретательна до утонченности в своих истязаниях. Она любит видеть судороги и тоску своей жертвы, и только когда натешится вдоволь зрелищем этих судорог, только тогда отсекает ненавистную ей голову.
Нет ничего отвратительнее, как зрелище торжествующей анархии консерватизма. Если б оно представляло собой только голую травлю – как ни позорно такое явление, его можно бы еще снести. Ужасна игра, ужасно привлечение всего человека, не только публичного и политического, но и частного со всеми его, до него одного только относящимися, слабостями и пристрастиями. Заподозривается, например, NN в анархических стремлениях – натурально, его обыскивают, арестуют (в Париже это нынче не редкость). При обыске ничего компрометирующего в политическом смысле не отыскивается, но взамен того отыскивается переписка любовного содержания. И вот под предлогом интересов * общественного спокойствия начинается выемка человеческой души. * Что значит такое-то слово? что скрывается под таким-то выражением? Анархист-выемщик сам очень хорошо понимает, что все слова, которые он читает, ничего больше не значат, кроме того, что заключает в себе прямой их смысл, но он не останавливается перед этим соображением, ибо ему нужны судороги стоящей перед ним жертвы, нужна ее агония. Не добившись достаточного повода, чтоб вырвать жизнь у преследуемого, он обесчестит его, уязвит в самой дорогой его привязанности и только тогда прекратит свои истязания, когда увидит, что вся сумма гнусностей, которые были в его распоряжении, уже истощена.
И все это делается во имя успокоения, во имя того самого успокоения, в которое в глубине души не верит ни один из одичалых, будь он даже самодовольнейший из всех утопистов этой паскудной корпорации. Пусть же будет замечен этот факт, пусть послужит он мерилом для сравнения последствий, которые влечет за собой торжество той или другой партии. А если прибавить к этому, что жертвами консервативной анархии являются обыкновенно люди, находящиеся в полном развитии сил, и что, следовательно, исчезновение их непосредственно посекает жатву будущего, то сила и значение этого факта сделается для нас еще более непререкаемою и очевидною.
Допустим, однако ж, что успокоение, которого так добиваются уличные утописты, наконец достигнуто – в чем же может заключаться сущность его? В том ли, что общество действительно придет к обладанию всеми теми материальными и духовными благами, сумма которых составляет то, что обыкновенно называется счастием? В том ли, что, не овладев еще счастием, оно хоть издали увидит мерцание его животворного луча? В том ли, наконец, что оно найдет себе руководящую нить, которая приведет его к выходу из терзающих его колебаний?
Ничего подобного не даст это хваленое успокоение, ибо прежде всего оно не согласно с природой вещей. Достигнет ли человек счастия или не достигнет, все-таки оно впереди, и, следовательно, для того, чтоб достигнуть его, надобно идти к нему, а не отворачиваться от него. Успокоение, в том смысле, как его пропагандируют революционеры-консерваторы – это прекращение жизненного процесса, и ничего больше. Когда жизнь застывает, то люди близорукие или притворяющиеся таковыми уверяют, что все, подлежавшее достижению, достигнуто и больше идти некуда. Но пусть они разуверятся, ибо в действительности не достигнуто ничего, кроме анархии, то есть господства величайшего из насилий (можно ли назвать иначе как насилием факт прекращения естественного течения жизни?), какое только может представить себе человеческий ум.
Обделенный не протестует; униженный не поднимает головы; поставленный вне пределов истории не выказывает поползновенья прорваться за стоящую перед ним преграду. Все это правда, и по наружности кажется весьма успокоительным. Но то неправда, что в этом отсутствии протеста, в этой безгласности имеется какое-нибудь действительное удовлетворение. Обделенный все-таки не перестает быть обделенным, и ежели он не протестует, то или потому, что находится в оцепенении, или потому, что приберегает свой протест до более благоприятного случая.
Когда общество не предъявляет никаких требований, когда в нем не слышится внутренней работы разложения – можно сказать наверное, что это общество, доведенное до отчаяния и упершееся в глухую стену. Девиз такого общества: «не твое дело».
Можно ли придумать руководящее начало более анархическое, более противное человеческой природе?
Ответ на этот вопрос до такой степени не сомнителен, что даже поборники консервативной анархии начинают понимать, что невозможно серьезно убедить человека, что ему нет дела до самого себя. Было время, когда девиз «не твое дело» прилагался везде и в самых широких размерах, когда он регулировал собою всю жизнь; но плоды этой бессмысленной сатурналии даже тогда оказались слишком горькими, так что в настоящее время нет даже идиота, который допускал бы применение этого принципа во всей его чистоте. Тем не менее отвергая девиз в его наготе, консервативная анархия отнюдь не отказалась от его сущности, а только дала ему другую форму, которая вполне сохранила весь его букет. Она разделила жизнь на две независимые друг от друга половины: дозволенную и недозволенную, и в первой заключила мелочи и подробности, то есть все то, что в действительности не дает никакого удовлетворения, во второй – главные основы жизни, то есть все то, что действительно развязывает руки человеку и дает ему возможность сознавать себя человеком. Затем она сочла все требования уже удовлетворенными, в чем и выдала самой себе похвальный аттестат. Когда же ей доказывают, что девиз «не твое дело» все-таки не утратил своего первенствующего значения, она оскорбляется, перечисляет по пальцам все возможные обрывки и в заключение кричит: анархия!
А между тем в этом изобилии мелочей и подробностей именно и заключается анархия. Охваченный со всех сторон свитою миниатюрнейших интересов, человек теряет способность обобщения и принимает за действительное благо то, что в сущности составляет ничтожнейший атом его, не имеющий никакой силы благодаря уединенному положению, в котором он находится. Мелочи и подробности – это, конечно, не прямой и безусловный отказ, но это спекуляция на человеческое легкомыслие, это отказ, сопряженный с изворотом. Подробности сыплются пригоршнями, а жизнь не имеет ни широкого основания, ни великих целей и идеалов… И путается человек среди этого множества подробностей и дается диву, что вот он и то получил, и другое получил, а все ему неудобно, неловко, неспоро, все он не знает, помилует ли его завтрашний день или не помилует…
Неоконченное
<Кто не едал с слезами хлеба…> *
Кто не едал с слезами хлеба,
Кто слез в ночи не проливал,
Стеня на одр не упадал,
Тот
и т. д. *
Так гласит Гёте в плохом переводе г. Струговщикова. * И действительно, для того чтобы понять, до какой степени настоятельны бывают некоторые нужды, необходимо именно пройти через то безвыходное состояние, которое такими горькими чертами описывает немецкий поэт, а ежели не пройти, то, по крайней мере, видеть его, присутствовать при нем. И тогда предстанет перед глазами со всею ясностью та бесспорная истина, что есть нужды особенные; нужды вопиющие, перед которыми должны стушеваться и приникнуть все другие.
Страшно подумать о том убожестве, в котором живет большинство и которому оно, по-видимому, вполне подчинилось. Негодование, которое проникает душу при виде явлений пошлого легковерия, одичалости и отвратительного насильства, непрерывно сочащихся из сердца народных масс, невольно утихает, когда собственными руками прикасаешься к той проказе, которою они заражены, когда собственными легкими вдохнешь в себя струю той затхлой атмосферы, которою они дышат [163]163
Считаю нужным оговориться здесь, что под словом «толпа» я везде разумею собственно так называемую «чернь». ( Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)
[Закрыть]. В человеческом существе есть нечто высшее, нежели сила озлобления и негодования, – в нем есть сила прощения, сила симпатического отношения ко всему, что страждет (причем не сознает даже в миллионной доле всей безвыходности своего положения), ко всему, что живет не живя, то есть не зная светлой стороны жизни, ее радостей, ко всему, что родится на свет уже заранее заклейменное печатью отвержения, заранее обреченное на безвременное увядание. О! если б массы знали весь ужас той нищеты, которая преследует их от колыбели до могилы, если б они понимали, что в жизни есть нечто такое, что зовется радостью, счастьем, и что право на это нечто есть священнейшее и бесспорнейшее из всех прав человека! Они с ужасом отвернулись бы от самих себя, они убедились бы, что все их прошлое было даже не прозябанием, а просто каким-то чудовищно-бессмысленным служением упитыванию разнообразных чужеядных, со всех сторон густою сетью оцепивших их.
Это симпатическое отношение, которого значительную долю чувствует в себе всякий сколько-нибудь развитой человек, совсем не так непосредственно, как это кажется с первого взгляда. Тут действует не одно инстинктивное сострадание, но и анализ – последний даже по преимуществу. Мы не просто говорим: «ах, какое жалкое, бедное положение!», не просто оплакиваем, но прежде всего вглядываемся в это жалкое положение и стараемся дать себе отчет в причинах его. На первый раз оно кажется совершенно непонятным, и толпа уподобляется большому дураку, который вырос с коломенскую версту и успел только в том, что животненные отправления происходят у него, как у взрослого. Как, в самом деле, дойти до такого положения, что при всей очевидности силы, при всем ее обилии, последняя оказывается до того притупленною, до того лишенною всякого содержания, что может быть употреблена только на нелепые шараханья из стороны в сторону? Как снизойти до степени бессмысленного орудия, годного только на то, чтобы давить, давить и давить? Действительно, это очень странно, особливо если возьмем в соображение то выгодное положение, в котором стоит толпа относительно материальных средств. И по мере того, как мы будем углубляться в наши наблюдения, перед нами откроется целый темный мир всякого рода горечей, целая проклятая история непрерывных умственных оглушений. Конечно, все эти общественные неровности, которые ныне поражают нас своею ненормальностью, были в источнике своем до того тонки и незаметны, что даже почти невозможно их проследить, а тем менее указать тот момент, когда они перестали быть добровольными и естественными и образовали собой систему, но ведь это и не нужно совсем для того, чтоб доказать, что в этой системе нет ни справедливости, ни человеколюбия. Нам не нужно знать даже, виноват ли кто в таком положении вещей и почему оно произошло: вследствие ли какой-нибудь проклятой необходимости или просто по случайному капризу судеб. Нам нужно убедиться только в том, что тут действительно была система, что она цепко опутала то, что ей нужно было опутать, и лежит доднесь несмываемым грехом на том, что этому греху совсем не причастно. А для того чтоб убедиться в этом, не требуется ни исторических изысканий, ни особенной наклонности к философствованию; тут требуется только известная доза здравого смысла и доверие к собственным своим глазам.
И тогда, ежели к симпатическому нашему чувству и примешается некоторая доля негодования, то негодование это будет иметь в предмете уже отнюдь не толпу, забитую до бессмыслия, робкую до трусости, а нечто иное – предположим, хоть историю…
Этим-то именно и объясняется, что горькое чувство, которое возбуждают некоторые движения толпы, не только не умаляет наших симпатических отношений к ней, но и не поселяет в нас никакого разлада, ни малейшего противоречия с самим собой. Негодуя на толпу, мы все-таки сознаем себя привязанными к ней совсем не таинственными нитями, а нитями совершенно явственными и несокрушимыми. Мы чувствуем, что в ней заключается не только материал для экспериментов, но и основание нашей собственной силы, что без нее (без толпы), без ее внимания и участия мы хуже, нежели слабы, – до нас никому никакого дела нет. В этой зависимости от толпы, конечно, есть много горечи (в самом деле, не горько ли зависеть от чего-то бессмысленного, не имеющего никакого самосознания?), но так как это факт глухой и неизбежный, то не подчиниться ему нет возможности. Есть что-то фаталистическое в том, что мы все заветные светлые думы наши посвящаем именно этой забитой, малосмысленной, подчас жестокой и ничего не стоящей толпе; что самый генияльный мыслитель-реформатор, которого мысль не может, по-видимому, иметь ничего общего с мыслью толпы, лучшую часть своей деятельности отдает толпе; что толпа обседит нас, что она одна только и может, с законным основанием, назваться «властительницей наших дум» * . Да, тут есть своего рода фатализм, но не в том смысле, в каком обыкновенно клеймят этим словом какое-нибудь положение, которое не умеют или не хотят объяснить, а фатализм, объясняемый тою общечеловеческою основой, которая и составляет соединительное звено между неразвитою толпою и наиболее развитою отдельною человеческою личностью.
История показывает, что те люди, которых мы, не без основания, называем лучшими, всегда с особенною любовью обращались к толпе и что только те политические и общественные акты имели прочность, которые имели в предмете толпу. Это вовсе не значит, что люди эти идентифировались с толпою, что они принимали ее нередко слепые и неразумные инстинкты за руководящий закон, а значит только, что мысль о толпе (человечестве) как о конечной цели всякого разумного и полезного человеческого действия сообщала их деятельности то живое содержание, которого она не имела бы, если б была исключительно обращена к отвлеченной сфере. Тут, в этом служении толпе, имеется даже очень ясный эгоистический расчет; ибо, как бы мы ни были развиты и обеспечены, мы все-таки до тех пор не получим возможности быть нравственно покойными и мирно наслаждаться нашим развитием и обеспеченностью, покуда все, что нас окружает, не придет хотя в некоторое с нами равновесие относительно материального и духовного развития. Человек нуждается в обществе себе подобных вовсе не по капризу или для развлечения, а потому, что природа его по преимуществу общежительная и, следовательно, стоя на недосягаемой для толпы высоте, он тем сильнее почувствует свое одиночество, чем забитее, покорнее и безответнее будет масса, которой чуждается его гордая мысль. И он непременно погиб бы и загрубел в этом жалком уединении, если б, к счастию его, толпа сама на каждом шагу и с достаточною резкостью не напоминала о себе, не указывала на зависимость его положения и таким образом не выводила его из того уединения, на которое он, по нерасчетливости и кичливости своей, обрек себя.
Следовательно, те нужды, которыми страдает толпа, суть нужды общечеловеческие, а потому никто не имеет права не только обходить их, но и не поставить их на первый план. Это нужды кровные, вопиющие, от неудовлетворения которых страдает общечеловеческое развитие, а стало быть, и наше собственное.
Мудрено представить себе, до какой степени горько влияет на жизнь бедного труженика толпы самое ничтожное обстоятельство; но поэтому-то мы и должны понимать, что для этой жизни нет того самодряннейшего факта, который можно было бы назвать ничтожным. Интересы, по-видимому грошовые, будучи взяты в своей совокупности, составляют такую громадную сумму, под бременем которой положительно погибает член так называемого «несуществующего» у нас пролетариата. Да, «пролетариата» нет, но загляните в наши деревни (даже подстоличные), и вы увидите сплошные массы людей, которые не знают употребления мяса и для которых вопрос о соли составляет предмет мучительных дум; вы найдете тысячи бесприютных бобылок, которых весь годовой доход заключается в каких-нибудь пятнадцати – двадцати рублях, с трудом вырабатываемых мотаньем бумаги. А пролетариата нет. Правда, что эти массы предполагаются грубыми и бесчувственными, но ведь по временам и они чувствуют, особливо когда хочется есть. Нам, людям, живущим отдельно от масс, очень трудно представить себе, что такое значит «хотеть есть», ибо если мы чувствуем голод, то немедленно же и удовлетворяем его; но существуют, действительно существуют люди, которые всегда «хотят есть», ибо никогда порядком желанию этому удовлетворить не могут.
Положение человека, как бы фаталистически осужденного не думать ни о чем ином, как о средствах не умереть с голода, не замерзнуть и вообще «не пропасть как собаке», конечно, заслуживает всего нашего внимания. Это те самые первоначальные, вопиющие нужды, при неудовлетворении которых невозможно развитие никаких иных нужд. А в развитии-то этих «иных» нужд вся и сила. Если человек обеспечен по малой мере от необходимости задумываться о предметах первой необходимости, он непременно пойдет далее, он прикует свою мысль к другим предметам и перенесет свои требования в высшую сферу. Ныне он еще думает о хлебе материальном, завтра будет думать о хлебе духовном, но покуда не будет иметь средств обеспечить свободу своего желудка, не предпримет никаких мер к обеспечению свободы своей мысли. Заставить его размышлять об этой последней, привести его к убеждению, что эти две свободы не имеют права существовать, не пополняя друг друга, – вот цель всякой общественной деятельности, сознающей себя разумною.
И опять-таки не о постепенности и не об ненужности идеалов тут идет речь, а о том, чтобы поставить деятельности (той деятельности, которая в данную минуту необходима) реальные границы, о том, чтобы найти исходный пункт, который соответствовал бы насущным нуждам толпы, и из которого можно было бы вести ее далее. Подумайте, милостивые государи! ведь это, право, сюжет недурной, это сюжет, из которого можно выйти к какой угодно высшей цели * …
Представляю я себе человека, которому как следует разъясняется, что не наедаться досыта, зябнуть и не в меру напрягать свои мышцы – вовсе не есть необходимый его удел, что тут вовсе нет никакого предопределения, или, как выражается г-жа Падейкова * , ничего нет «релегеозного»; представляю я себе этого <человека>, и отсюда вижу изумление, даже почти негодование, изображающееся на его лице от подобного разъяснения. Но разъяснение продолжается; за общими положениями следуют указания примеров, сравнения и т. д. (разумеется, еще было бы лучше, если б при этом употреблен был обратный ход мысли, как наиболее вразумительный и гораздо менее пугающий, но, увы! мы и до сих пор не можем еще отстать от вредной привычки начинать с конца, то есть с общих положений!). Черты лица собеседника мало-помалу утрачивают испуганное выражение и принимают выражение разумное… И до тех пор продолжается разъяснение, покуда собеседник не поймет. Представляю я себе человека этого, когда он уже понял.
А он не поймет до тех пор, пока не убедится по малой мере в своем праве на еду, ибо достижение этого последнего права составляет ту танталову муку, которая неотступно преследует его день и ночь и не дает ему мыслить. Пусть только он убедится, что право голодать, право не пользоваться ни благами, ни радостями жизни не заключает в себе ничего неприступного, он сразу его устранит сам, даже без посторонней помощи, и затем пойдет уже отыскивать себе иное право. Но в том-то и дело, что нужно, чтоб он убедился.
– Куда, я теперь денусь! куда я денусь-то! – бормотала на днях некоторая баба, сильно размахивая руками и почти бегом бежа по дороге.
Мужа этой бабы раздавило мельничным колесом, и она бежала из дому на мельницу посмотреть, ка̀к его раздавило. Покойник был человек зажиточный, имел изрядный дом и на миру был известен как человек ревнивый к общественному делу. По смерти его осталась вдова с маленькими детьми; благосостояние, в котором находилась эта семья, в одну минутурушилось. Вдова податей платить не могла, а следовательно, не получала и земли (которую, впрочем, и обработать не имела средств); мир, с своей стороны, на вдовьи слезы смотрел тупо.
– Да, добышник был, царство небесное! – сказал дядя Миняй.
– К хрестьянскому делу радельщик был! – добавил дядя Митяй.
И пошли себе все дяди Митяи по домам, а вдова осталась одна с своими слезами, приготовляясь назавтра же начать изучение той бедственной трудовой науки, которая учит на двадцать рублей в год прокормить себя с детьми и в конце которой (вот сладкие-то плоды!) стоит для сына красная шапка, для дочери, быть может, название деревенской сахарницы, для нее самой – медленная голодная смерть.
Может ли эта баба думать о чем-нибудь? Нет, она не может ни о чем думать, даже о своем собственном положении. Она не имеет времени размыслить, что оно горько и безнадежно, а должна мыслить только о том, что оно неизбежно и что следует смириться перед ним. Она не может даже наплакаться вдоволь над собою, она не может наплакаться над телом своего добышника, да и слезы, которые она прольет при этом, будут слезы не бескорыстные, они будут отравляться мыслью: на кого-то ты меня покинул, как-то завтра я хлеба себе добуду с детьми малыми!
– Что ты теперь будешь делать? – спросил я эту самую бабу.
– А что делать! стану бумагу мотать, а ребяток по миру посылать буду! – отвечала она, и в глазах ее не блеснуло ни злобы, ни негодования, с языка не сорвалось ни одной жалобы на этих дядей Митяев, которые оставляют ее и детей беспомощными, а ежели по временам и погладят по голове старшего сынишку, то с тайной мыслью: славный солдат будет!
Вот истинная истина из жизни полудикой толпы. За эту истину мы, конечно, не имеем никаких резонных оснований относиться к ней с уважением – это правда; но отчего же тем не менее, обдумавши предмет серьезно, мы не поторопимся обвинить ее? Почему представление о толпе, несмотря на всю жестокость ее, дикость и неразвитость, имеет для нас нечто симпатичное и заманчивое? А вот почему.
Все эти Митяи – народ вовсе не злой и даже не испорченный; они равнодушно поглядывают на бобылкино несчастие совсем не по окаменелости сердечной, поглаживают бобылкина сынишку, с мыслью, что из него будет славный солдат, вовсе не по злорадству. Все это они делают потому, что опыт и история доказали им достаточно, что все они равны перед несчастием, что каждый из них имеет одинаковые шансы на всякого рода невзгоду. Следовательно, никакой случай в этом роде не только не удивляет их, но и не останавливает надолго их внимания. Что тут плакаться над чужою бедою, когда завтра та же самая беда может стрястись над ним самим? Да и есть ли еще время плакать? Да и не стряслась ли уже эта беда? Не есть ли она вековечная его сожилица и сопутница, которой и ждать-то совсем лишнее?
Повторяю: вот она, эта истинная истина жизни толпы, и вот где, по моему мнению, стоит настоящий исход для деятельности. Пусть всякий, выходящий на арену, подумает об этом, пусть пристальнее вглядится в толпу, и припомнит, что был немецкий поэт Гёте, который, в плохом переводе г. Струговщикова, сказал:
Кто не едал с слезами хлеба
и т. д.








