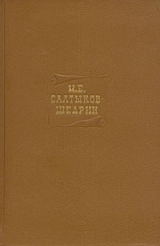
Текст книги "Том 7. Произведения 1863-1871"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 52 страниц)
Первое условие всякой общественности – это возможность свободного обмена мыслей, возможность спора, возражений и даже заблуждений (да̀, и заблуждений, потому что и они имеют свое значение в общей экономии жизненного прогресса). Наличность этих условий важна не только потому, что она сообщает жизни характер совершенствования, но и потому, что вносит в общественные отношения элемент приятности. Однообразие воззрений, особливо ежели оно имеет оттенок вынужденности, создает одноформенность потребностей и стремлений, а затем угрюмость и одичалость; напротив того, разногласие в мнениях, приводя за собой необходимость во взаимной проверке их, служит надежнейшим цементом для скрепления людских отношений. Вот этого-то последнего условия общественности именно и не допускает самодовольная ограниченность, ибо она даже самое слово «тишина» определяет отсутствием каких бы то ни было споров и несогласий. Опираясь на неуспех недавней «борьбы с небом», она, с свойственной всякой азбучности манерой цепляться за одни внешние признаки факта, прямо приписывает его спорам и несогласиям, присущим борьбе. Как можно меньше сомнений, препирательств и экскурсий в области неизвестного и как можно больше сосредоточенности и аккуратности в расчетах по ежедневным затратам – вот девиз торжествующей ограниченности. В согласность этому девизу выработывается целый кодекс низменного свойства аксиом, который нельзя обойти под опасением ввергнуться в бездну и на дне ее встретить классическую гидру * . Этой гидры никто никогда не видал, но она с незапамятных времен служит отличнейшим пугалом. Ни спорить, ни прекословить не допускается, потому что в противном случае или в бездну попадешь, или помешаешь «правильному» прогрессу. Одного добиваться следует – это безусловного прекращения разногласий и сомнений и, что важнее всего, устранения какой бы то ни было погони за неизвестностью. А отсюда единственный практический выход: молчаливое и единомысленное вытаскивание бирюлек.
Не задумывайтесь! ибо задумываться значит сомневаться, значит пытаться что-нибудь провидеть, значит допускать возможность критических отношений. А для попыток этого рода есть отличное слово «мечтательность», в котором, как в пучине, утопает всякий порыв самостоятельности и самодеятельности. «Мечтательность» – это одно из тех не помнящих родства слов, которых значения никто ясно не понимает, но которые всякий охотно употребляет, предполагая, что в нем есть нечто такое, чем можно заклеймить все, что не по нутру. Мечтательность – это проказа, это явление, которое даже ограниченного человека может вывести из состояния самодовольного оцепенения. Оставьте, милостивые государи! Оставьте мечтательность и займитесь делом, то есть вытаскиванием бирюлек и наставкою заплат. И не заглядывайте вперед * , ибо всякое заглядывание подрывает тишину! Спрашивается, однако ж: сопровождаемая подобными оговорками, в какой мере совместна тишина с общественностью, которая осуществляет собой движение?
Но, вычеркнув из наличности наиболее жизненный элемент общественности, ограниченность идет еще далее, то есть вводит в жизнь другой элемент, положительно ей враждебный. Этот другой элемент – испуг. С первого взгляда, можно подумать, что самодовольство и испуг – два понятия, друг друга исключающие; но в действительности эта несовместимость лишь кажущаяся. При известном настроении общества, когда со всех сторон раздаются фразы, лишенные содержания, и в них одних видится спасение от недугов, испуг перестает представлять что-либо реальное, а делается простым предостережением против всякой попытки нарушить тишину.
Люди пугают друг друга не ради того, что над ними висит дамоклов меч, а ради того, чтобы оградить тишину для тишины и укрепить себя и других в намерении не заниматься ничем, кроме вытаскивания бирюлек. «А помните, как вы с небом-то спорить хотели?» Это вопрос, в сущности, пустой и глупый, но при известной настроенности общества его одного достаточно, чтобы заставить всех и каждого как можно плотнее пригнуться к земле. В виду этой угрозы всякий реакционный бред считается уместным и дозволительным. Ограниченные люди, наперерыв друг перед другом, рассказывают анекдоты о глумлениях, попраниях и тому подобных «бесчинствах». Об «авторитете» упоминается как о чем-то поруганном, посрамленном, погубленном. Мудрецы вздыхают, соболезнуют, устрашают друг друга, и – странное дело! – несмотря на пуганья, только добреют да нагуливают себе жиру в борьбе с попраниями и глумлениями. Ясно, что испуг в этом случае совсем не существен, что это только пробный камень, на котором можно не без выгоды испытывать личную способность закаляться в азбучной мудрости. Но ежели занятие такого рода и может для той или другой личности представлять своекорыстный интерес, то все-таки спрашивается: возможна ли общественность под гнетом неумолкающих устрашений?
Ответ на оба поставленные выше вопроса не может быть сомнителен; нет, общество, изгнавшее из своей среды склонность к занятию высшими умственными интересами, общество, с презрением и насмешкою относящееся к так называемым широким вопросам жизни, общество, подчинившееся молчанию и испугу, не имеет права считать себя обладающим благами общественности. Это общество одичалое, живущее наудачу и даже не могущее уяснить себе последствия, к которым неминуемо должна привести его одичалость.
Первое последствие умственной одичалости – это скука. Скука, как общий давящий покров, от гнета которого не освобождаются даже сами проповедники ограниченности.
Что̀ такое скука? – Это отсутствие высших умственных интересов, это запертая дверь в тот безграничный мир умственной спекуляции, в котором каждый новый шаг дает новое открытие или новую комбинацию, в котором даже простое припоминание фактов, уже добытых и известных, представляет наслаждение, благодаря разнообразию этих фактов и их способности соединяться в группы и давать повод для бесконечного множества выводов. Вне этого мира нет прочного и продолжительного наслаждения, так что, какие бы ни придумывались ухищрения к усложнению низших видов наслаждения, с целью заменить ими наслаждения высшей категории, в результате ничего не получится, кроме временного возбуждения, которое не замедлит уступить место пресыщению и скуке.
Второе последствие умственной одичалости – общественное бессилие. Страна, которая всецело посвятила себя обоготворению «тишины», которая отказалась от заблуждений и все внимание устремила на правильность расчетов по ежедневным затратам, может считать свою роль оконченною. Это – страна мудрых. Ей некуда идти, ибо перед ней возвышается глухая стена, на которой начертано: не твое дело. От нее нечего ждать, ибо она все жизненные задачи считает исчерпанными изречением: не твое дело. Ей предстоит только выполнение тех требований обыденности, которые равно обязательны и для человека, и для всякого другого организма. Поэтому, когда ей приходится расплачиваться за свою самоуверенную мудрость, то расплата всегда застает ее врасплох. Все обыватели мудры, но никто ни к чему не приготовлен, никто ничего не знает, ничем не интересуется, ничего не любит. По-видимому, человек всю свою жизнь и все внимание исключительно устремлял на подробности, отдавался им до самозабвения, а на поверку выходит, что он только заблудился в них, ясного же представления даже о мелочах не получил. Подробности перепутались, а общей руководящей мысли, которая помогла бы опознаться в вавилонском столпотворении, нет и в помине. В результате – пустое место.
Третье последствие – неурядица не только внутренняя, но и внешняя. Те глубоко заблуждаются, которые отожествляют тишину с порядком и видят в первой обеспечение последнего. Та тишина, которую проповедует самодовольная ограниченность, есть тишина насильственная, чаще всего прикрывающая раздоры самого вредного свойства. Ограниченные люди точно так же способны раскалываться и препираться друг с другом, как и люди развитые, с тою лишь разницей, что препирательства азбучных мудрецов не идут дальше вопросов о выеденном яйце. Но низменность содержания не только не смягчает раздражения, но даже усиливает его назойливость. Нигде не встречается такого ожесточения, столько зависти, интриг, как в среде ограниченных людей, для которых все сводится к личным целям, для которых до такой степени не существует высших интересов, что им нечему жертвовать, хотя бы они и имели случайную наклонность к пожертвованиям. Поэтому в обществе, живущем под игом тишины для тишины, даже подробности жизни всегда разрешаются согласно с такими случайными настроениями, которых ни предвидеть, ни предугадать нельзя, а это в свою очередь кладет на всю жизненную обстановку печать необеспеченности и неуверенности. Кажется, что̀ может быть общераспространеннее правила «всякий сверчок знай свой шесток», а между тем попробуйте пожить, имея в запасе только один этот руководящий афоризм, и вы убедитесь, что каждая минута представит вам бесчисленное множество самых разнообразных ловушек. Во-первых, нет точного определения, в чем заключаются права и обязанности человека-сверчка, а потому всякий мнит себя сверчком особенным, а иной даже и сверчком-орлом. Во-вторых, такою же неопределенностью страдает и понятие о «шестке», так что всегда есть опасность впасть в ошибку и неумышленно занять шесток рангом повыше. А отсюда – вечное и безобразное препирательство, возникающее каждый раз, как только заходит речь об обращении сверчка к его натуральному шестку,
Наконец, четвертое последствие – распущенность нравов, этот достойный плод скуки и необходимости уразнообразить жизнь, лишенную действительных элементов разнообразия. Зрелища, возбуждающие чувственность, литература, проповедующая низменность и пошлость, искусство, чуждающееся мысли и преследующее ее презрением и насмешкою, – вот пища, которою удовлетворяется общество, примирившееся с идеалами аккуратности и умеренности. И напрасны будут усилия людей, предостерегающих подобное общество от увлечений чувственностью и пошлостью, ибо увлечения эти суть органический придаток всего жизненного строя, и общество, отдавшее свои интересы под охрану азбучной ограниченности, неспособно иметь иных наслаждений, кроме наслаждений самого низменного свойства.
Таковы результаты господства самодовольной ограниченности. Быть может, здесь далеко не все исчерпано, что можно было бы сказать об этом предмете, но и того, что сказано, достаточно, чтобы уразуметь, что влияние ограниченности не заключает в себе ничего плодотворного.
Сила событий *
Что̀ такое «патриотизм»?
До последнего времени [30]30
Писано в 1870 году, вслед за развязкою французско-прусской войны ( Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)
[Закрыть]очень немногие задавали себе этот вопрос: до такой степени он казался ясным и бесспорным. Большинство понимало под словом «патриотизм» что-то врожденное, почти обязательное. Начальство, соглашаясь с этим определением, прибавляло, что наилучшее выражение патриотизма заключается в беспрекословном исполнении начальственных предписаний.
Определение большинства имеет тот порок, что ничего не определяет и, следовательно, оставляет вопрос открытым. Эгс все равно как если бы кто сказал, что патриотизм есть любовь к отечеству, – какую пользу можно вынести из такого объяснения? Второе, начальственное определение несколько яснее, но имеет другой недостаток, а именно: исключает из области патриотизма целую категорию лиц, известных под общим наименованием «начальства». Не получая ни от кого предписаний, на чем же оно может упражнять свой патриотизм?
Исследователи более смелые шли несколько далее и объясняли обязательность патриотизма тем, что нигде человек не может так успешно достигать своих целей и вообще проявлять свою личность, как в той среде, которая знакома ему со всем ее добрым и злым материалом. Но и это толкование нимало не специализирует рассматриваемого явления, потому чте удобствами, доставляемыми знанием среды, можно объяснить не только патриотизм, но и другие инстинкты несомненно дурного свойства. И карманному вору удобнее проявлять свою личность в среде знакомой и исследованной, однако едва ли кто-нибудь решится утверждать, что инстинкт воровства есть инстинкт врожденный, невольный и обязательный.
Кажется, что вся эта путаница произошла оттого, что для объяснения некоторых жизненных явлений мы слишком бесцеремонно пользуемся такими определениями, которые сами требуют ближайших определений. Необходимы были такие тяжкие искушения опыта, какие доставили последние события военного и политического мира (война Германии с Францией), чтоб нанести окончательный удар бессодержательности фразы и навсегда очистить сущность интересующего нас явления от сети лицемерия и хвастовства, которые опутывали его.
Первый вопрос, который разъясняют последние события, – это вопрос об отношении к идее патриотизма бесчисленных паразитов, наполняющих мир. Могут ли, например, именоваться патриотами подрядчики, поставляющие вместо ружей шасспо простые ударные, или кремневые, или, наконец, такие кремневые, у которых вместо кремня фигурирует разрисованная на манер кремня чурка * , а также градоначальники и военачальники, поощряющие такие поставки? Могут ли именоваться патриотами проходимцы вроде папских швейцарцев, или тюркосов, или гулящих немцев * , охотно внедряющихся всюду, где имеется мясистая поверхность, защищенная шерстью и волосами? Могут ли именоваться патриотами всякие другие паразиты, хотя бы и высшей школы?
Все эти вопросы на первый взгляд кажутся праздными, но если вглядеться в дело пристальнее, то выйдет, что разрешение их составляет потребность далеко не призрачную. Почти на каждом шагу приходится выслушивать суждения вроде следующих: «правда, что N ограбил казну, но зато какой патриот!» или: «правда, что N пустил по миру множество людей, но зато какой христианин!» – и суждения эти не только не убивают нашу совесть, но даже не удивляют нас. Стало быть, несовместимость таких явлений, как казнокрадство и патриотизм, вовсе не настолько ясна, чтобы можно было считать поставленные выше вопросы окончательно упраздненными.
Причина сближений столь странных и неожиданных бесспорно заключается в общей путанице наших обыденных воззрений на жизнь. Благодаря обилию фантастических элементов, переполняющих наше воспитание, жизнь с детства кажется нам разделенною на две половины, из которых в одной складываются интересы высшего порядка, в другой – интересы порядка низшего. Связи между этими двумя половинами не полагается, а следовательно, не может быть речи и о взаимном питании. Если низшие интересы представляют сброд неосмысленных мелочей, очутившихся рядом без всякого порядка, то интересы высшие представляют совершенно призрачный мир, доступный всевозможным толкованиям и перестановкам. Пользуясь этой разрозненностью, человек может свободно переходить из одной половины в другую и, не возбуждая ни в ком удивления, уравновешивать самые гнусные поступки высокопарными и бессодержательными фразами. Заведомый шулер может утверждать, что человек без добродетели – все равно что тело без души; заведомый прелюбодей может удостоверять, что человек, не соблюдающий семейной чистоты, – все равно что пламя, горящее тусклым и негреющим светом; заведомый казнокрад может объясняться в любви к отечеству.
Сомнения относительно правильности такого воззрения на жизнь возникли давно, но, к сожалению, возникли лишь путем умозрительным. Большинство редко убеждается умозрительными доводами и требует доказательств осязаемых, вещественных. Вот это-то вещественное доказательство и дано ныне, и притом дано в таких обстоятельствах, что не осталось ни одной утаенной подробности, ни одного невыясненного эпизода. Если б обязанность представления вещественных доказательств выпала на долю стране, играющей в цивилизованном мире роль скромной фиалки, очень может быть, что истина или, по крайней мере, большая ее часть осталась бы под спудом. Но в настоящем случае пропагандистом является самый нахальный народ в мире, до того нахальный, что считает свои давние заслуги перед человечеством настолько существенными, что перед ними бледнеют даже те язвы, которые наложило двадцатилетнее недоразумение * , сделавшее его добычею проходимцев.
Бедная Франция! и на этот раз ты являешься искупительною жертвою! Тебя, на которую мир смотрел как на пламя, согревавшее историю человечества, – тебя в настоящую минуту каждый мекленбург-стрелицкий обыватель, не обинуясь, называет собранием «думкопфов»! * И благо ему, этому скромному мекленбург-стрелицкому обывателю. Он получил от тебя все, что ему было нужно. В конце XVIII столетия ты дала ему позыв к свободе; в 1848 году ты дала ему позыв к осуществлению идеи о «великом отечестве» * . Но и за всем тем ты все-таки виновата. Ты виновата тем, что не сумела создать «порядка»; тем, что твои почты и железнодорожные поезды * лишены правильности отчетливого механизма; тем, что ты не выдумала ретур-билетов; тем, что ты даже по части почтовых марок оказалась недостаточно твердою. * Все это выдумали, устроили, создали зигмарингенцы, гессенцы и мекленбуржцы, и они, ни за что̀ в свете, не простят тебе этого пропуска. Покуда ты выдумывала свободу и на свой страх выводила жизнь на почву общественных вопросов, мекленбуржец, не имея надобности изобретать изобретенное, предпочитал «некоторую узость взглядов ширине их». Под защитою твоих политических и социальных конвульсий он втихомолку выработывал вопрос, гораздо более близкий его пониманию, а именно – вопрос об отношении проходимства и жульничества к патриотизму, и, надо сказать правду, выработал его (в обычном, родственном ему среднем уровне) довольно удовлетворительно. Теперь он уверен, что письмо его дойдет по назначению, что каждый чиновник его бесчисленных почтовых контор в совершенстве знает географию и не зашлет в Кронштадт письма, адресованного в Капштат * , что для неукоснительного избиения думкопфов ему дадут настоящее игольчатое ружье, а не подобие его, и что реквизиция на земле думкопфов будет производиться неуклонно, по строго обдуманному плану, а не как-нибудь без системы: сперва в зубы, а потом рюмка водки на мировую.
Да̀, ты виновата. Занявшись преследованием мировых задач, ты забыла, что существуют миллионы домашних подробностей, устройство которых обеспечивает жизнь от неожиданностей. Мекленбуржцы, гессенцы, гогенцоллернцы поняли это лучше тебя, хотя, с другой стороны, быть может, они недостаточно уразумели, что в некоторых случаях даже самое лучшее устройство подробностей, без гарантии выработанных тобою общих идей, все-таки не больше как здание, выстроенное на песке. Твоя свобода бессодержательна – это так; твои социальные движения несостоятельны – и в этом нельзя сомневаться, ибо весь Липпе-Детмольд поголовно провозглашает эту истину; но не существуй их, не держи они мир в некотором напряжении, какой гессенец поручится, что не придут проходимцы и не перестроят все по-старому? Проходимцы чутки и внимательно подстерегают случаи, дающие возможность что̀-нибудь стянуть. Прежде всего они стянут бессодержательную свободу, а потом созовут всех гессенцев, шаумбургцев и зиг-марингенцев и при громе пушек скажут им: нет вам ни почт, ни почтальонов, ни почтовых марок, нет ни ретур-билетов, ни игольчатых ружей, ни нарезных пушек; нет вам литературы, кроме «Wacht am Rhein» * ! Живите как бог даст и изнемогайте без литературы, без политики, без писем от родных, как изнемогают обыватели какого-нибудь Боброва * или Острогожска!
Все это дело очень возможное (увы! многое возможно, что с первого взгляда кажется даже фантастическим), а стало быть, те, которые так охотно «предпочитают некоторую узость взглядов ширине их», едва ли вполне правы в своих предпочтениях. Они забывают, что ширина взглядов, в большинстве случаев, защищает подробности, достигаемые узостью их. И притом, ка̀к определить эту «некоторую» узость, как отличить ее от не «некоторой»? Где кончается граница узости, которой можно с грехом пополам присвоить название разумной, и где начинается граница той узости, которой ни на каком языке нет другого названия, кроме пошлости, ограниченности, тупоумия! Это наклонность до того покатая, что, кажется, было бы всего благоразумнее, если бы каждому индивидууму и каждому народу предоставлено было оставаться тем, чем он есть. Глупый да пребудет глупым, дальнозоркий и проницательный пусть остается дальнозорким и проницательным. Не примерами, вроде синицы, собирающейся зажечь море, следует встречать политическую и общественную самоотверженность, а сознанием, что без этой самоотверженности история, быть может, остановила бы свое движение.
И представьте себе, читатель: несмотря на то что честь разработки вопроса об отношениях мелкого жульничества к патриотизму принадлежит шаумбургцам и детмольдцам, все-таки сдается, что популяризация и утверждение даже этой простой идеи будет принадлежать не им, а все тем же «дум-копфам», над которыми весь Саксен-Мейнинген в настоящее время во все горло хохочет. Мейнингенец до того скромен, что даже крошечную идею выработывает исключительно для собственного употребления. Напротив того, «думкопф» нахален (недаром немецкие публицисты так настойчиво упоминают о галльском петухе * ) и, в качестве наглеца, даже великие идеи бросает на съедение нищих духом: пускай, дескать, и они, под сению этих идей, насладятся хорошими почтмейстерами и познают употребление почтовых марок. Что̀ же ему будет стоить поделиться с миром такою маленькою идейкой, как несовместимость карманных воров с патриотизмом? Конечно, ровно ничего, и мекленбуржцы могут оставаться на этот счет совершенно спокойны: при содействии галльского петуха эта идейка не только не замрет среди их, но получит еще большее развитие, благодаря элементу сознательности, который проникнет в нее. Галльский петух сумеет поставить принцип на принадлежащую ему высоту, сумеет выставить паразитство к позорному столбу, сумеет наконец указать подлинные пределы паразитства, не ограничиваясь одним сословием коллежских регистраторов, и разоблачить даже те его признаки, которые может наметить лишь зоркий и вполне опытный глаз. Вот тогда-то поймут зигмарингенцы, что паразитами называются не только те, кои не доставляют писем по адресу или засылают их в Кяхту вместо Вятки, но и те, которые скрадывают в свою пользу политическую и общественную свободу под предлогом ее бессодержательности, и те, которые все обещают в минуту опасности и все отбирают в момент торжества.
Все это так; все это, наверное, так и сбудется. Наступит минута, когда мейнингенцы, даже на поприще ретур-билетов, не будут считать себя передовою нацией относительно Франции. Но каким образом могло случиться, что Франция, по инициативе которой, на наших глазах, произошло возрождение целой Европы, пропустила между рук такой простой, но вместе с тем и необходимый вопрос, как вопрос о недопуще нии паразитов к участию в управлении почт и телеграфов? Каким образом сталось, что проходимцы самые несомненные, общеизвестные и всесветные целое двадцатилетие стояли во главе ее?
Кажется, это произошло оттого, что всякое проходимство является на сцену не иначе как в блеске, свойственном бесстыжеству. Бесстыжество отуманивает; оно на весь мир смотрит в упор и при этом лжет, хвастает, обманывает в глаза. При виде этой беззаветной наглости мнится, что за нею стоит что̀-то несокрушимое, что у нее есть какая-то роль в истории. Но, кроме того, бесстыжество обладает еще одним качеством: где бы оно ни появилось, около него сейчас же группируется плотная масса негодяев. Все праздное, буйное, все обуреваемое страстью легкой наживы, живущее хищничеством и набегами, – все с непреодолимою силой влечется к бесстыжеству, устроивается под сению его и в свою очередь образует оплот. На глазах у всех формируется бесшабашное скопище, и формируется тем легче, что ему не нужно никаких пособий, кроме навыка и быстроты. Быстрота, оказывающая гибельное влияние во всех других человеческих предприятиях, составляет единственный операционный базис в делах жульничества. Замыслите облагодетельствовать человечество – вы в самой вашей совести встретите тысячи преткновений. Она представит целые тьмы сомнений, заставит шаг за шагом следить за вашим предприятием, обдумывать каждую подробность, обеспечивать от возможности ошибок. Задумайте ограбить, зарезать, перервать горло – нет ничего легче. Будьте лишь настолько быстры в действиях, чтобы предупредить возможность сопротивления со стороны облюбованной жертвы. Застать врасплох, удивить неожиданностью – вот что̀ требуется. Покуда человек протирает глаза, можно переменить всю его обстановку и даже его самого поставить вверх ногами. А этого-то результата только и домогается бесстыжество.
Галльский петух не один раз пытался оградить себя от подобных сюрпризов, не один раз смотрел бесстыжеству в глаза, но решительного успеха все-таки не имел. Безусловно ли он виновен в этой неуспешности, или же есть для его вины какое-нибудь оправдание? – на это все детмольдцы в один голос отвечают: да̀, виновен, и не хотят даже прибавить: но по обстоятельствам заслуживает снисхождения. За что̀, однако ж, такой строгий приговор? за то ли, что галльский петух недостаточно рисковал своими судьбами, недостаточно предстательствовал перед небом за них, детмольдцев? за то ли, что он подарил зигмарингенцам только ту долю свободы, которая достаточна для изобретения почтовых марок, но недостаточна для того, чтоб обладающие ею сознавали себя вполне людьми? – нет, не за это сердит мейнингенец. Он сердит за то, что галльский петух все еще не может сказать «довольно», тогда как все шаумбургцы и нассаусцы давным-давно опочили от трудов и сколачивают копейка по копейке свое благополучие. «Посмотрите, – говорит мейнингенец, – какие эти пошлые думкопфы! десятки лет волнуются, шумят и гремят на весь мир, а следующие десятки лет выносят постыднейшее иго из всех иг!» * И забывает притом, что и он сам, и вся Европа трепетали при одном напоминании об этом иге, хотя ни на него, ни на Европу не могли непосредственно действовать ни кастеты, ни сорти-де-баль * наполеоновских городовых.
Как бы то ни было, но несомненно, что идея о несовместимости паразитства и патриотизма, благодаря французской популяризации, в самом ближайшем времени найдет себе место в ряду афоризмов, наиболее усвоенных общественною совестью. Как скоро Франция убедится – убедится и мир.
Но все-таки сдается, что Франция убедится по-своему, а не на манер гогенцоллернских обывателей. Несмотря на горечь постигшего ее бедствия (есть ли бедствие горше того, как чувствовать себя раздавленным пятою лихтенштейнца?), она не сумеет «предпочесть некоторую узость взглядов ширине их». Это ее органический порок, порок очень капитальный, но которому она фаталистически должна подчиниться.
В последние двадцать лет французы действовали совершенно по-мекленбургски. Они были уверены, что спокойствие их обеспечено, и, кажется, имели даже больше оснований, нежели, например, ганноверцы или франкфуртцы, думать, что никто не потревожит их. Хотя почты их действовали не так исправно, как по ту сторону Рейна, тем не менее так как они не были лишены права жалобы на неисправность почтальонов, то право это до известной степени смягчало горечь негодующих сердец. Конечно, они знали, что некоторым из их граждан было не без неприятностей, но их заверили, что неприятности эти, в форме административных ссылок в Ламбессу и Кайенну * , касаются только людей беспокойных, то есть тех самых, которые страдали «шириною идей». «Будьте гессенцами, – твердили им на каждом шагу, – и вы убедитесь, что все пойдет как по маслу!» И они вняли уверениям и сделались гессенцами. И вот, в ту самую минуту, когда они чуть-чуть не изобрели каких-то совершенно неотразимых почтовых марок, вдруг грянул гром. Оказалось, что эти призывы к мекленбургскому спокойствию исходили из стана паразитов, для которых затишье было необходимо, чтоб под сенью общего безмолвия упитывать свои тела. Оказалось, что эти паразиты были не только хищниками, но и глупыми людьми, которых способно было застать врасплох всякое обстоятельство, не имеющее ближайшего отношения к процессу питания.
А ведь и они, конечно, не пропускали случая, чтоб называть себя патриотами, и они до надсады кричали: «Vive la France!» [31]31
Да здравствует Франция!
[Закрыть]– и в то же время систематически ослабляли Францию, обезоруживали ее и делали неспособной для какой бы то ни было защиты. И вот теперь, в минуту расчета, оказывается, что они были не патриотами, а только паразитами, и что идея, согревающая патриотизм, и идея, дающая жизнь паразитству, совершенно различны и нисколько друг на друга не похожи.
Идея, согревающая патриотизм – это идея общего блага. Какими бы тесными пределами мы ни ограничивали действие этой идеи (хотя бы даже пространством княжества Монако), все-таки это единственное звено, которое приобщает нас к известной среде и заставляет нас радоваться такими радостями и страдать такими страданиями, которые во многих случаях могут затрогивать нас лишь самым отдаленным образом. Воспитательное значение патриотизма громадно: это школа, в которой человек развивается к воспринятию идеи о человечестве.
Напротив того, идея, согревающая паразитство, есть идея, вращающаяся исключительно около несытого брюха. Паразит настолько подавлен инстинктами личного эгоизма, что не может сознавать себя в связи ни с какою средою, ни с каким преданием, ни с каким порядком явлений. Хотя же и случается, что он предпочитает одну территорию другой и начинает называть ее отечеством, но это не отечество, а только оседлость. Воспитательное значение паразитства громадно: в этой школе вор мелкий развивается в вора всесветного.
До сих пор произвольное деление жизни на две половины мешало сознавать это различие, но практика взяла на себя труд обозначить его с определительностью почти осязательною. Отныне нет больше сомнений. Нельзя быть паразитом и патриотом ни в одно и то же время, ни по очереди, то есть сегодня патриотом, а завтра проходимцем. Всякий должен оставаться на своем месте, при исполнении своих обязанностей.
Другой вопрос, разрешением которого угрожает разыгрывающаяся под стенами Парижа драма, – это вопрос об отношении к идее патриотизма людей необразованных и неразвитых.
Доселе существовало мнение, что, чем менее развит человек, тем больше он способен быть патриотом. Каждый начальник, хотя бы и лыком шитый, неизменно выражался так:
– Не люблю я этих умников, которые на бобах разводят, а дела не делают!








