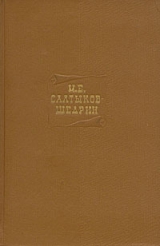
Текст книги "Том 15. Книга 1. Современная идиллия"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 31 страниц)
XXIII *
Кашин – уездный город Тверской губернии; имеет, по календарю, до семи с половиной тысяч жителей и лежит на реке Кашинке, которая скромно катит среди города свои волны в зеленых берегах. Некогда Кашин был стольным городом и соперничал с Тверью, но ныне даже с Бежецком соперничать не дерзает. Некогда в реке Кашинке водились пискари, а ныне остались только лягушки и головастики. Что Кашин в свое время принадлежал к числу цветущих русских муниципий – об этом и доныне свидетельствует великое множество церквей, из которых некоторые считают не более трех-четырех домов в приходе, но и за всем тем могут существовать, благодаря прежде сделанным щедрым вкладам. Я сам хорошо помню, как в тридцатых и даже сороковых годах помещики не только Кашинского, но и смежных уездов ездили в Кашин веселиться и запасались там бакалеей и модным товаром. И помещики кашинские были веселые, и усадьбы у них веселые, и гости к ним приезжали веселые; но весело ли жилось в этих веселых местах рабам – об этом сказать не умею. У меня было в Кашинском уезде несколько кузин, и я, будучи ребенком, жадно слушал их рассказы о том, какая в Кашине бесподобная икра, какие беседки [30]30
Печенье из теста, сдобного или кислого, смотря по вкусу. Имело форму фасада открытой садовой беседки (вроде большой кибитки, кругом заплетенной акациями) и состояло из множества тонких хлебных палочек. Украшалось, по желанию, сусальным золотом, изюмом и миндалинами.
[Закрыть], витушки [31]31
Такое же печенье; форма продолговатая, имеющая вид заплетенной косы. ( Прим. M. E. Салтыкова-Щедрина.)
[Закрыть]и ка́к весело живут тамошние помещики, переезжая всем домом от одного к другому; днем едят, лакомятся вареньем и пастилою, играют в фанты, в жмурки, в сижу-посижу и танцуют кадрили и экосезы, а ночью гости, за недостатком отдельных комнат, спят вповалку. Мне казалось, что Кашин есть нечто вроде светлого помещичьего рая, и я горько роптал на провидение, уродившее меня не в Кашине, а в глухой калязинской Мещере, где помещики вповалку не спали, в сижу-посижу не играли, экосезов не танцевали, а жили угрюмо, снедаемые клопами и завистью к счастливым кашинцам [32]32
Я еще застал веселую помещичью жизнь и помню ее довольно живо. В Кашине я, впрочем, не бывал, но и в нашем, сравнительно угрюмом, Калязинском уезде прорывались веселые центры, напр., на Хотче и, в особенности, в селе Воскресенском, где жило до семи помещичьих семей, которые, несмотря на скудные средства, ничем другим не занимались, кроме хлебосольства. Когда-нибудь я надеюсь возобновить в своей памяти подробности этой недавней старины, * которая исчезла на наших глазах, не оставив по себе никакогоследа. ( Прим. M. E. Салтыкова-Щедрина.)
[Закрыть].
В настоящее время Кашин представляет собой выморочный город, еще более унылый, нежели Корчева. Ибо Корчева и прежде не отличалась щеголеватостью – в ней только убоиной пахло, – а в Кашине пахло бакалеей, бонбоном и женскими атурами. Так что к нынешнему корчевскому запустению в современном Кашине присовокупляется еще паутина времен, которая, как известно, распространяет от себя острый запах затхлости, свойственной упраздненному зданию.
На постоялом дворе мы узнали, что жид, которого мы разыскиваем, живет в богатой княжеской усадьбе, верстах в десяти от города, и управляет приписанным к этой усадьбе имением. Или, в сущности, не управляет, а арендует его, сводит лес, донимает мужичков штрафами и понемногу распродает мебель, скот и движимость вообще. Окреститься он затеял в видах приобретения прав оседлости, а наставляет и утверждает его в вере изверженный за пьянство из сана древний дьякон, который, по старости, мух не ловит, но водку пить еще может.
Мы решили ехать туда на другой день, а в ожидании предприняли подробный осмотр кашинских достопримечательностей.
Разумеется, прежде всего нас заинтересовало кашинское виноделие. С давних пор оно составляло предмет миллионных оборотов, послужило основанием для миллионных состояний и питало помещичий патриотизм во всей восточной полосе Тверской губернии. Я помню время, когда вся калязинская Мещера самонадеянно восклицала: ничего нам от иностранцев не надо! каретники у нас – свои, столяры – свои, повара – свои, говядина, рыба, дичина, овощ – все свое! вина виноградного не было – и то теперь в Кашине научились делать! Только об науках своихМещера не упоминала, потому что при крепостном праве и без наук хорошо жилось.
И пила Мещера рублевые (на ассигнации) кашинские хереса, пила и похваливала. Сначала с этих хересов тошнило, но потом привычка и патриотизм делали свое дело.
Ныне кашинское виноделие слегка пошатнулось, вероятно, впрочем, только временно. Во-первых, сошли со сцены коренные основатели и заправители этого дела, а во-вторых, явилась ему сильная конкуренция в Ярославле. Однако ж и доныне кашинскому вину доверяют больше, чем ярославскому, а кашинские рейнвейны, особливо ежели с золотыми ярлыками, и теперь служат украшением так называемых губернаторских обедов.
Оказалось, что никаких виноградников в Кашине нет, а виноделие производится в принадлежащих виноделам подвалах и погребах. Процесс выделки изумительно простой. В основание каждого сорта вина берется подлинная бочка из-под подлинного вина. В эту подлинную бочку наливаются, в определенной пропорции, астраханский чихирь и вода. Подходящую воду доставляет река Кашинка, но в последнее время дознано, что река Которосль (в Ярославле) тоже в изобилии обладает хересными и лафитными свойствами. Когда разбавленный чихирь провоняет от бочки надлежащим запахом, тогда приступают к сдабриванию его. На бочку вливается ведро спирта, и затем, смотря по свойству выделываемого вина: на мадеру – столько-то патоки, на малагу – дегтя, на рейнвейн – сахарного свинца и т. д. Эту смесь мешают до тех пор, пока она не сделается однородною, и потом закупоривают. Когда вино отстоится, приходит хозяин или главный приказчик и сортирует. Плюнет один раз – выйдет просто мадера (цена 40 к.); плюнет два раза – выйдет цвеймадера (цена от 40 коп. до рубля); плюнет три раза – выйдет дреймадера (цена от 1 р. 50 к. и выше, ежели, например, мадера столетняя). Точно так же малага: просто малага, малага vieux и малага très vieux, или рейнвейны: Liebfrauenmilch, Hochheimer и Johannisberger. Но ежели при этом случайно плюнет высокопоставленное лицо, то выйдет Cabinet-Auslass, * то есть лучше не надо. Таковы кашинские вина [33]33
Разумеется, я описываю процесс выделки кашинского вина на основании устных рассказов, за достоверность которых ручаться не могу. За одно ручаюсь: виноградников ни в Кашине, ни в Ярославле нет, а между тем виноградное вино выделывается во множестве и самых разнообразных сортов. ( Прим. M. E. Салтыкова-Щедрина.)
[Закрыть].
Когда вино поспело, его разливают в бутылки, на которые наклеивают ярлыки и прежде всего поят им членов врачебной управы. И когда последние засвидетельствуют, что лучше ничего не пивали, тогда * вся заготовка сплавляется на нижегородскую ярмарку и оттуда нарасхват разбирается для всей России. Пьют исправники, пьют мировые судьи, пьют помещики, пьют купцы, и никто не знает, чье «сдабриванье» он пьет.
Разумеется, приказчики и нам любезно предложили пробу. Некоторые из нас выпили и не могли вместить, но «корреспондент» и Очищенный попросили по другой, сказавши: было бы мокро да в горле першило! И им не только не отказали в повторении, но отпустили по бутылке высших сортов на дорогу.
Соображения высшего экономического и политического порядка так и лезли в голову по этому поводу. Начались дебаты, в которых приняли живое участие и приказчики. Экономическая точка зрения была совершенно ясна. Во-первых, вытесняя с внутренних рынков дорогой иностранный товар и заменяя его однородным собственного производства (и притом не стоящим выеденного яйца), кашинские виноделы тем самым увеличивают производительную силу страны. Во-вторых, те же виноделы, давая приличный заработок нуждающимся в нем, тем самым распространяют в стране довольство и преподают средства для безбедного существования многим семьям, которые без этого подспорья были бы вынуждены прибегнуть к зазорным ремеслам. И в-третьих, наконец, устраняя из обращения иностранный продукт, виноделы сохраняют внутри государства целый ворох ассигнаций, которые, будучи водворены в их карманах, дадут возможность повернуть «торговый баланец» в пользу России.
Принимая во внимание все вышеизложенное, приказчики единогласно полагали: ввоз иностранных вин в Россию воспретить навсегда. О чем и послать телеграммы в московский Охотный ряд для повсеместного опубликования.
– Постойте! – остановил я их, – но как же вы с таможенным доходом устроитесь? Известно вам, что иностранное вино оплачивается золотыми пошлинами…
– А таможенный доход – это само по себе, – ответили они без затруднения. – Как это можно, чтобы таможенный доход не поступал… да это спаси бог! Таможенный доход, позвольте вам доложить, завсегда должен полностью поступить. Мы это даже оченно хорошо понимаем.
И тут же, в живых и наглядных образах, доказали свое понимание.
– Вот извольте, вашескородие, смотреть. В сем месте, скажем примерно, скрозь дыра – значит, и вода в ём не держится. А в сем месте – грунт; значит, и вода в ём завсегда есть. Так точно и в эфтом деле: в одном месте вода скрозь течет, а в другом – накапливается.
– Но ежели везде дыра?
– Ах, вашескородие! разве это возможно! Разумеется, я успокоился, и таким образом фискально-финансовое затруднение было без хлопот устранено.
Политическая точка зрения была еще яснее. Прежде всего кашинское виноделие развязывает руки русской дипломатии. Покуда его не существовало, на решения дипломатов могли оказывать давление такие вопросы: а что, ежели француз не даст нам лафитов, немец – рейнвейнов, испанец – хересов и мадер? Что будем мы пить? Чем гостей потчевать? А теперь эти вопросы падают сами собой: все у нас свое – и лафиты, и рейнвейны, и хереса. Да еще лучше, потому что «ихнее» вино – вредительное, а наше – пользительное. Съел лишнее, выпил ли – с «ихнего» вина голова болит, а с кашинского – только с души тянет. Дайте только ход кашинским винам, а там уж дело само собой на чистоту пойдет. Сгрубил немец, зазнался – не надо нам твоих рейнвейнов, жри сам! – а отвечай прямо: какая тому причина?
Но, главным образом, кашинскому виноделию предстоит содействовать разъяснению восточного вопроса. Что нынче в Средней Азии пьют? – всё иностранное вино, да всё дорогое. Перепьются да с нами же в драку лезут. А дайте-ка кашинским винам настоящий ход – да мы и в Афганистан, и в Белуджистан, и в Кабул проникнем, всех своими мадерами зальем!
– Потому что наше вино сурьезное, – в один голос говорили приказчики, – да и обойдется дешевле, потому что мы его на всяком месте сделать можем. Агличин, примерно, за свою бутылку рубль просит, а мы полтинник возьмем; он семь гривен, а мы – сорок копеечек. Мы, сударь, лучше у себя дома лишних десять копеечек накинем, нежели против агличина сплоховать! Сунься-ко он в ту пору с своей малагой – мы ему нос-то утрем! Задаром товар отдадим, а уж своих не сконфузим!
Затем тон собеседования, повышаясь все больше и больше, получил такую патриотическую окраску, в которой утопали и экономические, и политические соображения.
– Да мы, вашескородие, от себя целый полк снарядим! – в энтузиазме восклицал главный приказчик. – За сербов ли, за болгар ли – только шепни Максиму Липатычу: Максим, мол, Липатыч! сдействуй! – сейчас, в одну минуту… ребята, вперед!
– Уж и то, ничего не видя, сколько от Максим Липатыча здешнему городу благодеяниев вышло! – как эхо отозвался другой приказчик. – У Максима Исповедника кто новую колокольню взбодрил? К Федору Стратилату кто новый колокол пожертвовал? Звон-то один… А сколько паникадилов, свещей, лампад, ежели счесть!
– Кажное воскресенье у кажной церкви молодец с мешком медных денег стоит, нищую братию оделяет! – свидетельствовал третий приказчик.
– И что за причина, вашескородие! – удивлялись прочие приказчики, – все будто бы прочие народы и выдумки всякие выдумывать могут, и с своим делом управляться могут, – одни будто бы русские ни в тех, ни в cexl Да мы, вашескородие, коли ежели нас допустить – всех произойдем! Сейчас умереть, коли не произойдем!
Одним словом, ежели с кашинской мадеры, как в том сознались сами приказчики, с души тянет, зато кашинский подъем чувств оказался безусловно доброкачественным и достойным похвалы. Только вот зачем приказчики прибавили: коли ежели допустить? Кто же не допускает? Кажется, что у нас насчет рейнвейнов свободно…
– Послушай! ведь у нас насчет хересов и мадер свободно? – обратился я к Глумову, когда мы покончили осмотр виноделия, – как ты полагаешь?
– Разумеется, свободно.
– Почему же кашинские виноделы до сих пор не проникли ни в Афганистан, ни в Белуджистан, а всё какого-то «полного хода» своему вину ждут?
– Да потому, вероятно, что покуда еще около себя побираются. Дай срок, у своих из карманов повыберут, а потом и в Белуджистан с подводами потянутся.
В заключение Очищенный сообщил нам приятную весть. В редакции «Красы Демидрона» имеются достоверные сведения, что пример кашинских виноделов уже нашел подражателей. Не говоря об Ярославле, которого лафиты, подправленные черникой и сандалом, могут смело соперничать с фирмой Oldekopp Marillac – во многих мелких уездных городах (как, например, в Крапивне, Саранске, Лукоянове и проч.), где доселе производился только навоз, положено прочное основание виноделию, которое до известной степени уже и конкурирует с кашинским и ярославским. Примеру этих городов несомненно последуют: Шацк, Лаишев, два Ардатова, все Спасски и проч. – и тогда период «выбирания около себя» сократится сам собой. А когда выбирать около себя будет уж нечего, тогда волей-неволей придется нанимать подводы в Белуджистан. А раз белуджистанский рынок будет завоеван для кашинских хересов, тогда нашим виноделам останется только оправдать доверие начальства, а нам, всем остальным – высоко держать русское знамя.
– Легость большая будет, – заключил Очищенный, и мы охотно с ним согласились.
После виноделен мы хотели приступить к осмотру замечательных кашинских зданий и церквей, но вспомнили, что в Кашине существует окружной суд, и направились туда. К тому же и хозяин постоялого двора предупредил нас, что в это утро должно слушаться в суде замечательное политическое дело, развязки которого вся кашинская интеллигенция ожидала с нетерпением [34]34
Само собою разумеется, что следующее за сим описание окружного суда не имеет ничего общего с реальным кашинским окружным судом, а заключает в себе лишь типические черты, свойственные третьеразрядным судам, из которых некоторые уже благосклонно закрыты, а другие ожидают своей очереди. ( Прим. M. E. Салтыкова-Щедрина.)
[Закрыть].
Как я уже сказал выше, в реке Кашинке издревле в изобилии водились пискари. Но недавно количество их стало постепенно убывать, и, как это всегда у нас водится, полиция прозевала это знаменательное явление. Хватились тогда, когда осталась лишь небольшая шайка, которая явно посмеивалась над всеми усилиями граждан водворить ее в уху. Бросились ловить – не тут-то было; пискари вильнули хвостом и у всех на виду исчезли. Трудно было, конечно, оправдать полицию, но, с другой стороны, трудно было и обвинить. Во всяком случае, поймали только одного хворого пискаря, которому врачи предписали лежать в тине, но и оттуда полиция достала его. Нарядили следствие; прокуроры и следователи два года сряду не выходили из реки Кашинки, разыскивая корни и нити, допрашивая лягушек и головастиков, и после неимоверных усилий пришли к такому результату: пойман хворый пискарь, а прочие неизвестно куда исчезли. В этом виде дело представлено было в суд, которому и предстояло воздать каждому по делам его. Скрывшиеся пискари должны были судиться заочно по обвинению в самовольном оставлении отечества, а пойманный хворый пискарь – по обвинению в знании о сем и недонесении подлежащим властям. Дело было громкое и обещало привлечь массу публики.
Мы пришли в суд в исходе одиннадцатого; но так как заседание должно было открыться не ранее часа, то никого еще не было, кроме сторожей и приказных низшего оклада. Суд помещается в каменном здании довольно внушительных размеров, но плохо ремонтируемом. Внутри пахнет унынием и упраздненностью, как и повсюду в Кашине. Швейцар – старый, заплесневелый, сидит в бумазейной куртке и не торопясь чистит булаву, а жена его в каморке готовит щи, запах которых сообщает строению жилой характер. По-видимому, старик одичал в бездействии, потому что он встретил нас сердито и процедил сквозь зубы: нелегкая спозаранку принесла! Но когда мы, сняв верхнее платье, дали ему по гривеннику за хранение, он на минуту просиял, гривенники спрятал за щеку, а нам указал на лавку: сидите!
– Много бывает у вас в суде делов, старинушка? – ласково вступил с ним в разговор Очищенный.
– Никаких у нас делов нет, – ответил старик сердито, – кто ни идет, ни едет – всё мимо. Прежде, когда помещики были – точно что приезжали тягаться; а нынче – шабаш.
– Что за причина такая?
– Прикончили, значит. Имущество продали, а сами на теплые воды уехали. А кои остались – те и без суда друг у дружки рвут.
– Да, строгие нынче времена! – вздохнул Очищенный и не без умиления подумал: вот кабы таким же манером и Матрена Ивановна: не доводя до суда, вынула бы денежки да и заплатила бы по векселям… мило, благородно!
– Дураков ноне много уродилось, – философствовал между тем швейцар, – вот умные-то и рвут у них. Потому ежели дурак в суд пойдет – какую он там правду сыщет? какая такая дурацкая правда бывает? Еще с него же все штрафы взыщут: нишкни, значит, коли ты дурак!
И, порешив таким образом с гражданскими делами, прибавил:
– У нас ноне и уголовщина – и та мимо суда прошла. Разве который уж вор с амбицией, так тот суда запросит, а прочиих всех воров у нас сами промежду себя решат. Прибьют, либо искалечат – поди жалуйся! Прокуроры-то наши глаза проглядели, у окошка ждамши, не приведут ли кого, – не ведут, да и шабаш! Самый наш суд бедный. Все равно как у попов приходы бывают; у одного тысяча душ в приходе, да всё купцы да богатеи, а у другого и ста душ нет, да и у тех на десять душ одна корова. У чего тут кормиться попу?
Словом сказать, старик шибко негодовал и даже себя считал несправедливо приниженным запустелостью суда, в дверях которого его без всякой надобности заставляют стоять в галунах, в перевязи и выделывать булавой артикулы при проходе членов и прокуроров, которые и сами-то идут в суд лишь оттого, что деваться им больше некуда.
– Набрали целое стадо приказных, – ворчал он без умолку, – а они только папироски курят, сорят да перья сосут. Или теперича паутина – сколько ее на потолках набралось! – а как ты ее оттоле достанешь? Ты ее растревожь – ан она клочьями повисла; одно место на потолке белое открылось, а прочее все точно сажей вымазано. Самый, то есть самый у нас бедный суд!
Но мне, лично, именно такойсуд и казался идеальным: именно такой суд нужен. Чтобы никто в нем не судился, чтоб лестница была не метена, чтоб паутина застилала потолки, чтоб швейцар был небрит, а швейцарова жена чтобы щи варила. И чтобы за всем тем, всякий, при виде этого неметеного суда, понимал, что час воли божией – вот он. И прокуроры чтобы на всякий случай в окна смотрели, только на улицу бы не выбегали, когда кого-нибудь ведут на веревочке, не спрашивали бы: со взломом или без взлома? Меня не огорчило бы, если б даже судебный персонал оставался бы в прежнем составе и продолжал бы получать присвоенные по штатам оклады. Во-первых, покуда суд не упразднен, нельзя упразднить и служителей его («чем же мы виноваты, что у нас дел нет?»), а во-вторых, ведь надо же между кем-нибудь казенные доходы делить, так уж пусть лучше получают те, кои дела не делают, а от дела не бегают, нежели те, кои без пути, аки лев рыкаяй, рыщут, иский, кого поглотити. *
А исподволь, может быть, удалось бы и полного упразднения достигнуть. Никого не обижая, не увольняя и не упраздняя, а постепенно прекращая замену упалых. Ведь это только с непривычки кажется, что без судов минуты нельзя прожить; я же, напротив того, позволяю себе думать, что ежели люди перестанут судиться, то это отнюдь не сделает их несчастными. Я знаю, что идея эта непрактическая и что надеяться на ее осуществление – все равно, что поджидать скорого приезда Улиты (по пословице: «Улита едет, когда-то будет»), но и за всем тем надеюсь. Но, разумеется, если б мне сказали: выбирай между прежним кашинским уездным судом и нынешним кашинским окружным судом, я не задумываясь крикнул бы последнему: vivat, crescat et floreat [35]35
Пусть живет, растет и цветет.
[Закрыть]. Помилуйте, уж одно то чего стоит, что в дверях нынешнего окружного суда стоит швейцар с булавой, тогда как в передней кашинского уездного суда вечно стучал сапожной колодкой солдат в изгребной рубахе и с поврежденной на ученьях скулой!..
Но этот день, как я уже сказал выше, составлял исключение в практике кашинского окружного суда.
Судились пискари, исконные кашинские обыватели, и притом в таком интересном преступлении, которое самою новизною озадачило всех кашинских консерваторов (кашинские виноделы и витушечники – консервативны по преимуществу, ибо знают, чье мясо кошка съела). С половины двенадцатого уже началось движение в окрестностях суда. Швейцар, весь вышитый, с желтой перевязью через плечо и с булавой в правой руке, стоял навытяжку у дверей, готовый выделать все требуемые практикой суда артикулы. Прежде всего повалила меньшая братия, которая при входе набожно крестилась, как бы отмаливаясь от тюрьмы и от сумы, а в начале первого начали собираться «чины». Первые пришли прокуроры. Увидевши нас, они остановились в швейцарской и стали вслух обсуждать вопрос: ежели вор в шкатулке сломает замо́к и унесет оттуда три копейки – это, несомненно, будет кража со взломом; но ежели он, вместо того чтоб ломать замо́к, всю шкатулку унесет – как следует это действие понимать? * [36]36
Нынче, как я слышал, вопрос этот уже разрешен. Можно и замо́к в шкатулке сломать, и самую шкатулку унести – как кому удобнее. ( Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)
[Закрыть]Но, ничего не решив, щелкнули языками и стали подниматься по лестнице вверх. Следом за прокурорами прибыли члены суда. Они солидно взбирались по лестнице и вели солидный разговор, неизменно начинавшийся словами: «В практике кашинского окружного суда установился прецедент…» Сначала один эти слова скажет, потом другой повторит, потом третий, а швейцар смотрит на них и не нарадуется. Вообще эти люди, по-видимому, отлично понимали, что двадцатого числа каждого месяца ничто не воспрепятствует им воспользоваться присвоенным от казны содержанием. Кашинка может выйти из берегов и потопить казначейство, огонь может истребить его, но ихниеденьги ни в огне не сгорят, ни в воде не потонут. Напоследок по наружности суетливо, но, в сущности, виновато проскользнуло штук двадцать адвокатов, которые, увидев нас, ужасно обрадовались, предполагая, что вот, мол, тягаться пришли. Но радость их была кратковременна, и когда мы объяснили цель нашего прихода, то лица их выразили столь искреннюю печаль, что Глумов поспешил предложить им по папироске. Затем они всей ватагой ринулись наверх, как бы опасаясь потерять горячие следы, оставленные членами суда и прокурорами.
Нам эти бедняки показались заслуживающими полного снисхождения. Они имели хороший аппетит и некоторое время рассчитывали на удовлетворение оного, как вдруг, совсем неожиданно, в практике кашинского окружного суда установился прецедент: никаких дел не судить, а собираться лишь для чтения законов…
С половины первого начался прилив чистой публики. Прибыл исправник, изящный молодой человек, с пробором посреди головы; вынул щеточку с зеркальцем, посмотрелся и вошел на крыльцо в ожидании дам. К нему присоединилось с десяток офицеров квартирующего в уезде полка. Дамочки не замедлили. Первою подкатила щегольская линейка, в которой, словно на пикник, приехала из подгородного имения местная львица с целым выводком дамочек. За линейкой последовал целый ряд экипажей, подвозя новые и новые выводки. Слышался говор и смех; у всех дамочек оказывался в туалете какой-нибудь беспорядок; у одних что-то развязалось, у других – расстегнулось. Все хохотали и кричали: ах, как весело! Исправник, как первый (после прокурора) в городе кавалер, не успевал завязывать и застегивать. Господа офицеры оказывали содействие.
Поднялись наверх и мы.
Зала была совершенно полна. Дамочки, гражданского и военного ведомств вперемежку, сидели в первом ряду и весело переговаривались между собой на французском диалекте. Сзади их теснился цвет местных сведущих людей и земских деятелей, вперемежку с офицерами. В глубине – толпилась меньшая братия. Судебные пристава, блистая отчищенными наново цепями, в новеньких мундирчиках и красиво выгибая шеи, говорили дамочкам «бонжур» и подвигали им стулья. Многие из них состояли на счету женихов и умели танцевать мазурку. Подсудимый пискарь, еле живой, лежал в неглубокой тарелке на скамье подсудимых и тяжело дышал жабрами. Сзади его стояли два жандарма с саблями наголо́; рядом – расположилась защита, в составе двух адвокатов: Шестакова (испорченное от Chaix d’Estange) и Перьева (испорченное от Berryer). * Кафедру обвинения занял прокурор Громобой, который вошел в залу суда, мечтательно играя поясницей и склонивши головушку на праву сторонушку. В грациозно откинутой руке его блестел золотой пенсне; сочные губы (созданные для поцелуя) слегка вздрагивали; глаза (с поволокою) смотрели грустно. Он уныло окинул дамский цветник, как бы заранее испрашивая прощения за кровожадность, с которою он будет требовать смерти для подсудимого пискаря и общих оздоровительных мер для всего общества. При этом взгляде дамочки инстинктивно поправили платья, потому что Громобой занимал в кашинской судебной труппе амплуа premier amoureux [37]37
Первого любовника.
[Закрыть], вроде как, например, Бертон или Вормс в Михайловском театре, в Петербурге. В числе свидетелей больше всех выдавалась старая лягушка (по вызову обвинительной власти), та самая, которая когда-то
…на лугу, увидевши вола, *
Задумала сама в дородстве с ним сравняться… – *
но, вопреки свидетельству дедушки Крылова, не лопнула (лягушки удивительно как эластичны), а явилась в настоящем деле главной доносчицей. За нею виднелось несколько десятков мелких головастиков, большая часть которых была вызвана защитой, и, наконец, в особой лохани, широко разинув пасть, нервно плескалась щука, относительно которой Громобой был долгое время в нерешительности, вызвать ли ее в качестве свидетельницы или же посадить на скамью обвиняемых в качестве укрывательницы, так как бо́льшая часть оставивших отечество пискарей была ею заглотана. На столе вещественных доказательств лежали: во-первых, карась, долженствовавший быть на скамье подсудимых, но ошибкою зажаренный в сметане; во-вторых, точный фотографический снимок с струй, которые образовались в реке при поспешном бегстве пискарей. За решеткой присяжных заседателей не было никого, потому что процесс был политический, а у присяжных заседателей политического смысла не полагается. *
Ровно в час самый лихой из судебных приставов возгласил: суд идет! – и вслед за этим возгласом в залу выплыли: Иван Иваныч, Петр Иваныч и Семен Иваныч. Но так как они были в мундирах и при цепях, то назывались не Иванами Иванычами, а судьями. Впечатление, произведенное их появлением, было самое примиряющее. Всем показалось, что вместе с ними пришла и Прасковья Ивановна и что сейчас она скажет: милости просим закусить! А ежели закуски и не будет, то, во всяком случае, Иван Иваныч расскажет, какой с ним вчера казус был. Играл он в винт: так – он с Семен Иванычем, а так – Петр Иваныч с Ефрем Иванычем. Только назначает он три в пиках, а Семен Иваныч перебивает: в таком разе я назначаю три в червях! А у него, Иван Иваныча, ни одной червонки нет, а у Семен Иваныча нет ни одной пиковки. Видит он беду неминучую, назначает четыре в пиках, а Семен Иваныч опять перебивает: а я в таком разе четыре в червях! И остались без четырех…
Разумеется, Иван Иваныч ничего подобного не рассказал (он так глубоко затаил свое горе, что даже Семену Иванычу не мстил, хотя со вчерашнего дня от всей души его ненавидел), но общая уверенность в неизбежности этого рассказа была до того сильна, что, когда началось чтение обвинительного акта, все удивленно переглянулись между собой, как бы говоря: помилуйте! да это совсем не то!
Сущность обвинительного акта заключалась в следующем. Издревле река Кашинка славилась своими пискарями. Во все времена обыватели города ловили пискарей всеми дозволенными способами и готовили из них прекраснейшую уху, о чем еще в XIV столетии свидетельствовал кашинский летописец. Однажды установившись на прочном основании, дело это шло своим порядком, не порождая преувеличенных надежд, но не возбуждая ни в ком и тревожных опасений. Только в 1723 году река Кашинка едва не опустела, так как всех пискарей потребовали в Петербург ко двору, в видах обрусения реки Мьи (нынешняя Мойка). Но большинство тогдашних пискарей сказалось в «нетех», и года через два-три убыль без труда пополнилась. За исключением этого кратковременного случая, недостатка в пискарях никогда не замечалось, хотя в иной год попадались пискари крупнее, а в другой – мельче. Но с начала шестидесятых годов, вместе с наступлением эпохи реформ, начинаются между пискарями волнения. Вместо того чтоб быть благодарными за дарование свободы, они придумывают всевозможные уловки для избежания закидываемых сетей * и неводов и в то же время целыми массами эмигрируют из родной реки. Куда они эмигрировали – это и доселе составляет тайну, но самый факт эмиграции был уже тогда замечен некоторыми благомыслящими гражданами. Опасаясь, что вкусная и питательная уха, которою они привыкли подкреплять свои силы, в непродолжительном времени отойдет в область предания, они настойчиво указывали подлежащей власти на угрожающую опасность, но так как в то время все вообще правительство было заодно с пискарями, то понятно, что и местная полицейская власть не сочла себя вправе употребить энергические усилия, дабы пресечь зло в самом его зародыше. И вот зло развилось. В течение всего прошлого года не было поймано ни одного пискаря, а в нынешнем году, с вскрытием реки, повторилось то же явление. Тогда полицейская власть встревожилась и решилась вмешаться. Громогласно дав мятежникам три предостережения относительно непременной явки в уху, она закинула разом несколько неводов; но, протащив их по всему протяжению реки в пределах городской черты, ничего не изловила, кроме головастиков и лежащего в тарелке больного пискаря. В таком виде это дело поступило на распоряжение прокурорской власти, которая сочла необходимым подвергнуть его тщательному исследованию. Следствие, произведенное под личным наблюдением прокурора окружного суда, с участием всех прокуроров и судебных следователей кашинского округа, привело к следующим результатам: А. Относительно всех вообще пискарей.Несомненно, что с их стороны был в настоящем случае заговор и предумышленное сопротивление властям. Будучи по закону обязаны являться, по первому требованию, в уху, они не только не обратили должного внимания на сделанные им полицейскою властью предостережения, но прямо ослушались ее приглашений, несомненно действуя при этом по обдуманному наперед общему плану. Доказательств существования этого общего плана имеется в деле более нежели достаточно. Во-первых, пискари исчезли из реки именно в ту самую минуту, когда начальство изготовляло для поимки их сети и невода. Очевидно, они были предупреждены. И действительно, в деле имеются данные, доказывающие, что их предупредил о делаемых приготовлениях карась, живший у исправника в пруде, соединяющемся с рекою Кашинкой протоком. Сам карась чистосердечно сознался в этом преступлении, оправдываясь, будто бы он действовал в этом случае на основании какого-то циркуляра. Но по какому ведомству, когда и за каким № был издан этот циркуляр – указать не мог. К сожалению, этот карась был, по недоразумению, изжарен в сметане, в каковом виде и находится ныне на столе вещественных доказательств (секретарь подходит к столу, поднимает сковороду с загаженным мухами карасем и говорит: вот он!); но если б он был жив, то, несомненно, в видах смягчения собственной вины, пролил бы свет на это, впрочем, и без того уже ясное обстоятельство. Стало быть, пискари знали; а ежели знали, то должны были спокойно плавать и с доверием ожидать. Но они вместо того обдумали общий план, которым и воспользовались в решительную минуту. Во-вторых, самый процесс бегства свидетельствует об его предумышленности. Бегство совершилось с быстротой, совершенно не свойственной пискарям, что доказывается точным фотографическим снимком струй, оставленных бежавшими. Стоит взглянуть на этот снимок (секретарь берет его со стола и говорит: вот он!), чтоб убедиться, что такую путаницу перекрестных следов могут оставить только существа, достоверно знающие, что ожидает их впереди, и потому имеющие полное основание спешить. Говорят, будто бы пискари оттого так быстро прыснули в разные стороны, что испугались щуки, которая в это время заплыла в Кашинку из Волги; но спрошенная по сему предмету щука представила к следствию одобрительное свидетельство от полиции, из которого видно, что она неоднократно и прежде появлялась в реке Кашинке, и всегда с наилучшими намерениями. Но, кроме того, даже вызванные защитой головастики – и те свидетельствуют, что еще задолго до исчезновения пискарей у них уже были шумные сходки, на которых потрясались основы и произносились пропаганды и превратные толкования; а лягушка, видевшая в лугу вола, прямо показывает, что не только знает о сходках, но и сама не раз тайно, залегши в грязь, на них присутствовала и слышала собственными ушами, как однажды было решено: в уху не идти. Таким образом, исчезновение, с одной стороны, совершилось быстро, а с другой – медленно и обдуманно. Затем, хотя следствие и не разъяснило достоверным образом, куда девались мятежные пискари, оставили ли они отечество навсегда или до сих пор укрываются в волнах оного, но обстоятельство это для правосудия безразлично. Они не явились по вызову начальства, а это больше нежели оставление отечества. Б. Что же касается, в частности,до находящегося на скамье подсудимых больного пискаря, то хотя он и утверждает, что ничего не знал и не знает об этой истории, потому-де, что был болен и, по совету врачей, лежал в иле, но запирательству его едва ли можно дать веру, ибо вековой опыт доказывает, что больные злоумышленники очень часто бывают вреднее, нежели самые здоровые.








