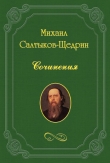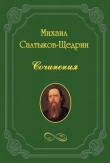Текст книги "Произведения"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 48 (всего у книги 50 страниц)
Но в таком случае, что же в очерке могло вызвать серьезные возражения Чернышевского? Критические замечания Чернышевского распространялись, по-видимому, на следующие утверждения автора очерка.
Первое. Так как передовому общественному деятелю приходится работать в условиях все еще устойчивых, хотя и прогнивших насквозь «глуповских» порядков, он имеет право на компромисс, имеет право выбора «просто мерзкой мерзости предпочтительно перед мерзейшею», несмотря на то что и та и другая несостоятельны перед судом «безотносительной истины». Честный деятель вынужден идти на сделку с «установившимися формами жизни», чтобы в конце концов сломать их, пусть и «варварским образом», «исподтишка», пусть даже ценой ошибок и падений. Но такое понимание практической деятельности невольно вело к своего рода уравнению революционных и нереволюционных методов преобразования жизни, к мысли о неких «ближних идеалах». Больше того, – конечный социалистический идеал, в силу нечеткости некоторых формулировок, как бы утрачивал черты безусловной исторической обязательности.
Второе. Сомнения Чернышевского вызвал, по-видимому, самый образ «каплунов будущего». Судя по всему, этот образ воплощает комплекс идей, чувств и настроений, свойственных людям передовых демократических убеждений, социалистических взглядов. В ряде мест очерка автор открыто солидаризируется с ними («стремления ваши нам сочувственны», «мы охотно пойдем туда, куда вы нас поведете», «вы искренно и горячо сочувствуете массам» и т. д.). Однако жизненное поведение «угрюмых каплунов», их нежелание лично участвовать в делах глуповской действительности, поскольку это неизбежно потребует с их стороны «уступок» и «сделок» с нею, подвергается гневному осуждению. По мнению «угрюмых каплунов», следует уединиться в кружке единомышленников, хранить здесь чистоту идеалов, жить будущим. Салтыков квалифицирует подобный образ поведения как «нравственное и политическое самоубийство».
Какие группы тогдашней русской демократической общественности мог иметь в виду Салтыков, рисуя «угрюмых каплунов»? Ответить определенно на этот вопрос весьма затруднительно. Выше указано, что даже в кругах «Современника», в среде близких Чернышевскому лиц, существовало предубеждение против вице-губернаторства Салтыкова. Легко возникающее здесь недоумение: как может он считать себя человеком передовым и служить? да еще высказанное с оттенком превосходства убеждений и безупречности своей собственной «чистой» позиции, – Салтыков парировал недвусмысленным заявлением: «Какая польза от того, что я уступлю свое место Сеньке Бирюкову, а сам брезгливо стану в сторонке от деятельной жизни». Через два года у Салтыкова возникнут прямые разногласия с соредакторами «Современника» (Антоновичем, Жуковским, Пыпиным и др.), и как раз по поводу произведений, в которых сатирик развивал и варьировал центральные идеи «Каплунов» (последние статьи из хроники «Наша общественная жизнь» за 1864 г.).
Можно думать, что образом «угрюмых каплунов» Салтыков задевал также круг «Русского слова». В спорах с Писаревым, Зайцевым и Благосветловым в 1863–1864 гг. он опять-таки затронет все те же «жгучие вопросы эпохи», какие обсуждаются в «Каплунах». Но еще до открытой полемики, известной в истории 60-х годов как «раскол в нигилистах», в «Каплунах» высказывались идеи, противоположные едва ли не основным тезисам статьи Писарева «Базаров». Салтыковские «угрюмые каплуны» удивительно напоминают Базаровых в писаревской их интерпретации, как это явствует, например, из следующих сопоставлений.
«Каплуны» «Базаров»
«…Махни рукой на жизнь, потому что она не стоит того, чтоб с нею связываться; прикосновение к ней может только замарать честного человека; обтарись к идеалам и живи в будущем». «Я не могу действовать теперь, – думает про себя каждый из этих новых людей, – не стану и пробовать. Я презираю всё, и не стану скрывать этого презренья. В борьбу со злом я пойду тогда, когда почувствую себя сильным. До тех пор буду жить сам по себе».
Каплунов угрюмых губит себялюбивая брезгливость мысли. Ставши на высоту отдаленных идеалов, они забывают, что у масс на первом плане стоит требование насущного хлеба, что массы мало заботятся о том, умрут ли они праведниками или грешниками… Презрение к массам слышится в этом высокомерном отношении к жизни». Они <Базаровы> сознают свое несходство с массой… Пойдет ли за ними общество – до этого им нет дела. Они полны собою, своею внутреннею жизнью… Здесь личность достигает полного самоосвобождения, полной особности и самостоятельности».
Правда, мы не располагаем документальными свидетельствами о знакомстве Салтыкова со статьей Писарева до написания очерка, хотя это и не исключено. Но что статья стала известна ему сразу же по выходе мартовской книжки «Русского слова», где она была напечатана (ценз. разр. – 8 апреля), это несомненно. В письме к Чернышевскому от 14 апреля Салтыков убедительно просил редакцию напечатать его три рассказа (среди них и «Каплуны») в апрельской книжке журнала. «Это для меня необходимо, – заявил Салтыков, – по многим соображениям». Возможно, одно из них заключалось в желании тотчас же откликнуться на статью, в которой с необычной энергией и горячностью защищался столь энергично и горячо опровергаемый им «каплуний» строй мыслей.
Во всяком случае, автор «Каплунов» чутко улавливал начинавшие складываться среди части демократической интеллигенции доктринерские умонастроения, затем усилившиеся в связи с наступлением правительственной и общественной реакции. Ведь до статьи об «Отцах и детях», например в статье «Схоластика XIX века», Писарев сам высмеивал настроения, образно запечатленные потом щедринскими «каплунами будущего». Писаревская апология базаровского типа впервые резко обозначила новое направление «Русского слова». Ближайший сотрудник журнала Н. В. Шелгунов определял его так: областью «Русского слова» было «выяснение личности, ее положения, ее развития, ее общественного сознания и вообще ее внутреннего значения и отношения к обществу и к общему прогрессу».[234]234
Н. В. Шелгунов. Воспоминания, М. —П. 1923, стр. 181.
[Закрыть] Вспоминая об этом времени, Н. К. Михайловский писал; «Писарев и другие изыскивали программу чистой, святой жизни, уединенной от всякой общественной скверны, а мы, чуть ли не большинство тогдашней молодежи, старались проводить эту программу в жизнь».[235]235
Н. В. Шелгунов. Воспоминания, М. —П. 1923, стр. 181.
[Закрыть]
Как явствует из цитированного выше письма Салтыкова к Чернышевскому, последний не был против опубликования «Каплунов», ограничившись рекомендацией исправить в корректуре некоторые места очерка («Я, – сообщал Салтыков, – желаемые исправления сделал»). Однако и в этой редакции, по-видимому принципиально не отличавшейся от первой, очерк не был напечатан. Это обстоятельство, казалось бы, легко объясняется цензурным запретом, который, как известно, и последовал вскоре после переписки Салтыкова и Чернышевского. Но еще до того, как об этом запрещении узнала редакция «Современника» (в самом начале 1863 г.), в редакции журнала возникли, по-видимому, сомнения в целесообразности публикации «Каплунов». Упомянув о вспомнившихся Пыпину слухах, что «некоторые даже очень умные люди были поставлены в недоумение» недостаточной ясностью его сатиры, Салтыков писал 6 апреля 1871 года: «Ежели тут дело идет о «Каплунах», то вряд ли идея этого очерка могла представлять неясность. Идею эту я развил впоследствии неоднократно, и заключается она в том, что следует из тесных рамок сектаторства выйти на почву практической деятельности. Может быть, идея эта спорная, но, во всяком случае, в ней нет ничего недостойного. Н<иколай> Г<аврилович>, который тогда же писал ко мне по этому случаю, оспаривал меня и убедил взять очерк назад. Но он ни одним словом не обвинял меня, и я счел, что тут скорее идет речь о несвоевременности, нежели о внутреннем достоинстве идеи». Чернышевский умел, конечно, должным образом оценить демократизм автора «Каплунов», его искреннее стремление повысить практическую действенность освободительной борьбы шестидесятников. Но Чернышевский и его товарищи по редакции полагали, что выпады Салтыкова против «своих» таят в себе опасность раскола в лагере демократов, могут быть превратно истолкованы.
Взяв очерк назад в первоначальной, полной его редакции, Салтыков, однако, не отказался от мысли так или иначе его напечатать. Для январско-февральской книжки «Современника» Салтыков приготовил новую, сокращенную редакцию очерка. Здесь оказались исключенными почти все места, относящиеся к характеристике «угрюмых каплунов», в особенности все то, что приближало этот образ к демократическим кругам, и напротив, получили развитие мотивы, разработанные автором в образе «веселых каплунов». В сокращенной редакции последние предстают как вариант «юных сынов Глупова». При этом оказывается, что если в очерке «Глупов и глуповцы» об этих «доктринерах розги и кулака» сказано лишь как о собирающихся систематизировать и разъяснить «истинные начала глуповской цивилизации», то каплуны аттестуются своего рода доморощенными Гегелями, уже сочинившими назидательную книжку «Философия города Глупова».
Одновременно Салтыков, не сомневаясь, очевидно, во «внутреннем достоинстве идеи» и той части произведения, в которой шла речь о сектаторских настроениях и доктринерстве «угрюмых каплунов», включил ее в несколько измененном виде в состав хроники «Наша общественная жизнь». Но и «отколовшаяся» часть «Каплунов», ставшая окончанием январской хроники за 1863 г., в печати также не появилась. Произошло ли это в результате цензурных вмешательств, или же изъятие было произведено самой редакцией журнала, остается невыясненным. Очень может быть, что судьбу салтыковского очерка решила редакция «Современника». Возобновление издания журнала после шестимесячного перерыва обязывало ее к сугубой осторожности. Не утратили, вероятно, своего значения и соображения «несвоевременности» обнародования материала, который мог послужить поводом для открытой полемики с «Русским словом» (см. т. 6 наст. изд.).
Салтыков очень дорожил идеями, высказанными и развитыми в «Каплунах» – одном из самых сложных произведений писателя.[236]236
В посвященной очерку научной литературе высказаны весьма различные точки зрения на его проблематику, предложены (и предлагаются до сих пор) далеко не единодушные толкования социально-исторического смысла сложно зашифрованного писателем образа «угрюмых каплунов». Специалисты-исследователи находят отражение в этом образе общественных качеств, свойственных и «консерваторам» (Р. В. Иванов-Разумник. М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество, М. 1930, стр. 235), и либеральным утопистам, «лишним людям» (В. Я. Кирпотин. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, М. 1955, стр. 147), и представителям определенных (сказано, впрочем, неопределенно) кругов демократической интеллигенции (Я. Е. Эльсберг. Салтыков-Щедрин, М. 1953, стр. 129), и шестидесятникам, близким к кругу «Современника», «Русского слова» (С. С. Борщевский. Раскол в нигилистах. – «Литературный критик», 1940, № 11–12, стр. 85–92; В. В. Гиппиус. Салтыков и журнальная полемика 1864 года. – «Литературное наследство», 1933, № 11–12; Л. Плоткин. Д. И. Писарев и общественно-литературное движение шестидесятых годов, Л. 1945, стр. 241–272; Е. И. Покусаев. Салтыков-Щедрин в шестидесятые годы, Саратов, 1957, стр. 117–123; В. Э. Боград. Неизвестная редакция очерка «Каплуны». – «Литературное наследство», т. 67, М. 1959, стр. 315–320; С. A. Макашин. В борьбе с реакцией. – Там же, стр. 327–338; Ф. Кузнецов. Журнал «Русское слово», М. 1965, стр. 276–321 и др.).
[Закрыть] Эти идеи получат дальнейшее развитие в «Тихом пристанище» (см. далее, стр. 579). И позже, в 1863–1864 гг., когда крах первой революционной ситуации в России выявится во всем своем трагическом очертании и тяжелых исторических последствиях, Салтыков – автор «Нашей общественной жизни» – с новой силой и вниманием сосредоточится на проблеме «практических действий», обогатив главную мысль «Каплунов» новыми аргументами и концепциями.
Стр. 245. Кастраты всё бранили… – из «Книги песен» Генриха Гейне («Возвращение на Родину») в переводе Н. А. Добролюбова.
…доктора Панглосса, утверждавшего, что все идет к лучшему в наилучшем из миров. – Панглосс – герой романа Вольтера «Кандид».
Стр. 247…..весь гнет вчерашнего (а отчего же и не сегодняшнего?) пленения вавилонского. – В 136 псалме говорится о тоске и плаче иудеев, находившихся в плену вавилонском – библейское отражение событий из истории Иудеи (VII–VI вв. до н. э.). Под «пленением вавилонским» Салтыков, видимо, подразумевал крепостное право, или, как он его называл, «двухвековое иго», которое фактически не было ликвидировано «Положением 19 февраля».
Стр. 251…на нравственное и политическое самоубийство… – В гранках первоначальной редакции «Каплунов» «самоубийство» определялось лишь одним эпитетом «нравственное». Однако в черновом автографе имеется определение «и политическое». Вводим это дополнение в основной текст, считая, вслед за В. В. Гиппиусом, что оно было снято писателем по цензурным соображениям.
Стр. 254. Ваал – древнее семитское божество (второе – первое тысячелетие до н. э.), в культе которого видное место занимало человеческое жертвоприношение.
Стр. 255…«мечом картонным». – Из стихотворения Лермонтова «Не верь себе» (1839).
Юсов – персонаж комедии А. Н. Островского «Доходное место» (1857).
Стр. 256. Не вчера ли… честные бойцы падали в борьбе… – В этом заявлении можно усмотреть намек на расправу царского правительства с М. Л. Михайловым (гражданская казнь была совершена 14 декабря 1861 г.) и В. А. Обручевым (арестован 4 октября 1861 г.).
Сенька Бирюков. – Этот образ – молодого беспринципного чиновника-карьериста – впервые появился в очерке «Наши глуповские дела» (1861), затем – в «Погоне за счастьем» и «К читателю» (1862). Получил дальнейшую разработку в «Помпадурах и помпадуршах», «Дневнике провинциала в Петербурге» и др.
Стр. 257…знаменитые открыватели истоков Нигера… – Нигер – третья (после Нила и Конго) по величине река в Африке. Первым из европейцев побывал на ней в 1796 г. шотландский врач Мунго Парк. Вторичное его путешествие по этой реке в начале XIX в. окончилось гибелью.
ТИХОЕ ПРИСТАНИЩЕ
Повесть не закончена и при жизни Салтыкова напечатана не была, за исключением главы I – «Город», появившейся в качестве самостоятельного этюда в издании: «Складчина. Литературный сборник, составленный из трудов русских литераторов в пользу пострадавших от голода в Самарской губернии», СПб. 1874, стр. 129–138. Подпись: Н. Щедрин.
Впервые – в журнале «Вестник Европы», 1910, №№ 3 и 4 (с публикацией основных вариантов черновых рукописей и первой редакции – «Мастерица» – в изд. 1933–1941 гг., т. 4, стр. 463–473, 507–509).
Известны две редакции повести – первоначальная, краткая, называвшаяся «Мастерица», и вторая, распространенная, получившая название «Тихое пристанище». Сохранились следующие рукописи «Мастерицы»: 1) черновой автограф главы I, без окончания; 2) перебеленный текст предыдущей рукописи с исправлениями и черновой автограф окончания главы I и начала II. Сохранились следующие рукописи «Тихого пристанища»: 1) черновые автографы глав II («Веригин»), VI («Услуга») и VII («Обыск») ранней редакции (название отсутствует); 2) копия I–VII глав поздней редакции (почерками Е. А. Салтыковой и неустановленного лица) – первые пять глав с правкой Салтыкова-Щедрина и со значительными авторскими вставками на полях; 3) «Город». Наборная рукопись главы I рукой Е. А. Салтыковой, с правкой автора и его пометой: «Прошу корректуру прислать мне».
В настоящем издании главы I–V «Тихого пристанища» печатаются по авторизованной копии (с учетом правки, осуществленной Салтыковым, по-видимому, при подготовке главы I для публикации в «Складчине»), главы VI–VII – по черновому автографу. «Мастерица» печатается в разделе «Из других редакций» по черновому автографу первой редакции, так как текст второй редакции близок к тексту «Тихого пристанища».
История писания «Тихого пристанища» известна лишь в самых общих чертах. Возникновение замысла повести, время работы над нею, причины, побудившие автора оставить незавершенным уже объявленное к опубликованию произведение – эти и другие важные моменты творческой истории произведения все еще остаются мало проясненными.
В письме к С. Т. Аксакову от конца марта 1858 г. Салтыков сообщал, что «начал большой роман, который <…> уже обещан <…> „Русскому вестнику“». В бумагах писателя этой поры не сохранилось рукописных материалов какого-либо другого «романа», кроме фрагментов «Мастерицы».
Основная тема «Мастерицы», как свидетельствует и самое название задуманной повести, – драматическая судьба девушки-«расколки», которая готовится стать «мастерицей», «посвятить себя богу», то есть обречь на безбрачие и обучать грамоте по старопечатным книгам детей одноверцев. Идейно-тематически «Мастерица» близка к раскольничьим рассказам «Губернских очерков» (см. т. 2 наст. изд., стр. 367–445). Характеристики раскола воспринимаются иной раз как прямые реминисценции и даже перифразы из «Старца» и «Матушки Мавры Кузьмовны». В черновом автографе главы I (после слов: «хладнокровное ожесточение» – стр. 516 наст. тома) давалась, например, чрезвычайно резкая, позднее вычеркнутая, квалификация старообрядчества:
Но здесь я должен оговориться.
Для многих обнажение так называемых тайн расколов может показаться неприличным и несвоевременным по многим причинам. На это я отвечу: для меня важна не религиозная и политическая, но гражданская сторона этого темного вопроса. Религиозная сторона бессмысленна и потому ничтожна; стоит только обойти ее, и она падет сама собою; политическая так слаба и так мало заключает в себе залогов жизненности, что также не может внушать серьезных опасений; там, где нет единства, где, по самому существу догматов, все так неопределенно, что на каждом шагу разлезается врозь, там, где в одной деревне можно иногда встретить столько толков, сколько существует семейств, и где каждый видит в своем соседе непримиримого злодея, готового во всякую минуту продать его, там, в этом хаосе, в этой неурядице, смешно было искать даже признаков какого-либо единства действия, без которого никакое политическое движение не мыслимо. Совсем другое дело – гражданская сторона вопроса. Здесь встает перед вами гордая, черствая, замкнутая и, следовательно, в своем роде безобразно аристократическая каста, которая с невозмутимым хладнокровием отлучает от права на жизнь всех своих братьев по крови, почему-либо не желающих подчинить себя самому нелепому из всех деспотизмов – деспотизму опечатки и невежества, с одной стороны, и деспотизму своекорыстия и преднамеренной и грубой эксплуатации в пользу наших доморощенных докторов франсиа – с другой. «Ты не должен иметь общения ни в пище, ни в питии, ни в любви, ни в молитве ни с кем из отверженцев, стоящих вне круга твоей секты; все эти люди, которых ты видишь, должны быть в понятии твоем хуже собак, хуже татар; с татарином ты можешь по нужде есть; с церковником – никогда». Вот слова, которыми проникнута вся жизнь, весь нравственный и гражданский кодекс этой касты, кодекс, очевидно столь же далекий от духа любви и общения, лежащего в основе христианского учения, как и нравственный кодекс фанатического последователя корана, готового во всякое время и хладнокровно погрузить нож в сердце человека, неединомысленного с ним по вере. Такого рода понятия, высказываемые и применяемые со всею невозмутимостью полного убеждения в правоте своего дела, очевидно, заслуживают полнейшего омерзения.
Исключение этого отрывка объясняется, вероятнее всего, распространенным тогда мнением, что выступать против преследуемого властями старообрядчества «неприлично», «несвоевременно». Такой взгляд передал А. И. Артемьев – сослуживец Салтыкова по министерству внутренних дел – в дневниковой записи от 10/22 мая 1857 г.: «…статью Мельникова «Дядя Поликарп» «<Русский> вестник» не печатает не по причине цензурных затруднений, а потому, что статья направлена против раскола… А статьи Щедрина «Старец», «Мавра Кузьмовна» – разве не такие же? Конечно, если судить совершенно либерально, то ни одной статьи подобной поместить нельзя: мы пишем против раскольников, а им не позволяется возражать…»[237]237
«Щедрин в воспоминаниях современников…», стр. 436. Как можно предположить, подобного взгляда придерживался и Тургенев, который однажды в связи с «Губернскими очерками» высказал, по словам Салтыкова, «предубеждение против нравственных» его «качеств». «Уж не думает ли он, – писал Салтыков П. В. Анненкову 2 апреля 1859 г., – что я в «Очерках» описываю собственные мои похождения? <…> он напрасно смешивает меня с Павлом Ивановичем Чичи-Мельниковым». Упоминание имени П. И. Мельникова, который слыл тогда выслуживающимся перед правительством жестоким гонителем раскола, в какой-то мере, по-видимому, раскрывает характер сделанного Салтыкову упрека.
[Закрыть]
Во второй редакции «Мастерицы» текст значительно переработан (особенно во второй его половине, позднейшая глава «Клочьевы») и ис пользован в этом переработанном виде в тексте «Тихого пристанища».
В черновом автографе, по-видимому продолжающем текст второй редакции, имеется следующее окончание первой главы:
Если вам случайно придется иметь дело с одним из молодых членов этой семьи и вы спросите, что заставляет его так упорно оставаться при обычных мертвенных формах жизни и преследовать какие-то искусственные и полуфантастические цели, то услышите один неизменный ответ: «Родители у нас живы». И в воображении вашем мгновенно восстанет или псевдовеличавый, в сущности же только суровый и жесткий образ старика, или же сгорбленная и дрожащая, но вместе с тем бестолково непреклонная фигура старухи, которые, как вампиры, высасывают счастье и радость целой семьи. Но вот старик-отец умер; старуха-мать, охая и всхлипывая, также последовала за ним; остается сын… Вы ожидаете, что он с беспокойным и столь понятным нетерпением устремится разорвать железные путы, так долго не дававшие ему дышать; вы ждете, что вот-вот прольется вольная струя воздуха в эту затхлую атмосферу и освежит ее, вы опасаетесь даже, чтобы место прежнего холодного формализма не заступил слишком дикий и беспорядочный разгул… Напрасные ожидания, напрасные опасения! Еще не успело оцепенеть дряблое тело отца, как в сыне уже совершился тот резкий на взгляд, но в сущности подготовлявшийся издалека переворот, который внезапно ставит его, так сказать, в меру отца. Ограниченным, но в самой этой ограниченности прозорливым рассудком своим, он разом постигнет и взвесит все выгоды, которые может ему дать его новое положение, на которое он, еще при жизни отца, мало-помалу привык смотреть не столько нетерпеливым, сколько завистливым оком, и на основании этого холодного и безнравственного расчета усвоивает себе взгляды и обычаи стариков. Положение семьи, в сущности, нисколько не изменяется; она меняет только господина, но внутренний распорядок и строй жизни остается тот же. И горе той личности, которая вздумала бы предъявить свои права на какую-либо самостоятельность, горе тому или той, которые захотели бы идти наперекор тому, что самодовольно стало толстой и непробиваемой стеной на зыбкой и болотистой почве предрассудков, горе тем, которые не признают безмолвного подчинения слепому и ветхому обычаю за непреложный закон всей своей жизни! Их ждут тысячи мелких преследований, тысячи ежемгновенных истязаний, которые рано или поздно согнут их волю или же истерзают и изорвут душу под муками ее собственного бессилия…
Читатель извинит меня за то, что я, быть может, с излишеством распространился в разъяснении общих черт, характеризующих город и общество, в которое я намерен ввести его. Характеристика эта казалась мне необходимою для более ясного уразумения событий, рассказываемых в настоящей повести.
Далее следует позднее зачеркнутое начало II главы «Мастерицы», объясняющее обет Клочьева «посвятить свою дочь богу»:
Вечером, в конце марта, Иван Михеев Клочьев возвращался домой с соседней ярмонки. Погода стояла тепловатая и сырая, то есть такая именно, которая положительно дает знать о скором вскрытии рек, о предстоящем таянье снегов и о наступлении в природе того временного беспорядка, который предшествует ее обновленью. С запада тянул теплый, но все-таки сильный и порывистый ветер; сверху валил крупными хлопьями тот мокрый снег, про который сложена на Руси поговорка: «сын за отцом пришел»; по узенькой и исковерканной ухабами дороге нередко попадались зажоры и если не совершенно прекращали дальнейшее следование по ней, то, во всяком случае, затрудняли его, потому что по бокам дороги снег еще не довольно оселся, чтобы можно было пуститься в объезд, не рискуя задушить лошадей в снежных сугробах. Темнота ночи и царствовавшая в воздухе сумятица еще более увеличивали эти затруднения; пара маленьких лошадок, которыми была запряжена легкая кибиточка Клочьева, не только преступалась на каждом шагу, но нередко и вовсе отказывалась идти вперед; в таких случаях ямщик проворно соскакивал с облучка, забегал вперед и, потыкав кнутовищем в дорогу, обыкновенно нащупывал им зажору. И тут начиналась для ямщика та тяжкая обычная работа, которая подчас делает этот промысел нестерпимым. Сначала он останавливался в раздумье, разводя руками и полегоньку припоминая каких-то «чертей», потом начинал метаться и ожесточенно тыкать кнутовищем во все стороны, и наконец, окончательно убедившись в невозможности определить глубину зажоры или приискать брод этим способом, решался на последнее средство, а именно: благословясь, спускался в нее сам и, окунувшись в густую морозную воду, нередко до пояса, переходил на другую сторону и, помахавши там руками, снова переправлялся и потом уже переправлял и лошадей. И за все это полагалась ямщику плата не малая, но и не большая: копейки по три, редко по четыре на версту с пары лошадей.
– Сказывал тебе, гони, пока светло! – говорил Клочьев, после одной из таких ванн, обращаясь к ямщику. – Как теперь через реку переедешь!
Ямщик ничего не отвечал и только озлобленно вздрогнул и взмахнул кнутом над лошадьми. Но Иван Михеич был прав, выражая свои опасения насчет переправы. Через полчаса аллеи, окаймляющие большую дорогу, прервались, и путешественники въехали в ту ровную, кое-где покрытую редко растущим тальником местность, которая образует обыкновенно луговую сторону реки, и могли уже различить, сквозь облака снега, неясные очертания стоящего на горном берегу города с его темными группами домов и мелькающими по местам огоньками. Наконец повозка подъехала к реке и остановилась, хотя лед, оковывавший ее, был еще довольно крепок, но лежавший на поверхности его снег был уже рыхл и, видимо, с каждою минутой исчезал; во многих местах, как на дороге, так и в стороне от нее, образовались огромные полыньи воды.
– Ехать ли, хозяин? – спросил ямщик, который уже сбегал на реку и даже сразу угодил в полынью.
Время возникновения замысла «Тихого пристанища» точно не документируется. По некоторым косвенным данным рукописных и печатных источников можно заключить, что это 1862 г., возможно его начало. В главе II повести действие ее отнесено к 1857 г., когда в город Срывный прибывает Веригин как «предвестник обширного промышленного предприятия». «Известно, – сказано далее, – что у нас лет пять тому назад промышленным предприятиям всякого рода особенно посчастливилось» (в черновой рукописи указан 1858 г., и соответственно датировка давности промышленного оживления обозначается: «года три или четыре тому назад»). Ряд материалов главы II указывает на то, что Салтыков учел журнальную полемику 1860–1861 гг., в частности, выступление Чернышевского в «Полемических красотах» против философа-идеалиста П. Д. Юркевича (см. прим. к стр. 276). В этой же главе II говорится о «скандальном обвинении» «современного молодого поколения» в «казачестве». Такое обвинение действительно бросил Б. Н. Чичерин в своей статье в «Иовом времени» (1862, № 39, 22 февраля, стр. 153). Уточняет датировку работы писателя над «Тихим пристанищем» эпизод посещения героем повести Веригиным оперы Мейербера «Гугеноты», первая постановка которой в Мариинском театре была осуществлена 2 февраля 1862 г. (см. А. И. Вольф. Хроника Петербургских театров, ч. II, СПб. 1884, стр. 116). В повести обнаруживаются почти текстуальные совпадения с теми произведениями, над которыми Салтыков работал в начале 1862 г. (см. об этом ниже, стр. 579–580).
Первая глава «Тихого пристанища» была лишь незначительно доработана по сравнению с началом второй редакции «Мастерицы». К картине города Срывного добавлены были следующие автобиографические строки о службе в провинции, позднее вычеркнутые и не вошедшие в печатный текст «Города»:
В молодости, когда прихотливая судьба носила меня из края в край России, я долго жил в Срывном и полюбил его. Да, я любил тебя, угрюмый, но живописный городок. Я любил и шумную деятельность твоего дня и суровое безмолвие твоих ночей. Мне нравилось тогда в тебе всё: и городничий, который вечно куда-то скакал и вечно кого-то ловил, и стряпчий, который лукаво посмеивался, взирая на деятельность городничего, как будто говорил: «Погоди, брат! еще успеешь попасть под суд!» – и даже исправник, который с омерзительным цинизмом рассказывал всем и каждому сокровеннейшие подробности своих интимных отношений к жене почтмейстера…
Уже в черновом автографе главы II («Веригин») была вычеркнута следующая ироническая характеристика двух типов промышленного меценатства, замененная ранней редакцией текста «Промышленные замыслы… из общего избиения» (стр. 268, строка 13 снизу – стр. 269, строка 5 сверху):
Промышленное меценатство имеет двоякий характер. Некоторые меценаты занимаются этим ремеслом, нисколько не веря в него, собственно ради того, чтобы множеством разнообразнейших сведений и цифр пустить пыль в глаза обычным жертвам акционерных предприятий; другие, напротив того, веруют в свое призвание искренно и искренно же надеются, что скромные их усилия прольют новый и плодотворный свет на экономическое положение любезного отечества. Как бы то ни было, акционерам от этого не легче, ибо в обоих случаях результат бывает совершенно одинаков.
Текст главы V «Тихого пристанища» отличается от соответствующего текста «Мастерицы» в основном лишь сокращениями: так, сильно сжаты эпизоды чиновничьих притеснений, по предположению В. В. Гиппиуса, – либо из опасений цензуры, либо с целью сосредоточить все внимание на самой раскольничьей среде.
Автографы глав VI и VII не сохранили сколько-нибудь значительных следов работы над их текстом.
Большая часть глав «Тихого пристанища» или же все главы повести в том составе, в каком она нам известна сейчас, были подготовлены к началу 1863 г. В пользу этого предположения свидетельствует следующее извещение на обложке двойной январско-февральской книжки «Современника» за 1863 г.:
«Для «Современника», между прочим, имеется:
«Что делать?», роман Н. Г. Чернышевского (начнется печатанием с следующей книжки).
«Брат и сестра», роман Н. Г. Помяловского.
«Тихое пристанище», роман М. Е. Салтыкова.
«Пучина», комедия А. Н. Островского».
Литературная родословная центрального образа «Тихого пристанища» восходит к ранним повестям Салтыкова. Веригина сближает с героями «Противоречий», «Запутанного дела» и «Брусина» остро ощущаемый разлад между «идеальными формами жизни» (социалистическими) и современной действительностью России. Так же как и его литературные предшественники, Веригин ищет пути и средства практического осуществления идеала «социальной гармонии».
Однако громадный опыт общественного движения периода подготовки крестьянской реформы, а затем революционной ситуации 1859–1861 гг. столь обогативший писателя идейно и политически, существенно изменяет и самую постановку этой проблемы, и ее образное решение.
Теперь сознание Салтыкова занимают не бесплодно мятущиеся книжные протестанты Нагибины, не трагически подшибленные жизнью Мичулины и запоздало немощные романтики Брусины, не бескрылые практицисты Николаи Ивановичи. Писателя глубоко волнует вопрос о новом типе общественного деятеля, связанного с революционными идеями и борьбой эпохи 60-х годов. Свои представления об этом типе Салтыков и обозначил в повести образами Веригина и Крестникова.
Проблематика «Тихого пристанища» многими своими сторонами тесно примыкает к тем вопросам, которые активно обсуждались Салтыковым в целом ряде произведений начала 60-х годов – «К читателю» (1861), «Каплуны» (1862), в программе несостоявшегося журнала «Русская правда» (1861–1862), хронике «Наша общественная жизнь» (1863–1864).