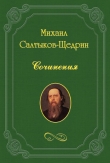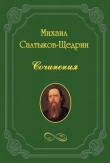Текст книги "Произведения"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 44 (всего у книги 50 страниц)
ПРИМЕЧАНИЯ
Вводная заметка к примечаниям написана Е. И. Покусаевым
Тексты подготовлены и примечания составлены: Д. И. Мишневой и H. Е. Прийма («Жених», «Яшенька»), Г. Н. Антоновой («Смерть Пазухина»), Т. И. Усакиной («Два отрывка из „Книги об умирающих“», «Характеры», «Глупов и глуповцы», «Глуповское распутство»), Л. Я. Лившицем, Е. И. Покусаевым и П. А. Супоницкой («Тени»). Текст «Каплунов» (полная редакция) подготовлен И. В. Порохом; примечания написаны Е. И. Покусаевым и И. В. Порохом. Текст «Тихого пристанища» подготовлен Г. Ф. Самосюк; примечания написаны Е. И. Покусаевым и Г. Ф. Самосюк. В разделе «Из других редакций» тексты подготовлены: В. Н. Баскаковым («Царство смерти»), Г. Ф. Самосюк («Мастерица»), В. Э. Боградом (сокращенная редакция «Каплунов»).
В состав четвертого тома входят произведения, относящиеся ко второй половине 50-х – началу 60-х годов. Одни из них («Жених», «Смерть Пазухина», «Два отрывка из „Книги об умирающих“», «Яшенька», «Характеры») были опубликованы в журналах, но в сборники Салтыковым не включались и не переиздавались. Другие по разным причинам и вовсе не появились в печати при жизни автора («Глупов и глуповцы», «Глуповское распутство», «Каплуны», «Тихое пристанище», «Тени»). Цензурные преследования или угроза запрета сыграли далеко не последнюю роль в судьбе некоторых из них.
По времени написания, по общему кругу тем и персонажей «Жених», «Смерть Пазухина», «Яшенька» и «Два отрывка» примыкают к первому циклу писателя («Губернские очерки»). Вместе с тем три последних произведения предназначались, по-видимому, уже для новой, задуманной Салтыковым «Книги об умирающих», которая так и не была создана. Не слились в цикл также и произведения «глуповской» серии (подробнее об этих двух неосуществленных циклах см. в т. 3 наст. изд.).
Разные по темам и проблематике, по жанру (сатирические очерки, рассказы, фельетоны, повести, драматические сатиры-комедии), наконец, по художественному уровню, произведения настоящего тома не лишены все же определенного единства. Они отражают идейно-политическое и художественное развитие Салтыкова в один из самых сложных периодов его общественно-литературной биографии. В годы революционной ситуации, в пред– и пореформенную пору, в эту столь значительную и богатую событиями полосу исторической жизни России внимание писателя приковано к острейшим проблемам современности (положение народных масс и перспективы крестьянской революции, роль демократической интеллигенции в освободительном движении, стратегия и тактика борьбы с крепостничеством и реакцией, философское, конкретно-историческое обоснование социалистического идеала, образ передового общественного деятеля и т. д.). «Жгучий вопрос эпохи»: что делать человеку демократических и социалистических убеждений в то время, когда пропасть разделяет косную жизнь глуповской России и социалистический идеал будущего, – этот вопрос приобрел у Салтыкова, как, может быть, ни у какого другого художника, его современника, сугубо личное и сугубо практическое значение.
Автор «Каплунов» и «Тихого пристанища» страстно искал ответа на вопросы времени, порой ошибался, но не упорствовал в заблуждениях, корректировал свои построения и тезисы. В этом процессе кристаллизации революционно-демократического мировоззрения великого сатирика огромную роль играли отрезвляющий и поучительный общественный опыт, опыт освободительной борьбы, наблюдения, обобщения, прогнозы передовой демократической публицистики и в первую очередь ее главы – Чернышевского. Большая ценность помещенных в данном томе произведений (в особенности тех, которые в свое время не попали в печать, и тех, от которых сохранились рукописные материалы, промежуточные редакции и варианты) и заключается, помимо всего прочего, в том, что они знакомят читателя с беспокойной, сложной и вместе с тем мужественной стихией ищущей и укрепляющейся революционной мысли художника, вводят в лабораторию его творчества, проливают свет на причины незавершенности многих оригинально тогда начатых идейно-образных разработок, на замыслы позднейших сатирических циклов.
Впервые произведения конца 50-х – начала 60-х годов, оставшиеся в рукописях или позднее не переиздававшиеся самим писателем, были собраны в Полном собрании сочинений, т. 4, Л. 1935 (далее: изд. 1933–1941 гг.).
Текстологическая подготовка и комментирование этих произведений в указанном издании очень тщательно и на высоком научном уровне были осуществлены В. В. Гиппиусом. Материалы и результаты текстологических исследований В. В. Гиппиуса, естественно, учитываются в настоящем издании. Из существенных отличий в составе настоящего тома от т. 4 изд. 1933–1941 гг. отметим следующие: в разделе «Из других редакций» впервые полностью публикуется «Царство смерти» (первая редакция комедии «Смерть Пазухина»). Здесь же печатается неизвестная ранее, сокращенная редакция очерка «Каплуны» (опубликована В. Э. Боградом в «Литературном наследстве», т. 67). Очерк «Глупов и глуповцы» печатается не по черновому автографу, как прежде, а по недавно обнаруженной корректуре «Современника». При подготовке настоящего тома учтены некоторые результаты текстологической работы сотрудников ИРЛИ В. Н. Баскакова и Г. Ф. Перминова, принимавших в 1958–1959 гг. участие в подготовке материалов для предполагавшегося академического издания собрания сочинений М. Е. Салтыкова-Щедрина.
ЖЕНИХ
Картина провинциальных нравов
Впервые – в журнале «Современник», т. 65, 1857, № 10, стр. 123–188 (ценз. разр. – 30 сентября), с посвящением И. В. Павлову. Подпись: Н. Щедрин. При жизни автора не перепечатывалось.
Рукописи неизвестны.
Рассказом «Жених» Салтыков дебютировал в «Современнике». По воспоминаниям Л. Ф. Пантелеева, Н. А. Некрасов летом 1857 г., по возвращении из-за границы, посетил писателя и, выразив крайнее сожаление, что, положившись на отзыв Тургенева, не дал места «Губернским очеркам» в «Современнике», предложил ему сотрудничество.[195]195
«М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников». Вступительная статья, подготовка текста и примечания С. А. Макашина, Гослитиздат, М. 1957, стр. 182. В дальнейшем: «Щедрин в воспоминаниях современников…».
[Закрыть] По-видимому, в ответ именно на это предложение Салтыков и дал «Современнику» «Жениха», хотя активным сотрудником журнала в то время не стал.
Точная дата написания рассказа неизвестна, приблизительная же устанавливается без труда. В гл. IV Салтыков ссылается в сноске на один из своих предыдущих рассказов – «Талантливая натура», опубликованный в 1-й июньской книжке «Русского вестника» за 1857 г. Затем рассказ был напечатан под новым названием «Горехвастов» в составе третьего тома «Губернских очерков», вышедшего в свет в начале октября 1857 г. (ценз. разр. – 7 сентября). Следовательно, «Жених» не мог быть написан ранее июня и позже сентября 1857 г.
По теме, месту действия, персонажам «Жених» примыкает к «Губернским очеркам», пополняя и обогащая данные там бытовые и сатирические характеристики провинциальных нравов дореформенной России. С «Губернскими очерками» рассказ «Жених» связан и своими персонажами (генерал Голубовицкий, Загржембович, Размановский, Порфирий Петрович, Разбитной, Рогожкин, Горехвастов и др.), и своей «топонимикой» (Крутогорск, Полорецк, Черноборск, Оков). Несомненно, «Жених» писался Салтыковым в рамках замысла «Губернских очерков» и первоначально, по-видимому, предназначался для включения в этот цикл.
В стилевой манере «Жениха» явственно ощутимы гоголевские интонации (особенно в обрисовке главного героя) и прямые заимствования отдельных комических положений из «Ревизора» и «Мертвых душ». Вместе с тем в «Женихе» появляются первые элементы начавшей складываться несколько позднее в произведениях «глуповского» цикла сатирической манеры Салтыкова с обращением к приемам фантастики и гротеска. Так рисуется появление в городе форштмейстера Махоркина («Небо изрыгнуло из себя огненного змия»). Изображенная в письме Песнопевцева картина бури, пронесшейся над Крутогорском, во время которой «ужасный капитан» Махоркин таинственно исчезает, – по словесным краскам, по неожиданному сюжетному повороту кое в чем предвещает знаменитый щедринский образ смерча в финале будущей «Истории одного города».
Некоторые образы и ситуации «Жениха» использовались Салтыковым в других произведениях, например в рассказах «Деревенская тишь» (сюда вошел в несколько измененном виде сон Мишки), «Гегемониев» (см. т. 3 наст. изд.).
Появление повести прошло в печати почти незамеченным. Зарегистрировано всего два кратких отзыва. Высказано было мнение, притом с явным критическим предубеждением, что повесть несет на себе следы влияния Гоголя. «Вологжанин не более как бледный сколок с Чичикова с примесью хлестаковских манер», – было сказано в «Обзоре литературных журналов» еженедельника «Сын отечества» (1857, № 46, 17 ноября, стр. 1126). Отрицательную оценку «Жених» получил и на страницах «Санкт-Петербургских ведомостей» в статье П. Б. (1857, № 234, 29 октября).
Стр. 5. Посвящается И. В. Павлову. – О взаимоотношениях Салтыкова и Павлова, товарищей по Московскому дворянскому институту и Царскосельскому лицею, см. в комментарии к их переписке 1857 г. в т. 18 наст. изд.
Стр. 6. Седьмые части – по существовавшему закону овдовевший муж, если его права не были ограничены или расширены завещанием, наследовал одну седьмую часть недвижимой собственности жены.
…в четвертый-то раз, пожалуй, и баста скажут… – Гражданское и церковное законодательство старой России запрещало вступать в брак более трех раз.
Почетные граждане – звание, присваивавшееся определенным категориям городских жителей-недворян, главным образом купцам.
Стр. 7. Хлапы – холопы.
Стр. 9. Билеты Московской сохранной казны. – При Петербургском и Московском воспитательных домах существовали кредитные учреждения под названием Сохранная казна. Они принимали вклады и выдавали ссуды. До 1859 г. билеты, выдававшиеся Сохранной казной вкладчикам, имели хождение на правах денег.
Стр. 10. Veni, vidi, vici – слова Юлия Цезаря после одной из его побед.
Стр. 11. Каролина Карловна – намек на «всесильную» в 50—60-х годах прошлого века Минну (Вильгельмину) Ивановну Буркову, фаворитку министра двора графа В. Ф. Адлерберга (ср. в пьесе «Тени» Клару Федоровну).
Стр. 13…он назвал мне такое место, об котором я даже и мечтать не мог… на первом плане откупщик… – место председателя казенной палаты. «Все председатели казенных палат, – вспоминал известный финансист Е. И. Ламанский, – были на содержании у откупщиков…» («Русская старина», 1915, № 3, стр. 577).
Стр. 15. Leone Leoni – герой одноименного романа Жорж Санд (1835).
Стр. 16…русская Швейцария… немецкая Швейцария – пригородные рощи Казани, места летнего отдыха, увеселений и гуляний казанцев. Салтыков побывал в Казани весной 1855 г. (см. С. Макашин. Салтыков-Щедрин. Биография, т. 1, М. 1951, стр. 383).
Стр. 23. Воксал – место общественных увеселений.
Мовешки, жолишка – жаргонные образования от французских слов: mauvais – дурной, плохой; joli – красивый.
Стр. 26…пачку билетов с награвированными на них птицами, кормящими детей своими собственными внутренностями. – Имеются в виду билеты Московской сохранной казны (см. прим. к стр. 9).
Иохимовский дормез – экипаж для дальних путешествий, изготовленный в мастерских петербургского каретника Иохима (от франц. dormir – спать).
Стр. 30. Теверино – герой одноименного романа Жорж Санд (1845) – красавец бродяга, атлет; им увлекается героиня-аристократка.
В отрубе – в ширину.
Стр. 31…глаза его, которые я однажды уже уподобил глазам пшеничного жаворонка… – в рассказе «Талантливая натура» («Горехвастов») «Губернских очерков» (ср. т. 2 наст. изд., стр. 318).
Начинал он обыкновенно с «Дороженьки»… – Упоминаемые здесь и дальше в рассказе русские народные песни являются одним из источников для характеристики фольклорных интересов Салтыкова. Эти песни встречаются во многих сборниках и публикациях конца XVIII – начала XIX в. Приводим уточненные или более полные и распространенные варианты названий песен с указанием первых или ранних публикаций их в сборниках, которые могли быть известны Салтыкову. «Дороженька» – «Не одна во поле дороженька…» («Русские народные песни, собр. и изд. Дан. Кашиным», М. 1833–1834); «Исполать тебе, зеленому кувшину – «Да спасибо же тебе, синему кувшину…» («Московский вестник», 1828, т. XI, № 18); «Веселая беседушка, где батюшки нет» – «Подуй, подуй, мать погодушка, низовенькая…» («Народные песни Вологодской и Олонецкой губернии, собр. Ф. Студитским», СПб. 1847, стр. 104); «Уж как пал туман» («Новейший и полный Российский песенник», М. 1810, стр. 169); «Не березонька с березкой свивалася» («Песенник 1821 г.», ч. III, стр. 173); «Во поле березонька стояла…» («Собрание народных русских песен с их голосами, на музыку положил Ив. Прач», изд. 2, СПб. 1806, ч. I, № 6); «Я вечор в саду, младешенька, гуляла» – фольклорный вариант песни поэта Г. А. Хованского «Незабудочки» («Я вечор в лугах гуляла…»), написанной в 1793 г.; «Расступись ты, мать сыра-земля!..» – заключительные строки песни «Как по матушке, по Неве-реке…» («Собрание разных песен» М. Д. Чулкова, СПб. 1770, ч. II, № 177).
Стр. 32. Брюсов календарь – по имени государственного деятеля и ученого Я. В. Брюса, под наблюдением которого календарь был составлен в 1709–1715 гг. Наряду с другими материалами содержал астрологические предсказания, извлеченные из латинских и немецких источников.
«Предсказания по Брюсу» неоднократно включались в календари, издававшиеся в XIX в.
Стр. 40…дремучий бор волос… это сила! это Самсон! – Необычайная сила библейского героя Самсона заключалась в его волосах.
Стр. 46. Гегемониев – этот образ, едва намеченный в «Женихе», был разработан вскоре в рассказе «Гегемониев» из незавершенной «Книги об умирающих» (см. т. 3 наст. изд.).
Стр. 47. Мартинизм – распространенное среди русских масонов учение португальского философа-мистика XVIII в. Мартинеца де Паскалиса и его ученика француза Сен-Мартена.
Стр. 50…в шестом классе и при безобидном содержании. – По табели о рангах (закон о порядке прохождения государственной службы, введенный Петром I) шестому классу соответствовал гражданский чин коллежского советника и титул потомственного дворянина.
Стр. 51. См. «Библиографические записки» M. H. Лонгинова… – В этих «Записках» M. H. Лонгинов сообщал о редком издании «Исследование книги о заблуждениях и истине. Сочинено особливым обществом одного губернского города. В Туле, 1790» («Исследование» было посвящено русскому переводу книги Сен-Мартена «О заблуждении и истине», отпечатанному в Москве в 1785 г. «иждивением» новиковского «Типографического общества» и изъятому из продажи в 1786 г.). При этом M. H. Лонгинов цитировал следующие строки из предисловия к изданию: «Все вещи телесные имеют начала бестелесные, например: дерево, камень, минерал существуют началами бестелесными». Несколько ниже эти строки текстуально используются Салтыковым в сатирических целях.
Стр. 52…пишут в газетах о комете… – см. прим. к стр. 79.
Стр. 53…история эта не современная, как это явствует и из счета денег на ассигнации. – Ассигнации в России существовали до 1843 г., когда они были заменены кредитными билетами.
Стр. 54. Стрекоза – персонаж, впервые появляющийся в очерке «Лузгин», действует также в ряде позднейших сатирических циклов Салтыкова («Дневник провинциала в Петербурге», «Культурные люди» и др.).
СМЕРТЬ ПАЗУХИНА
Впервые – в журнале «Русский вестник», т. 11, 1857, октябрь, кн. 1, стр. 467–538 (ценз. разр. – 15 октября). Подпись: Н. Щедрин. При жизни автора не перепечатывалось.
Рукописный материал представлен: 1) полным черновым автографом первоначальной редакции, называвшейся сначала «Смерть», затем «Царство смерти» и отнесенной цикловым заглавием, вписанным сверху, к «Губернским очеркам»; 2) писарской копией действия 1 второй редакции, первоначально озаглавленной, как и черновая – «Губернские очерки. Царство смерти. Комедия в 4-х действиях», – затем получившей заголовок «Конец венчает дело», в свою очередь зачеркнутый и замененный еще одним названием, которое стало окончательным, – «Смерть Пазухина».
Переработка «Царства смерти» в «Смерть Пазухина» сопровождалась значительными сокращениями текста. Ряд сокращений был вызван частичным изменением замысла и отражал новые требования автора к структуре произведения, так, например, были значительно сжаты сцены бытового характера, замедлявшие действие. Другая часть сокращений, по предположению В. В. Гиппиуса, имела характер приспособления к цензуре: исключены были, например, упоминания о государе, о пьянстве и воровстве в армии, о роли третьего сословия, о мошенничестве откупщиков (см. «Царство смерти», действие 1, сцены III, IV, VII, IX, стр. 422, 424, 428) и т. п. Переделав «Царство смерти» в «Смерть Пазухина», Салтыков использовал часть отброшенного материала действия 1 для самостоятельной сцены «Утро у Хрептюгина» (см. в т. 3 наст. изд.). Текст сцены вырабатывался на писарской копии действия 1 «Смерти Пазухина» (начиная с л. 24 рукописи). Подробную характеристику авторской работы над переделкой «Царства смерти» в «Смерть Пазухина» см. в текстологическом комментарии В. В. Гиппиуса в т. 4 изд. 1933–1941 гг. (стр. 477–489).
В настоящем издании «Смерть Пазухина» печатается по тексту «Русского вестника» с проверкой по рукописным источникам. В разделе «Из других редакций» впервые полностью печатается первоначальная редакция пьесы – «Царство смерти».
Документальных данных о времени написания «Смерти Пазухина» не имеется. Но хронологические рамки этой работы определяются довольно точно. Пьеса не могла быть написана раньше рассказа «Жених». В рассказе (и еще раньше в «Губернских очерках») уже упоминается купец Пазухин, но упоминание это еще совершенно беглое, эскизное и не совпадающее в деталях с явно позднейшими развернутыми описаниями Пазухина и его семьи в пьесе. «Жених» написан где-то между июнем и сентябрем 1857 г. (см. выше, стр. 525). А не позже первых чисел октября рукопись «Смерти Пазухина» уже должна была находиться в редакции «Русского вестника», первая октябрьская книжка которого с пьесой Салтыкова вышла в свет 15-го числа. Следовательно, датировать работу Салтыкова над «Смертью Пазухина» нужно в рамках июля – начала октября 1857 г.
Первоначальное заглавие пьесы – «Губернские очерки. Царство смерти. Комедия в 4-х действиях» – с очевидностью свидетельствует о существовавшем у Салтыкова намерении ввести это произведение в свой первый цикл. Неясно, однако, хотел ли он включить пьесу в третий том «Губернских очерков», но опоздал, так как том этот вышел в октябре 1857 г., или думал начать «Смертью Пазухина» «собирание» четвертого тома «Губернских очерков». Так или иначе, но пьеса тесно связана с «Губернскими очерками» и не только первоначальным заглавием, но и местом действия (Крутогорск) и рядом персонажей (Фурначев, Разбитной, Доброзраков, Хрептюгин и сам Пазухин).
Вместе с тем «Смерть Пазухина» связана и с другим творческим замыслом Салтыкова конца 50-х годов – «Книгой об умирающих», над которой он начал работать, отказавшись от намерения продолжать «Губернские очерки» (об этом замысле см. в т. 3 наст. изд., стр. 554 и след.). Вряд ли приходится сомневаться, что, если бы этот новый цикл был завершен, Салтыков ввел бы в него и столь подходящую для него по теме «Смерть Пазухина».
Салтыков был убежден, что развитие страны, требующее коренных перемен в ее общественных порядках, столкнет в историческую могилу, вместе с помещиками-рабовладельцами и дореформенным приказным чиновничеством, также и других «ветхих людей» крепостнической России. Не избегнет этой участи и патриархальное купечество – один из устоев той же изжившей себя крепостнической системы.
Такой подход был полемичен по отношению к почвенничеству и славянофильству. Идеологи этих направлений усматривали в русском купечестве хранителя лучших сторон национального характера, быта, миросозерцания. Ап. Григорьев, например, в своих статьях об Островском превозносил «огромный по значению в общественной жизни и огромный же по значению историческому купеческий класс, <…> класс, составляющий, так сказать, цвет собственно народных соков, класс, в котором, при многих, может быть, комических сторонах, сохранились наиболее остатки народного быта и развились притом на свободе, широко, вольно».[196]196
«Москвитянин», 1805, т. IV, №№ 13 и 14, июль, кн. 1 и 2, отд. «Журналистика», стр. 118.
[Закрыть] Со своей стороны, К. Аксаков видел в купечестве носителя «высоких нравственных преданий простоты, братства, христианской любви, семейного чувства» и утверждал, что купечество даст «добрый плод, творя теперь, и в ограниченной своей сфере, много истинно добрых дел».[197]197
«Русская беседа», 1857, т. I, кн. 5, отд. «Обозрения», стр. 32, 33.
[Закрыть]
В «Смерти Пазухина» Салтыков решительно отвергает эту идеализацию российского купечества. Купеческая среда предстает в его пьесе средоточием невежества, семейственной грызни, обмана, наглых преступлений. Той же печатью разложения и деградации отмечены и другие социальные силы – чиновничество (образ взяточника и лицемера Фурначева, предвосхищающий некоторые черты Иудушки Головлева) и опустившееся, ни на что не годное барство (генерал в отставке Лобастов, приживалка из «благородных» Живоедова и др.).
«Смерть Пазухина», утверждавшая в русской драматургии поэтику общественной реалистической комедии, резко противостояла либерально-обличительной драматургии конца 50-х годов. Развивая традиции гоголевского «Ревизора», Салтыков не дал в своей комедии ни одного положительного образа, в то время как, например, В. Соллогуб в «Чиновнике» (1856) нарисовал фигуру «идеального чиновника» Надимова, послужившую образчиком для целой галереи подобных «героев» либерального «обновления» России. Свое отношение к Надимову Салтыков выразил в рассказах «Озорники» и «Приезд ревизора» (см. наст. изд., т. 2, стр. 266, 539, и т. 3, стр. 35–36, 53–55, 566).
По свидетельству Л. Ф. Пантелеева, на вопрос, пробовал ли он писать для сцены, Салтыков «раздраженно отвечал»: «Написал одну гадость… совестно вспомнить… написал черт знает что такое – «Смерть Пазухина». Я ее теперь больше и не перепечатываю».[198]198
«Щедрин в воспоминаниях современников…», стр. 182.
[Закрыть] Однако этот позднейший отзыв писателя не совпадал с его отношением к пьесе в момент, когда она публиковалась. В 1857 г. Салтыков хотел видеть «Смерть Пазухина» на сцене и представил пьесу на рассмотрение театральной цензуры. Цензор И. Нордстрем в докладе Управлению III Отделением отрицательно расценил пьесу, увидев в ней беспощадное разоблачение российского общественного строя: «Лица, представленные в этой пьесе, доказывают совершенное нравственное разрушение общества».[199]199
«Литературное наследство», т. 13–14, 1934, стр. 122.
[Закрыть]
Представляет интерес как первый читательски-сочувственный отзыв о пьесе запись о ней 21 октября (2 ноября) 1857 г. в дневнике А. И. Артемьева, известного в свое время статистика, этнографа и историка, сослуживца писателя по министерству внутренних дел: «„Смерть Пазухина“ – хороша и замечательна в том отношении, что в первый раз выводит на сцену генералов и статских советников настоящими ворами, забирающимися в чужой сундук».[200]200
«Щедрин в воспоминаниях современников…», стр. 439.
[Закрыть]
В некоторых либеральных кругах пьеса оценивалась также положительно, но при этом оказались непонятыми обобщающий смысл ее образов, особенности ее драматического конфликта. «„Смерть Пазухина“ как очерки явлений из современной русской жизни, – писал, например, известный общественный деятель и педагог В. Я. Стоюнин, – представляет много интересного и, пожалуй, много характеристического. Читая все эти сцены, мы верим, что все это действительно было, но было как случай; что все эти лица действительно жили, живут, но как исключительные личности».[201]201
«Театральный и музыкальный вестник», 1858, № 10, 9 марта, стр. 111.
[Закрыть]
Отрицательному разбору пьеса Салтыкова подверглась на страницах «Санкт-Петербургских ведомостей», расхваливавших комедии В. Соллогуба, Н. Львова и других либерально-обличительных драматургов. Анонимный рецензент писал: «Где действие, где борьба, где катастрофы, где характеры, где идея, где естественность, где жизнь, где правда? Как не было начала, так нет и конца: какой драматизм в том, что богатство Пазухина досталось законному наследнику без борьбы, без усилий, без препятствий? В судьбе Фурначева тоже нет ничего жизненного и драматичного; все искусственно, нелепо, отвратительно».[202]202
H. H. «Русская литература. Журналы. «Смерть Пазухина», комедия Н. Щедрина». – «Санкт-Петербургские ведомости», 1857, № 261, 30 ноября,
[Закрыть]
Резко отозвался о «Смерти Пазухина» Л. Н. Толстой, осуждавший «изобличительную литературу» как «благородное», но «одностороннее увлечение»: «„Смерть Пазухина“ невозможная мерзость»,[203]203
Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 47, М. 1937, стр. 161.
[Закрыть] – записал он в своем дневнике под 30 октября 1857 г.
«Смерть Пазухина» была разрешена к представлению лишь после смерти Салтыкова. Впервые и с успехом она была показана Харьковским театром 30 декабря 1889 г. («Харьковские губернские ведомости», 1890, № 1, 1 января, стр. 3).
Две следующие постановки, осуществленные в 1893 г. Александрийским театром в Петербурге и одновременно театром Ф. Корша в Москве, были неодобрительно встречены критикой, упрекавшей и пьесу и спектакль в «натурализме» (А. Суворин. – «Новое время», 1893, № 6382, 3 декабря), в «отражении литературных влияний» Гоголя и Островского (К. – «С.-Петербургские ведомости», 1893, № 381, 4 декабря). Такие суждения объяснялись в значительной мере тем, что в обеих постановках сатирическая комедия Салтыкова была трактована как чисто бытовая драма из жизни купечества, в духе подражания театру Островского.
Аналогичными оценками была встречена критикой возобновленная в 1904 г. постановка салтыковской комедии в Александрийском театре.
Крупной вехой в истории театральной интерпретации «Смерти Пазухина» явилась постановка пьесы в Московском Художественном театре 3 декабря 1914 г. (режиссеры – В. И. Немирович-Данченко, В. В. Лужский и И. М. Москвин; исполнители главных ролей – И. М. Москвин, Л. М. Леонидов, В. Ф. Грибунин и др.). В письме к Л. Я. Гуревич от 2 октября 1914 г. К. С. Станиславский писал: «…против Щедрина – ничего нельзя сказать. Это сатира, но и в ней сказывается русская мощь».[204]204
«О Станиславском». Сборник воспоминаний, изд. ВТО, М. 1948, стр. 156.
[Закрыть]
«„Смерть Пазухина“ был очень полнокровный спектакль», – вспоминал впоследствии В И. Немирович-Данченко.[205]205
Вл. И. Немирович-Данченко. Щедрин в Художественном театре. – «Литературное наследство», т. 11–12, 1933, стр. 46.
[Закрыть] Сила этой постановки заключалась в том, что в ней впервые «Смерть Пазухина» прозвучала не как бытовая только, но и яркая сатирическая комедия.
В том же духе, но все же с меньшей социальной остротой пьеса была истолкована Художественным театром и в первой послереволюционной
Стр. 1359. Любопытный отклик на эту рецензию сохранился в дневниковой записи упомянутого А. И. Артемьева от 30 ноября (12 декабря) 1857 г.: «В сегодняшнем нумере «С.-Петербургских ведомостей» помещен очень злой разбор салтыковской пьесы «Смерть Пазухина». Ее бранят страшно. Но, по моему мнению, эта пьеса несравненно выше львовской, производящей теперь фурор благодаря превосходной игре актеров. «Свет не без добрых людей» <Н. Львова> – тот же «Чиновник» <В Соллогуба>, вывернутый наизнанку: та же риторика, те же ходули, та же неестественность. У Салтыкова более последовательности и связи». – «Щедрин в воспоминаниях современников…», стр. 439.постановке 1924 г. А. В. Луначарский, высоко оценив этот спектакль в целом как «удивительно талантливый, глубоко содержательный», одновременно отмечал: «…в исполнении Художественного театра не было достаточной злобы. <…> Было страшно весело. Чудесное искусство актеров как бы примиряло с действительностью».[206]206
«К возвращению старшего МХТ». – А. В. Луначарский. Собр. соч. в восьми томах, т. 3, изд. «Художественная литература», М. 1964, стр. 163.
[Закрыть]
Глубокое прочтение пьесы в духе беспощадного социального критицизма и политической сатиры было дано Художественным театром в третьей постановке, 1939 г. (режиссеры – В. И. Немирович-Данченко и И. М. Москвин, ведущие актеры И. М. Москвин, игравший Прокофия Па-зухина, и M. M. Тарханов, исполнявший роль Фурначева).
Успешные постановки «Смерти Пазухина» осуществили также: в 1954 г. – Театр киноактера в Москве с ярким исполнением С. А. Мартинсоном роли Живновского и в 1955 г. – Ленинградский театр драмы имени Горького.[207]207
О постановках «Смерти Пазухина» на сцене русских и зарубежные театров см. сводку материалов в работах: Ю. Соболев. Щедрин на сцене. – «Литературное наследство», т. 13–14, 1934, и Д. Золотницкий. Щедрин-драматург, М. – Л. 1961.
[Закрыть]
Стр. 64. Посвящается В. П. Безобразову. – В конце 50-х годов Салтыков находился в близких дружеских отношениях со своим младшим лицейским товарищем, экономистом и публицистом В. П. Безобразовым, одним из посредников в деле опубликования «Губернских очерков» в «Русском вестнике». Вскоре, однако, Салтыков разошелся с политически поправевшим Безобразовым. Об их взаимоотношениях см. в комментариях к письмам Салтыкова к Безобразову (т. 18 наст. изд.) и к памфлету сатирика против Безобразова «Человек, который смеется» (т. 9 наст. изд.).
…происхождением из сдаточных – из рекрутов.
Стр. 65. «И возлюбят людие…»– Впервые эта цитата из раскольнического «Слова от старчества об антихристовом пришествии» приводится в рассказе «Хрептюгин и его семейство» из «Губернских очерков» (см. т. 2 наст. изд., стр. 145).
Стр. 66. «Постризало да не взыдет на браду твою…» И в Стоглаве так сказано! – Неточная цитата из «Стоглава», свода установлений церковного собора 1551 г. по вопросам религиозной обрядности и житейского быта (ср. «Постризало да не взыдет на браду вашу, се бо мерзско есть пред богом»). «Стоглав», осужденный церковью после реформы Никона и запрещенный духовной цензурой, признавался в старообрядчестве за обрядово-религиозный кодекс. Салтыков познакомился со «Стоглавом» по одному из его рукописных «изданий» в годы службы в Вятке. Первое печатное издание «Стоглава» появилось лишь в 1860 г. в Лондоне.
Стр. 67…в благородные, чу, скоро попадет! Губернатор-от его уж в надворные советники… представил! – Надворный советник – гражданский чин седьмого класса, дававший, до 1856 г., право на потомственное дворянство независимо от социального происхождения.
Стр. 68…как отцы соловецкие за древнее благочестие пострадали… – Имеется в виду жестокая расправа царского правительства с монахами, участниками восстания Соловецкого монастыря в XVII в. Это восстание, имевшее антикрепостнический характер, проходило под лозунгом борьбы за «старую веру» против реформ Никона. Среди старообрядцев пользовалось популярностью посвященное этому событию сочинение Семена Денисова – «История об отцах и страдальцах соловецких». Уды – конечности (церковнослав.). Ср. ту же цитату из «Истории об отцах и страдальцах соловецких» в наброске «Мельхиседек» (т. 2 наст. изд., стр. 546).
Стр. 71…у меня на ломбартном билете птица есть нарисована… О таких же билетах Сохранной казны упоминается в «Женихе» (см. выше, стр. 26 и 527).
Стр. 72. Про родительское сердце еще царь Соломон в притчах писал! – «Книга притчей Соломоновых» в Библии написана в форме родительских наставлений любимому сыну.
Стр. 76. Шавера – сплетники (ср. «Губернские очерки» – т. 2 наст. изд., стр. 191).
Стр. 78. Статский советник – гражданский чин пятого класса, равный первому генеральскому чину на военной службе.
Стр. 79. Итак, в настоящем году следует ожидать кометы! – Слухи о возможном появлении кометы ходили в 1857 г. В «Московских ведомостях», например, от 20 апреля 1857 г., № 48, на стр. 409 сообщалось (эту газету и читает Фурначев): «Ныне некоторые обеспокоены появлением какой-то огромной кометы, которая будто бы столкнется с Землею».