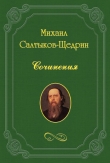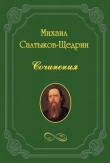Текст книги "Произведения"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 47 (всего у книги 50 страниц)
В 1864 г. Салтыков предпринял новую попытку напечатать «Глуповское распутство» под измененным названием «Впереди» в «Современнике» № 11–12. Корректура этой сокращенной редакции очерка свидетельствует, что автор, перерабатывая очерк, приспосабливал его к цензурным условиям. Самое большое число сокращений было сделано за счет характеристики Зубатова в его отношениях с Сидорычами. Изъяты были и пророчества о надвигающейся гибели «старого Глупова». Но и в таком виде очерк был запрещен Петербургским цензурным комитетом 30 декабря 1864 г..[221]221
Там же, стр. 320.
[Закрыть]
Спустя год, уже находясь в Пензе, писатель еще раз, последний, вернулся к «Глуповскому распутству». Он положил в основу предпринятой переработки текст «Впереди». Однако начатая работа осталась незавершенной. Сохранившееся же начало рукописи показывает, что пензенская редакция 1865 г. отличается от текста «Впереди» только именем барыни, названной Анной Павловной, и очень небольшими стилистическими исправлениями (опубликовано в т. 4 изд. 1933–1941 гг., стр 499–502).
«Глуповское распутство» – одно из тех произведений Салтыкова, в которых непосредственно отразились острота и напряжение классовой борьбы в стране периода революционной ситуации конца 50-х – начала 60-х годов. Главный предмет сатиры определен в ее заглавии. «Глуповским распутством» Салтыков называет политику «заигрывания» дворян-помещиков с крестьянством, едва выходящим из крепостной неволи, классово-своекорыстные и потому лицемерные поиски «общности интересов» между ними, циничные восхваления «заслуг» помещиков перед крестьянами. В качестве исторических realia к одному из объектов салтыковской сатиры в «Глуповском распутстве» можно сослаться, например, на одно из выступлений М. П. Погодина по поводу крестьянской реформы, в котором этот идеолог официальной или, по выражению Н. Г. Чернышевского, казенной народности писал: «Крестьяне потянутся длинной вереницей к своим помещикам, поднесут им хлеб-соль и, низко кланяясь, скажут: спасибо вашей чести на том добре, что мы, наши отцы и наши деды от вас пользовались, не оставьте нас и напредки вашей милостью, а мы ваши слуги и работники».[222]222
М. П. Погодин. По поводу крестьянского дела. – «Северная пчела» от 28 февраля 1861 г., № 48. Ср. «Красное яичко для крестьян от М. П. Погодина», 1861.
[Закрыть] В разных формах те же мысли варьировались на страницах «Санкт-Петербургских ведомостей», «Русского вестника», «Отечественных записок», «Домашней беседы» и др. «Вся эта невеликодушная болтовня, оскорбительная для народа и для здравого смысла<…>, – негодовал Герцен, обозревая журналы 1861 г., – скрывает свое внутрь взошедшее плантаторство под либеральной патокой и прогрессивным суслом».[223]223
«Шляхетные статьи и письма в русских журналах». – «Колокол», л. 110 от 1 ноября 1861 г. Ср. А. И. Герцен. Собр. соч., т. XV, стр. 177.
[Закрыть]
«Глуповское распутство» – одна из самых эзоповских сатир Салтыкова. Острейшее политическое содержание и глубокий социально-философский смысл замаскированы здесь внешне нейтральными бытовыми эпизодами. Попытки исторически умирающего дворянско-помещичьего мира поправить свое положение путем политики «сближения сословий» персонифицируются Салтыковым в истории неудачного сожительства стареющей барыни Любови Александровны и молодого крестьянского парня Петрушки.[224]224
Анализ политического содержания «Глуповского распутства» см.: Е. И. Покусаев. Салтыков-Щедрин в шестидесятые годы, Саратов, 1958, стр. 146–153.
[Закрыть]
От рассказа о Любови Александровне, не устоявшей перед соблазном увлечения Петрушкой и бессильной обуздать претензии своего фаворита, Салтыков переходит к истории Глупова, поясняя смысл этого сближения аналогией с историей Древнего Рима, павшего от рук «Пастуховых детей». Варианты рукописи свидетельствуют, что при сравнении Глупова с Римом писатель старался найти наиболее точный образ для выражения своей концепции гибели старого мира. Рим пал, но Глупов, «собственно, не падает, а скорее выворачивается наизнанку». После этого зачеркнуто: «или, лучше сказать, разлагается». В окончательном тексте Салтыков устранил эту фразу, но мысль о «разложении» «издыхающего» Глупова стала одним из главных идейных мотивов очерка.
Параллель между Глуповым и Римом, перешедшая потом в «Историю одного города», возможно, была навеяна полемикой «Современника» с «Колоколом» 1861–1862 гг. об исторических судьбах России и Европы (см. статью Чернышевского «О причинах падения Рима» и ответ Герцена «Repetitio est mater studiorum»). Автор «Глуповского распутства» воспользовался историей падения Рима в целях сатирического обличения самодержавно-помещичьего строя и доказательства неизбежного его краха под действием двух причин: натиска Иванушек и «ветхости» собственных устоев.
По сравнению с очерком «Глупов и глуповцы», Салтыков углубил и художественно конкретизировал характеристику отношений между правительством («генералом Зубатовым») и дворянством («Сидорычами и Трифонычами»). Одним из поводов, обративших писателя к этим вопросам, были попытки консервативной и либеральной журналистики противопоставить дворянство как «земскую», «народную» силу чиновничеству, централизованной «бюрократии». В начале 1862 г. о «независимой» позиции дворянства неоднократно писал «Русский вестник» и, маскируя помещичье содержание реформы, обличал «излишества централизации административной».[225]225
«К какой принадлежим мы партии?». – «Русский вестник», 1862, № 2, стр. 840–842. См. также «Несколько слов по поводу одного иронического слова». – Там же, № 3.
[Закрыть] Выступление такого рода Салтыков иронически обыграл в дебатах Сидорычей, взявших в обычай «подсмеиваться над Зубатовым и отрекаться от родства с ним». С другой стороны, Салтыков показал несостоятельность попыток самодержавия отмежеваться от реакционного дворянства. Салтыков писал о Зубатове-реформаторе: «Как ни рядись, как ни кумись с Иванушками, все-таки от него будет нести сидоровщиной да трифоновщиной – и ничем больше». В этом смысле «Глуповское распутство» является сатирическим комментарием к первому пореформенному году, перекликаясь во многом с критикой правительственных «мероприятий» в «Письмах без адреса» Чернышевского.
Образно-бытовые сценки, передающие историю Глупова, пронизаны страхом Зубатова и Сидорычей, инстинктивно или сознательно ощущающих, что «обойти Иванушек невозможно», и заигрывающих с ними. По внутренней логике развития сюжета Иванушки становятся главным предметом повествования.
Крестьянство, в толковании автора «Глуповского распутства», уже настолько начало сознавать себя, что не пойдет на компромисс ни с помещиками, ни с правительством. Как бы ни заискивали перед ними Сидорычи и Зубатов, – Иванушки слишком хорошо помнят свое прошлое, чтобы поверить в благожелательность своих угнетателей. Это горькое прошлое Иванушек, обреченных столетиями на голод, побои, рекрутчину, освобождает их от всяких обязательств по отношению к судьбам дворянски-бюрократического Глупова. Факт «непричастности» Иванушек к собственно дворянской «глуповской истории» и «миросозерцанию» был в 1862 г. одним из источников оптимизма Салтыкова. В этом смысле сатирик сближался с Чернышевским и Герценом. Последний писал, что «полтораста лет бесчеловечнейших истязаний, унижений» избавили русский народ от «уважения» к своим «историческим воспоминаниям», и видел в этом обстоятельстве – «задаток самобытного будущего развития».[226]226
«Repetitio est mater studiorum». – «Колокол», л. 107 от 15 сентября.1861 г.; «Mortuos plango». – Там же, л. 118 от 1 января 1862 г. Ср. А. И. Герцен. Собр. соч., т. XV, стр. 147; т. XVI, стр. 12–14. Об этом же неоднократно говорил и Чернышевский. См., например, «О причинах падения Рима». – «Современник», 1861, № 5.
[Закрыть]
По сравнению со статьями о Кольцове (1856) и «Сказании» инока Парфения (1857) и даже очерком «Скрежет зубовный» (1860), где творчество народа рисовалось еще в тонах предположительных и гадательных, в «Глуповском распутстве» изображено начавшееся пробуждение исторического сознания народа. «Мнение» Иванушек заставило Зубатова взяться за реформу, вынудило Сидорычей политически изощряться, заигрывая с народом, и держать наготове цикл «мероприятий» – на случай бунта.
Способность народа к активным формам борьбы и завуалированные исторические примеры революционного протеста крестьян иронически обозначены в очерке понятием «неосновательности» и «неразумия» Иванушек, извлеченным из охранительной публицистики и иронически переосмысленным. Публицисты «Русского вестника», «Нашего времени», «Дня» стремились доказать «случайный» характер этих «общественных потрясений», «не основанных» на «разумных» «зиждительных элементах» истории.[227]227
«Русский вестник», 1862, № 2, стр. 839–840.
[Закрыть]
Но, изображая растущее влияние Иванушек, писатель не закрывал глаза на их слабость и недостатки. Революционность народных масс расценивалась им еще очень невысоко, и в этом смысле в «Глуповском распутстве» наметились уже тенденции, нашедшие свое завершение в «Истории одного города». Характеристика Иванушек, не лишенная иронии и намеренного огрубления, будила мысль о необходимости одухотворения действий народа (см. очерк «Каплуны» и прим. к нему).
Первоначально Салтыков намеревался поставить вопрос об отношении глуповцев к «утопиям» и революции. В черновых вариантах основной рукописи содержится приведенный выше отрывок (см. стр. 555), позволяющий судить о точке зрения Салтыкова на эти коренные остродискуссионные вопросы времени. Вычеркивая эти страницы, писатель, вероятно, руководствовался тем, что указание на глуповскую мысль, которая «все-таки теплится», а желания – «все-таки шевелятся», вступало в противоречие с картиной совершенного «растления» Глупова. Рассуждения об «утопиях» (обозначение социалистических идеалов), да еще со ссылкой на пример французов, «наплевавших на историю», то есть совершивших революцию, нарушали общий строй повествования о Сидорычах с их заботами о «сладком куске» и «экспедициями насчет клубнички». Характеристика философии «глуповских граждан» могла быть устранена и потому, что она требовала дополнительных разъяснений, уводящих от основной темы – изображения «глуповского распутства» перед угрозой непокорности Иванушек, которые «как-то все лезут да лезут вперед».
Очерк заканчивается апелляцией автора к искренности старого Глупова, призывом к нему сознать конец былого «величия» и добровольно расстаться со своей «тысячелетней цивилизацией». Но просветительское обращение к совести Сидорычей противостоит всему смыслу очерка, рисующему непримиримость противоречий между Сидорычами и Иванушками, показывающему невозможность взаимных уступок и соглашений между ними.
Стр. 212. Митрофан Простаков. – Образ Митрофана из комедии Фонвизина «Недоросль» (1782) не раз использовался в позднейших произведениях Салтыкова. Собирательная сатирическая характеристика этого типа дана во введении к «Господам ташкентцам» (1869–1872). См. также «Помпадуры и помпадурши» («Помпадур борьбы, или Проказы будущего», 1873), «Круглый год» (1880), «Пошехонские рассказы» (1883–1884).
Если верить «Истории» Кайданова, нечто подобное… случилось некогда с Западной Римской империей. – В «Руководстве к познанию всеобщей политической истории» (ч. 1, Древняя история) И. К. Кайданов, автор популярных в 20—30-х годах учебников истории, – по ним учился и Салтыков, – объяснял падение Рима «всеобщим развращением нравов», называя среди прочих причин «вторжение северных и других народов».
Стр. 214. А ветер… прорываясь сквозь пазы ветхих мужичьих избенок, так-то жалостливо ноет… спи, Иван! ж-ж-ж-и-и-и! сирота! – Причитания ветра явственно перекликаются с «Песней убогого странника» из поэмы Некрасова «Коробейники» (1861). Настроения, отразившиеся в этих стихах Некрасова, Чернышевский, борясь за воспитание в крестьянстве революционной решимости и энергии, назвал «жалкими» («Не начало ли перемены?». – «Современник», 1861, № 11. Ср. Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. VII, стр. 874). Возражая Чернышевскому, к «Песне» Некрасова обратился и Герцен, дав ей совершенно иную оценку в соответствии со своим представлением о народе, «голодном» и «нагом» («Мясо освобождения». – «Колокол», л. 121 от 1 февраля 1862 г. Ср. А. И. Герцен. Собр. соч., т. XVI, стр. 28).
Стр. 220. Аксиос – достоин (греч.); здесь в смысле: туда ему и дорога. Ср. т. 3, стр. 567.
Стр. 221…Петрушка в красном жилете и голубых штанах… – Это костюм санкюлотов в годы Великой французской революции.
Стр. 225. Но если в тебе самом нет средств настроить жизнь на иной лад… быть может, она найдется в «непочатых рудниках»… – Имеются в виду самопризнания правящих сословий. И. С. Аксаков, например, сетуя на «бессилие образованных классов», неспособных «устоять на собственных ногах», призывал их к «слиянию» с «народными началами», которые крепки «своим бытом» и «ясным сознанием» («День», № 1 от 15 октября 1861. г.). Для лексики славянофилов характерен и термин «непочатые рудники» – обозначение народной стихии. В 1861–1862 гг. «Русский вестник» также предлагал помещикам и государственным чиновникам «стать живыми членами народа», «черпая из него новые силы» («Кое-что о прогрессе». – «Русский вестник», 1861, № 10, стр. 109–112. См. также редакционные, статьи в № 2, стр. 839–842, и № 3, стр. 452 за 1862 г.).
Стр. 226. Убеждаясь… в совершенной неспособности старых глуповцев, приглашаем их очистить место для Иванушек… – По-видимому, пародийное изложение мнений либерального дворянства, нашедших выражение в адресах на имя Александра II в конце 1861 – начале 1862 г. В этом отношении наибольшим радикализмом отличался адрес дворян Тверской губернии (2 февраля 1862 г.), где служил тогда Салтыков. Требуя политических свобод для «всех сословий», тверские помещики отказывались от «позорных преимуществ», которые поставили дворянство в «положение тунеядцев, совершенно бесполезных родине». См. след. прим.
Стр. 227. «Не обижаться, ибо тут штука». – Ироническим наименованием «штука» сатирик стремился, очевидно, намекнуть на безвредность либеральных деклараций и «примирительных попыток» дворянства для сохранения его корпоративной организации и господствующего положения в управлении страной, что, по мысли Салтыкова, понимали и наиболее проницательные Сидорычи, рекомендуя собратьям «не обижаться».
Стр. 228…водевиль есть вещь, а прочее все гиль… – Из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (действие IV, явл. 6).
Стр. 229…изыскать средства. – Речь идет о средствах государственного насилия для подавления активных форм народного недовольства.
Ваньки встречались во всякое время; бывали случаи, когда они даже очень достаточно пакостили… Еще недавно Большая Глуповица была позорищем беспорядочности ванькинских чувств… – Сатирик имеет в виду крестьянские войны прошлого, проясняя смысл этих исторических примеров напоминанием о «недавнем» для того времени эпизоде народной борьбы – волнениях поволжских крестьян, в том числе о восстании в Бездне, закончившемся массовым расстрелом (12 апреля 1861 г.).
Стр. 230. Прошедшее успокоивает нас, будущее тревожит – устроим так, чтоб это будущее было результатом прошедшего… – Салтыков обличает распространенные в то время дворянские теории «прогресса». Так, например, M. H. Катков, развивая свой взгляд на «истинно прогрессивное направление», подчеркивал, что оно «должно быть в сущности консервативным»: «Народная жизнь тем прогрессивнее и тем богаче, чем менее совершается в ней успешных насилий», «чем менее забывала она свое прошедшее» – во имя «будущего» («Кое-что о прогрессе». – «Русский вестник», 1861, № 10, стр. 109–113; 1862, № 2. стр. 839).
…когда я служил в Белобородовском гусарском полку, мы знатные трепки этим Ванькам задавали! – В Белобородовском полку служил и другой герой Салтыкова – Живновский (см. стр. 99 и 180 наст. тома).
Стр 233…потрепали по щечке… определили в рабочий дом… поставили в ряды защитников отечества… – то есть, в переводе с эзоповского языка, – избили… заключили в тюрьму… сдали в рекруты.
Стр. 234…нашим старым знакомым, господином Зубатовым. – Сатирический портрет Зубатова как воплощения бюрократических принципов самодержавной власти в губернском ее варианте см. в очерке «Зубатов», т. 3 наст. изд. См. там же «К читателю», «Погоня за счастьем», «Литераторы-обыватели», «Наши глуповские дела», где сатирик, возвращаясь к Зубатову, заставлял его все более искусно лавировать между откровенными репрессиями и показным либерализмом.
Войду ли я в гостиную… он там… – Пародическое использование псалма 138 («Войду ли на небо – ты там» и т. д.).
…от Зубатова, этого, так сказать, первого глуповского гражданина? – «Первым гражданином России» в многочисленных адресах и речах по случаю «высочайших рескриптов» о подготовке и проведении реформы именовался Александр II, который назвал себя в обращении к московскому дворянству «первым дворянином в государстве» (см. об этом: Н. Огарев. Ход судеб. – «Колокол», л. 122–123 от 15 февраля 1862 г.).
Стр. 235. «А кто тебе помог сплутовать… Я помог тебе, козлиная борода!» – реплика городничего из пятого действия комедии Гоголя «Ревизор» (явл. II).
Что имя? звук пустой… – строка из стихотворения Лермонтова «Ребенку» (1840).
А отдувались за все… какие-нибудь унтер-офицерши да слесарши Пошлепкины… – Речь идет о сцене Хлестакова с просителями из четвертого действия «Ревизора», явл. XI.
Стр. 236. Сидорычи обвиняют Зубатова в том, будто он первый открыл Иванушек… но справедливость требует сказать, что заприметил тогда, когда уже и нельзя было не заприметить их… – «Лучше начать уничтожать крепостное право сверху, – говорил Александр II московскому дворянству 30 марта 1856 г., – нежели дождаться того времени, когда оно начнет само собой уничтожаться снизу». Об этом же напоминал царь в Государственном совете и 28 января 1861 г., предупреждая противников крестьянской реформы, что «всякое дальнейшее промедление может быть пагубно для государства» (см. «Освобождение крестьян». – «Колокол», л. 93 от 1 марта 1861 г.).
…когда Иванушки упали к нему, как снег на голову, он вздохнул… и вздохнул об вас, Сидорычи! – Собственная служебная практика Салтыкова убеждала его в том, что при осуществлении реформы правительство заботилось прежде всего об охране дворянско-помещичьих интересов: «Я люблю дворянство, считаю его первой опорой престола», – говорил Александр II, заверяя, что «интересы дворян всегда близки его сердцу» (из обращений к московскому и псковскому дворянству 31 августа 1858 г. и 11 ноября 1859 г.).
Стр. 238. Соника – сразу же, с первой ставки (термин карточной игры).
Стр. 239. Сидор Сидорыч. – В характеристике Сидора Сидорыча угадываются отдельные черты будущего Иудушки Головлева.
…Зубатов циркулярно и наистрожайше запретил употреблять что бы то ни было, кроме кротости… – Ирония в адрес «Манифеста 19 февраля», где царь призывал дворянство «исполнять новые положения в добром порядке, в духе мира и доброжелательства» и неоднократно напоминал об «уважении к достоинству человека и христианской любви к ближнему».
Стр. 240–241. Так ли поступили древние римские сенаторы… А Глупов?! – Сатирически осмеивая позицию русского дворянства, Салтыков противопоставляет трусливой разобщенности Сидорычей единство римских сенаторов, павших от мечей воинов Бренна, но не оставивших Сената. В этой же связи писатель упоминает о последнем наместнике Римской Галлии Сиагрии, который оставался верен империи, продолжая войну с франками в течение целого десятилетия после низвержения западно-римского императора Ромула Августула германским военачальником Одоакром (476 г.).
КАПЛУНЫ
При жизни Салтыкова напечатано не было. Первоначальная редакция (начало 1862 г.) впервые – в журнале «Нива», 1910, № 13, стр. 250–254;[228]228
Более исправно и с приведением важнейших вариантов черновой рукописи первоначальная редакция напечатана В. В. Гиппиусом в изд. 1933–1941 гг., т. 4, стр. 279–292, 502–503.
[Закрыть] позднейшая редакция (конец 1862 г.) впервые в «Литературном наследстве», т. 67, М. 1959, стр. 321–326.
Сохранились: 1) черновой автограф первоначальной редакции очерка с заголовком «Каплуны»; на полях листа 3-го рукою Салтыкова помета карандашом: «О том, что самое воздержание от жизни нужно подготовить»; 2) цензурный экземпляр корректурных гранок первоначальной редакции (предназначалось для «Современника», 1862, № 5), с заголовком: «11. Каплуны. Последнее сказание», эпиграфом из Гейне, многочисленными вычерками и подчеркиваниями цензора Ф. П. Еленева и с запретительной резолюцией министра просвещения А. В. Головнина, такой же, как на гранках «Глуповского распутства». Текст гранок восходит к неизвестной нам беловой рукописи. От чернового автографа текст гранок отличается большим количеством авторских изменений и дополнений; 3) корректурные гранки позднейшей редакции очерка в цикле-подборке «Глупов и глуповцы. I. Общее обозрение. II. Деревенская тишь. III. Каплуны» (для «Современника», 1863, № 1–2); 4) корректурные гранки январской хроники «Наша общественная жизнь» за 1863 г. с ненапечатанным в «Современнике» окончанием, представляющим собою переработанную часть очерка «Каплуны».
В настоящем издании печатается по цензурному экземпляру корректурных гранок майской книжки «Современника» за 1862 г. без учета цензорской правки, с проверкой по автографу. Переработанная и сокращенная редакция, предназначавшаяся для январско-февральского номера «Современника» за 1863 г., печатается по корректурным гранкам в разделе «Из других редакций» (стр. 505–512). Редакцию, которая вошла в состав «Нашей общественной жизни», см. в т. 6 наст. изд. («Из других редакций»).
Приводим важнейшие варианты черновой рукописи:
Стр. 245, строка 15 сверху. После: «в наше тревожное и тяжелое время» – в рукописи было:
И сытость и довольство собой (эти два, несомненно, главнейшие условия действительно счастливой жизни) так удачно сочетались в нем, что оба находятся в постоянном равновесии и служат как бы необходимым друг к другу дополнением. Сытость благоприятно действует на расположение духа, сообщая ему ту ясность и благодушие, которыми никогда не могут обладать птицы голодные или оборванные, а довольство душевное, с своей стороны, помогает его организму отчетливее переработывать всякую предлагаемую снедь и покрываться слоями жира с тою неторопливою, но прочною постепенностью, которая составляет предмет неистощимых утех для истинных знатоков и любителей каплуньей породы. Понятно, что после этого каплуны, по всей справедливости, считают себя вправе претендовать на всеобщее уважение.
Стр. 247, строки 1–2 сверху. После: «вера в непогрешимость булавочной головки» – в рукописи зачеркнуто:
Каплуны либо безусловно верят текучей, будничной жизни, либо считают ее не больше как шуткой, не больше как случайным и даже досадным эпизодом, ставшим поперек сочиненным ими идеалам. Первые – каплуны настоящего, вторые – каплуны будущего, но со временем также сделаются каплунами настоящего. При недостатке действительных жизненных интересов каплунство становится заразой, легко проникающей во все слои общественного организма; оно приобретает права гражданственности, оно делается силой почти всемогущею.
Стр. 251, строки 10–13 сверху. Вместо: «Очевидно… результатом соединенных усилий» – в рукописи было:
Как бы ни прекрасно было будущее, сулимое идеалами, но не сделается же оно само собой, но оно тоже должно быть результатом соединенных частных усилий; не будет этих усилий, не будет и будущего, просто ничего не будет.
Стр. 254, строка 18 сверху. После: «чтоб увлечь толпу сразу» – в рукописи зачеркнуто:
надобно иметь гений толпы, надобно носить в груди сердце ее. Как ни общеизвестны, как ни истасканы эти истины, но для каплунов они новы. Каплуны зарядились своим курлыканьем, каплуны жиреют, благословляют судьбу, посадившую их на пенсионное положение, а от нечего делать надзирают за поведением людей, у которых все органы в целости. Каплуны не понимают, что мысль, как бы она ни была велика сама по себе, но покуда сосредоточена в кабинете, покуда обращается в тесном кругу знакомых каплунов и не пущена в толпу, до тех пор это не мысль, а одинокое любострастное самоуслаждение, что мысль хороша на улице, хороша в поле, а не в душной и затхлой атмосфере четырех стен.
Стр. 254, строка 5 снизу. После: «и по штату совсем не положено» – в рукописи зачеркнуто:
Как ни стары, как ни истасканы эти истины, но для каплунов они новы. Зарядившись курлыканьем и благословляя судьбу, посадившую их на пенсионное положение, они благополучно жиреют и, от нечего делать, надзирают за поведением людей, у которых все органы целы.
И тут-то пускается в ход система бездельнического подглядыванья и подслушиванья, система отвратительного судачения, которая еще в древнейшие времена составляла славу и гордость Глупова. «Глуповцам хлеба не надо, глуповцы сами себя едят», – сказал когда-то некоторый мудрец, и сказал, сам того не зная, великую истину.[229]229
Первоначально: «Русским хлеба не надо, русские сами себя едят!» – сказал некогда Волынский, и изречение это доныне как нельзя успешнее прилагается к глуповцам.
[Закрыть] Глуповцы чутьем слышат, что где-то около них имеется повод к скандалу, и, поднюхав его, выказывают плотоядность примерную. Целая человеческая жизнь призывается к суду, выворачивается наизнанку, распарывается по швам и разглядывается с тою мелочною кропотливостью, на которую способно лишь усердное н продолжительное упражнение в праздности.
Но каплунам весело, каплуны лакомы и, по мере насыщения, приходят все в большую и большую плотоядность: им мало человеческой жизни, они требуют к ответу папеньку и маменьку и призывают в свидетели братцев.
– Я еще его маленьким знавал, – говорит один каплун, – и до сих пор очень помню, как он на меня однажды гувернеру сфискалил!
– А помните, как он однажды на станции писаря по щекам прибил… ведь как хотите, а это неуважение к человеческой личности! – говорит другой.
– А тетка-то, тетка-то его! вы у меня спросите, кто его тетка! – восклицает третий.
Каплуний синедрион свирепеет и, подобно бульону, кипящему на огне, выражает свою спелость разнообразнейшими брызгами и волдырями.
Мы не располагаем точными данными о времени возникновения замысла «Каплунов», Впервые в печати более или менее подробно тема очерка – что и как должна делать в новых пореформенных условиях демократическая интеллигенция? – освещена писателем в очерке «К читателю», написанном в конце 1861 г. («Современник», февраль 1862 г., см. т. 3 наст. изд.), затем она обстоятельно излагается в программе предполагавшегося к изданию и запрещенного властями журнала «Русская правда» (март – апрель 1862 г., см. т. 18 наст. изд.). Примыкая к ним идейно и тематически, «Каплуны» сосредоточены на теоретическом и историческом уяснении конкретных форм и средств борьбы с царизмом и помещичьей реакцией. Активно вторгаться в жизнь, действовать на всех поприщах, не останавливаясь и перед компромиссами, объединять усилия всех «партий прогресса» на почве достижения ближайших целей и таким образом практически расчищать путь, который ведет к «отдаленному» (социалистическому) идеалу, – в этом Салтыков усматривал диктуемые эпохой основы тактики общественных сил нации.
Энергия и страсть, с какими защищает автор «Каплунов» свою программу, помимо всего прочего, возбуждались и определенными личными мотивами, проникшими в текст очерка и придавшими всему повествованию большую эмоциональную напряженность. Салтыков был причастен к тактике «практикования либерализма в самом капище антилиберализма», он сам незадолго до написания очерка оставил пост тверского вице-губернатора.[230]230
До этого во второй половине 1861 г. он часто и на длительные сроки замещал тверского губернатора. Между 2–9 февраля 1862 г. Александр II утвердил прошение Салтыкова об отставке.
[Закрыть] Слывшему по службе «красным», даже «вице-Робеспьером», Салтыкову вместе с тем довелось услышать немало задевающих его честь передового мыслителя и художника несправедливых упреков, оскорбительных обвинений. Так, в истории с арестом В. А. Обручева, нелегально распространявшего прокламации «Великорусс», Салтыкову приписывали неблаговидную роль чуть ли не доносчика.[231]231
Непричастность Салтыкова к делу В. А. Обручева документально установлена (см. комментарии С. А. Макашина в книге «Щедрин в воспоминаниях современников…», стр. 726–729).
[Закрыть]
Как можно думать, непосредственным откликом писателя на обвинение в «ретроградстве» являются те страницы очерка, где резко и гневно говорится о страсти «угрюмых каплунов» к «подглядыванию» и «судачению». В черновой рукописи были вычеркнуты строки, в которых содержался прозрачный намек на распространившиеся тогда сплетни и инсинуации по адресу сатирика (см. выше, стр. 566).
Исходная дата выработки не дошедшей до нас беловой рукописи «Каплунов», с которой делался набор, фиксируется появлением в этой рукописи эпиграфа из Гейне, в переводе Добролюбова (в черновом автографе эпиграфа еще нет). Перевод Добролюбова датируется 7 апреля 1858 г., но напечатан он был только по смерти критика в январской книжке «Современника» за 1862 г., вышедшей в свет 8 февраля. Очевидно, февралем – мартом и следует определять время завершения автором работы над беловой рукописью и доставления ее в редакцию «Современника». Во всяком случае, в письме к Н. Г. Чернышевскому от 14 апреля 1862 г. из Твери Салтыков сообщает о «Каплунах» как о произведении, которое уже в течение какого-то времени находится в редакции и с содержанием которого успел познакомиться Н. А. Некрасов. «Каплуны» поступили в цензуру вместе с очерком «Глуповское распутство» – уже в гранках набора – около 20 апреля 1862 г. и были запрещены 27 апреля на основании мнения гр. С. Г. Строганова, писавшего министру просвещения А. В. Головнину по поводу «Каплунов»:
«„Каплуны“ пахнут кровью! Если кровь нужна для утучнения почвы, не правительству же под формой цензуры указывать, как свободно может течь эта жидкость». (Строганов имел в виду слова Салтыкова о жертве, кровь которой «утучнила почву» – см. стр. 254 наст. тома.)[232]232
Более подробное изложение цензурой истории очерка см. в упомянутой выше статье В. Э. Бограда в т. 67 «Литературного наследства». См. также прим. к «Глуповскому распутству», стр. 556–557 наст. тома.
[Закрыть]
Одновременно с представлением «Каплунов» в цензуру другой экземпляр корректуры с критическими замечаниями Чернышевского был направлен Салтыкову. Об их содержании можно судить, при отсутствии других документальных данных, лишь на основании ответного письма Салтыкова от 29 апреля 1862 г. «Мне кажется, – писал он Чернышевскому, – что вы придаете «Каплунам» смысл, которого они не имеют. Тут дело совсем не об уступках, а тем менее об уступках в сфере убеждений, а о необходимости действовать всеми возможными средствами, действовать настолько, насколько каждому отдельному лицу позволяют его силы и средства. Эту же самую мысль я провел в имеющейся у вас программе предполагаемого нами журнала. По моему мнению, главное теперь – единство действии и дисциплина. Если будет существовать эта последняя, то, само собой разумеется, устранится возможность множества ошибок.
Впрочем, я желаемые исправления сделал».
Чернышевский не мог, конечно, возражать как против самой постановки в очерке Салтыкова «жгучего вопроса эпохи» – «Куда же идти? как действовать? что предпринять?», – так и против оценки переживаемого русским обществом трудного исторического момента, когда еще «насилие» и «гнет прежнего» (крепостничества) не упразднены и способны задушить новое, когда «подтачивающая сила» (освободительное движение, особенно революционный его авангард), еще слаба и разрозненна, пролегает себе дорогу «подземной работой» (подпольными, нелегальными средствами), не имеет организующего и руководящего центра. В статье «Не начало ли перемены?» («Современник», 1861, ноябрь)[233]233
Ноябрьская книжка «Современника» за этот год выпущена в свет 14 декабря (см. В. Э. Боград. Журнал «Современник» 1847–1866, М. —Л. 1953, стр. 405).
[Закрыть] сам Чернышевский, прибегая к такой же примерно, как и автор «Каплунов», эзоповской форме, признавал, что русскому освободительному движению очень недостает дисциплинированной, энергичной и зоркой революционной организации. Чернышевский, незадолго до этого опубликовавший свои знаменитые «Полемические красоты», мог бы полностью присоединиться к уничтожающей, ядовитой щедринской характеристике «веселых каплунов», то есть либералов.
Как и Чернышевский, автор «Каплунов» придавал огромное значение роли народных масс в историческом прогрессе. Наконец, содержащийся в очерке страстный призыв к личному деятельному участию в жизни не мог не встретить сочувствия и понимания Чернышевского, который считал, что никакое положение не оправдывает «бездействия». В «Письмах без адреса» (1862) он сам обращался к «партии просвещенных людей» с призывом не ограничиваться одним словесным протестом, а серьезно взяться за практические дела, всеми средствами повести борьбу против «основных привычек власти», заключающихся в «бюрократическом характере» ее деятельности и в «пристрастии к дворянству».