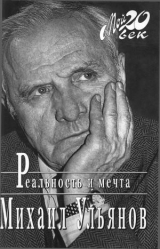
Текст книги "Реальность и мечта"
Автор книги: Михаил Ульянов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
А что Жозефина?.. Не принцесса, не королева… Всего лишь любимая…
Едва ли я был похож на Наполеона, но мне казалось, я чувствую, как страсти обуревают моего героя. Ведь он точно знал, что в жизни чувств Жозефина умнее его, и до поры подчинялся ей, пока не почувствовал угрозу потерять власть над миром, то есть главную жизненную цель. А тут еще многочисленная родня… В спектакле есть замечательная сцена: Наполеон орет на братьев и сестер, как на прислугу, по той причине, что, раздав им титулы и земли в ответ на неумолчное «Дай! Дай! Дай!», вместо любви и уважения он натыкается только на предательство. Чтит его одна Жозефина. Но сам Наполеон по отношению к ней недалеко уходит от своей родни.
Мне было сложно искать героя. Помимо внутренних мытарств нашлись чисто технические неудобства: надо было приспособиться к маленькому залу и говорить тише, чем я привык на сцене Театра Вахтангова, где в зале помещается более тысячи человек, а акустика отнюдь не на уровне древнегреческих амфитеатров. Однако я чувствовал поддержку Эфроса, который помогал тонко, вполне доверяя творческому чутью актеров.
Анатолий Васильевич был уникальным режиссером. Определить точно, в чем особенность его мастерства, научиться ему – нельзя. Как нельзя научиться таланту. Его театр сочетал в себе рациональность и ярость эмоций, четко сформулированную тему, но рассказанную с вариациями. Его театр был умным и выверенным, однако актеры играли в нем импровизированно и раскованно, как бы освободившись от темы спектакля, и вместе с тем проводя ее через свою роль. Его театр был и остросовременным, и традиционным. Сам Эфрос переживал периоды взлетов и падений, как любая по-настоящему творческая личность, потому что искал свои пути и новые решения. Поэтому его спектаклей ждали.
А сколько отличных от него режиссеров-разговорников живет на белом свете! Даже если такой режиссер разговорного жанра не представляет себе, как ставить спектакль, он все равно из трусости говорит. Говорит часами, боясь остановиться, боясь, как бы актеры не догадались, что он не знает решения сцены, а иногда и спектакля. Сколько репетиционных часов уходит на эти одуряющие разговоры.
С Эфросом все было иначе. Идя не от режиссера, а от исполнителя, он был похож на врача, который ставит диагноз только тогда, когда дотошно и подробно узнает все о больном, выяснит все симптомы, все проявления его недомогания. Другая причина его успеха – в понимании того, как с помощью искусства затронуть у зрителя самые потаенные струны. А величие и слабости Наполеона – это один из поводов, чтобы показать ранимость человеческой души. Загляни в нее и поймешь, что даже император – игрушка перед внешним ходом истории, перед внутренней игрой страстей. Я тоже убежден в этом, хотя меня и упрекали за слишком откровенное принижение личности Наполеона. И все же эта фигура не может бьггь идеальным олицетворением императорского величия на театральных подмостках. Бонапарт в пьесе Брукнера также говорит о себе: «Кто я? Император? Нет, авантюрист, сделавший себя императором. Пират, присвоивший себе корону Карла Великого».
Уже не берусь точно сказать, стал ли наш «Наполеон Первый» успехом или неудачей, хотя бы потому, что разные зрители – все равно люди, и по-человечески они неоднозначно относятся к тому, чем лучше пожертвовать в неодолимых обстоятельствах – титулом императора или единственной любовью. Но кто-то тогда с нашей театральной подачи наверняка почувствовал боль за человека, променявшего высшую драгоценность жизни на царство земное. Для меня такая, вызванная спектаклем сердечная боль означает, что не исчезло в людях сочувствие и что нужна им живая пища искусства. Выходит, наши усилия не напрасны.
Мы недолго играли спектакль на Малой Бронной, всего раз двадцать. Потом Эфрос ушел в «Таганку», а Ольга Яковлева не захотела играть без него. До меня доходили слухи, что Анатолий Васильевич хотел возобновить спектакль уже на новой своей сцене и говорил нечто вроде: «Вот сейчас я поставлю «На дне», а потом…» Но вскоре Анатолия Васильевича не стало…
Десять лет спустя по настоянию Ольги Яковлевой спектакль восстановили на сцене Театра имени Маяковского. Оказывается, одна из помощниц Эфроса, работавшая с ним в Театре на Малой Бронной, подробно записывала все репетиции, все замечания режиссера, до мелочей зафиксировала в своих записях структуру спектакля. По этим записям она и восстановила «Наполеона Первого». Там Наполеона играл Михаил Филиппов. А я, признаться, ревновал, потому что все мизансцены были наработаны с моим участием и сохранились в моей памяти. И, вспоминая их, я невольно возвращался в атмосферу творческую и доверительно-дружескую, в которой продвигалась наша совместная с Эфросом работа.
Зачем переосмысливать вождя?
Время в состоянии очень сильно изменить наше представление о том, что совсем недавно казалось истиной в последней инстанции. Глядишь, а истина уже превратилась в нечто обыденное или пуще того – в фарс. И чем сильнее спешат времена, тем быстрее в нашем сознании изменяется отношение к прошлому. Этот процесс неминуемо затрагивает театр. Давно остановившись на мысли, что театр – это зеркало действительности, я также считаю, что и его способы отражать происходящее могут и должны меняться.
Жестокие игры времени с советским театральным искусством особенно беспощадно сказались на сценическом воплощении образа Ленина. А иначе и быть не могло, ибо жизнью страны и народа десятилетиями правила партия, созданная этим человеком. Сам Ленин был и символом, и знаменем этой партии. Вспоминается поэтически отточенное сравнение Маяковского: «Мы говорим – Ленин, подразумеваем – партия, мы говорим – партия, подразумеваем – Ленин». Тем, кто оказывался у руля страны после Ленина, в атеистическом обществе было выгодно обожествлять и освящать образ вождя пролетариата. Так они поднимали себя в глазах подвластного народа и, вглядываясь в образ Ильича, могли любоваться собой.
У Ленина есть широко известная работа под названием «Лев Толстой как зеркало русской революции». Подобным зеркалом стал и сценический образ Ленина. Только зеркало оказалось волшебным: оно отражало лишь то, что требовалось текущему историческому моменту с точки зрения правящего партийного звена.
Это обстоятельство объясняет многое в сценической Лени– ниане. По-настоящему серьезными оказалось совсем немного пьес о Ленине, и судьба их ожидала неоднозначная. Одну из этих драматургических работ, пожалуй, самую известную – «Человек с ружьем», созданную Погодиным еще в 1937 году, поставили в нашем театре к столетнему юбилею вождя. Пьеса была популярной, по ней существует известный фильм с нашим замечательным Борисом Васильевичем Щукиным в главной роли, одноименный спектакль уже неоднократно шел на вахтанговской сцене, и, с учетом каноничности ленинского образа в то время, мы решили вновь обратиться к этому материалу.
Надо сказать, что у нас был повод избегать новых постановок такого рода. Неоспорим тот факт из истории советского искусства, что Ленин был чем-то вроде полузапретной темы для театра. Странно, с одной стороны, «ура» – культ вождя и мавзолей с нетленным телом, а с другой – осторожно! не трогать! Никакой отсебятины не позволялось. Причем под отсебятиной подразумевалась даже строгая документалистика.
Тем не менее за семьдесят лет советской власти образ Ленина на сцене и в кино постепенно менялся. Я не историк искусства и не претендую на какую-то научную теорию, но по этому поводу у меня сложилась своя собственная классификация. На мой взгляд, было три этапа в развитии театрального образа этого человека.
Первый этап – это конец 30-х годов, когда на сцену, а потом на экран впервые вышел актер, исполняющий роль Ленина. Известно даже имя человека, которому впервые выпала эта доля: им стал даже не настоящий актер, а рабочий Никандров, который, по мнению людей, знавших Ленина, был необычайно на него похож. И вот в картине «Октябрь» на фоне рвущегося на ветру знамени появился стремительный и по-энзенштейновски пластически мощный кадр: человек, словно сошедший с фресок Микеланджело, о чем-то убежденно говорит. Для того времени это было чудом искусства: перед зрителями представал живой Ленин! Его и приветствовали как живого и любимого вождя, поэтому уровень драматургии тех лет, качество текста были неважны и отступали на второй план. Главное, на сцене – Ленин! Вот что решало успех постановки или картины. И в этом была искренняя романтика революции, ее живое продолжение.
После великое множество актеров играли Ленина. Было создано огромное количество его изображений в картинах, скульптуре. Портреты выкладывали из зерна, вышивали шелком, шер– стыо. Фигуру Ильича отливали, ткали, выбивали, вырубали, вычеканивали в бесконечном множестве интерпретаций. По сути, Ленина сделали большевистским богом. И когда-нибудь еще будут изучать, до какой же степени можно довести уровень обожествления смертного человека! А по-другому, наверное, и быть не могло: партия коммунистов, загнав христианскую религию в подполье и разрушив ее храмы, на ее обломках создавала свою, новую веру. Свято место пусто не бывает: место Бога занял Ленин.
Однажды была у меня примечательная встреча. По дороге на отдых в Прибалтику я на день остановился в Псковско-Печер– ском монастыре. Разумеется, с разрешения обкомовских работников. Там святой отец проводил экскурсию и между делом говорил, мол, у нас в церкви все так же, как и у вас, большевиков: у нас – литургия, у вас – торжественное собрание, у нас – заутреня, у вас – партучеба. Святой отец в прошлом был полковником и знал, о чем говорил. В его устах очень складно выглядела картина замещения одной религии другой. Одних кумиров сбрасывали, других – воздвигали. Сбрасывали колокола, чтобы не трезвонили по Руси в честь единого Бога и не заглушали многотысячные хоры, славящие Ленина, Сталина и партию большевиков. Тогда же партийные пропагандисты круглосуточно внушали через газеты, по радио, на телевидении, в кружках и на курсах, что лучше нас никто не живет, что мы идем правильным путем, что мы счастливы и вообще мы – самые, самые, самые.
Нет, Лениниану нельзя просто так зачеркнуть, от нее нельзя отмахнуться и забыть, ведь это целый пласт в истории нашей культуры. И в нем было много талантливого, были открытия. Потому что в эту пропаганду крупнейшие художники России искренне вкладывали душу и мастерство. Ибо люди верили в своего бога. Верили, что он без сучка и задоринки. Верили, что под внешней простотой и доступностью этого человека заключена могучая богоравная личность, сумевшая изменить судьбу такого колосса, как Россия, и заставившая трепетать весь мир.
Второй этап прежде всего связан с именем Бориса Васильевича Щукина. Наш, вахтанговский, и великий российский актер сыграл Ленина в кино к двадцатилетию Октябрьской революции в фильмах Михаила Ромма «Ленин в Октябре» и «Ленин в 1918 году», а в театре – в спектакле «Человек с ружьем». Парадокс состоял в том, что Щукин был актером мягких комических красок. До этого он блистательно сыграл Тарталью в «Принцессе Турандот» и Синичкина в спектакле «Лев Гурыч Синичкин». Правда, изображал он и Павла Суслова в «Виринее», других большевиков. Но что бы он ни играл, все у него было замешано на комическом материале. И ленинский образ не оказался исключением. Внимательный глаз профессионала заметит это и в художественных приемах, которые использовал Щукин, играя вождя, – в интонациях, жестах, мимике. Видно, что в картинах о Ленине он также строил характер своего героя, опираясь на опыт «Турандот»: через театральность, через зрелище чрезвычайно притягательное и прельстительное.
Есть в фильме «Ленин в 1918 году» сцена, когда Ленин и Горький пытаются вскипятить на плите молоко и не умеют. этого сделать. На первый взгляд глупость, нереальность: как это так – Горький, выходец из самых низов народных, пешком прошедший пол-России, и революционер, годы проведший в ссылках, так и не научились кипятить молоко? Помню, об этом писал еще один из исполнителей роли Владимира Ильича, артист Владимир Иванович Честноков, в своих воспоминаниях «Как я работал над образом Ленина». Ему приходилось играть такую же сцену – «кипячение молока» в спектакле «Грозовой год»: «…Я до сих пор не могу представить себе линию логического жизненного поведения Ленина в данной ситуации. Есть в этой сцене фальшь, и если уж говорить начистоту, не «оживление», а чистая развлекательность. Какие-то не от мира сего люди собрались около кастрюльки с молоком! Ленин, живший в ссылке, Горький, побывавший «в людях», и пожилой питерский рабочий Коробов. Надо обладать поистине немалой фантазией, чтобы поверить, что ни один из троих не знает, как кипятить молоко. Это же неправда. Но, предположим, мы заставили себя поверить в эту неправду. Тогда возникает другой вопрос: зачем нужна такая сцена, какое содержание несет она в себе, что мы должны в ней играть? Ответить на этот вопрос невозможно…»
А Щукин – верный сын «Принцессы Турандот» – просто от души резвился в этой сценке, очевидно, не пытаясь найти в ней глубокое соответствие жизненной правде, а дав волю своему комическому гению. И они с Черкасовым, исполнявшим роль Горького, разыграли забавную, смешную и действительно очень обаятельную сцену «около кастрюльки с молоком». Играли смешно, живо, человечно. И представьте себе, из маленькой и не отвечающей правде жизни сценки сам собой вырисовывался, вырастал характер Ленина. И это все загадки вахтанговской творческой кухни.
В том же фильме есть эпизод, когда Ленин – Щукин с перевязанной щекой едет в трамвае. Абсолютная Турандот! Игра, выверенная в тех актерских красках, которые вызывают улыбку, доброе отношение зрителей, их влюбленность. Зритель побежден этим характером.
Или вот Ленин – Щукин ложится спать в квартире рабочего Василия, подложив под голову книжки. И так это было подано, будто он всю дорогу, как говорится, спал вот эдак – на книжках. И хотя это не соответствовало истории, зато создавало образ живого, земного человека, умеющего устроиться с комфортом и на книжках под головой, а не какого-то там Дон Кихота.
Надо вспомнить, что год 37-й – символ самого страшного террора в стране – это еще и отметка самого безудержного апофеоза в воспевании вождей вообще, а Ленина и Сталина в особенности. Тогда в жуткой, политически напряженной обстановке появляется Ленин в спектакле «Человек с ружьем»: по сцене он шел, засунув руки в карманы или держа в руках газету, шел на зрительный зал энергичной, напористой походкой, чуть склонив большелобую голову. И весь зал вставал, чтобы, грохоча стульями и аплодисментами, приветствовать его. Это был триумф религии ленинизма. Новая вера настолько вошла в плоть и кровь людей, что они не просто аплодировали артисту, как самому Ленину, – они поднимались ему навстречу, как уже было принято на партийных съездах: подниматься и торжествовать при появлении живого вождя – Сталина. Кстати, и сейчас еще можно наблюдать сходные проявления политического анахронизма: кое-где при появлении начальников подчиненные вскакивают, как первоклассники. Если в церкви одни люди становятся на колени и молятся, то другие перед вождями чуть не в струнку вытягиваются по стойке «смирно».
В спектакле «Человек с ружьем» есть такой диалог:
«Ленин: Соскучились по чаю? Чай вы найдете там. Вы давно с фронта?
Солдат: Нет, недавно.
Л е н и н: А что немец? Пойдет он с нами воевать?»
В небольшой сцене Щукин умел показать и всю глубину ленинского понимания происходящего в революционной России, и одновременно внимание к случайно встретившемуся ему солдату. Все тут было спрессовано, и в конце 40-х годов XX века это производило колоссальное впечатление на зрителей, буквально врубалось им в мозги.
Так вот, щукинское решение образа Ленина – человека обаятельного, в чем-то ироничного и очень доступного – сыграло, на мой взгляд, плачевную роль в дальнейшем развитии сценической Ленинианы. Безусловно, в этом не было вины самого артиста и его обаятельного таланта. Однако получилось, что в годы максимального преклонения перед вождем найденные актером краски для роли Ленина были канонизированы и утверждены идеологами партии на все дальнейшие времена. Поэтому иные трактовки отметались. И все дальнейшие исполнители роли Ленина – а в каждом театре появлялись спектакли, ему посвященные, – не столько играли Ленина, сколько Щукина в этой роли. Только таланта хватало не у всех, а от великого до смешного, как известно, один шаг. И вот вместо хрестоматийного щукинского Ленина побежал по сценам Советского Союза суетящийся, картавящий, все время клонящий голову набекрень человечек. Он как-то странно держал руки, засовывая их куда-то в карманы, все время крутился фертом и каким-то писклявым голосом лепетал что-то невразумительное или банальное. А все окружавшие его на сцене, восхищенно закатывая глаза, восклицали: «Боже, как просто! Как гениально! Как верно! Как единственно возможно!»
Так роль довели до абсурда. Особенно это стало заметно в пору подготовки к столетию со дня рождения Ленина. Тогда, в 1970 году, наступило совершеннейшее половодье исполнителей роли Ильича. Ужас заключался в том, что в каждом из трехсот шестидесяти пяти театров страны шли спектакли с Лениным. Это было всенепременно и обязательно. Это был приказ. Неукоснительное требование. И триста шестьдесят пять актеров, картавя, бегали по сценам, закрутив руки себе под мышки. И было абсолютно неважно, есть у этих актеров талант или нет, – лишь бы их рост не превышал ста семидесяти двух ленинских сантиметров.
Как заметил Сергей Аполлинарьевич Герасимов: «Спроси у любого главного режиссера театра: есть ли у него актер на роль Чацкого, Гамлета, Отелло? Редко кто скажет, что есть. А вот по– чему-то на роль Ленина в любом театре актер найдется».
Разумеется, в этой роли выступали и самые крупные актеры. Штраух, Честноков играли Ленина в Ленинграде, Бучма – в Киеве. Они тоже искали в Ленине в основном его человечность и простоту. Не его темперамент, не его силу и всесокрушающую убедительность, а человечность. Притом решения ярких актеров отличались точностью и своеобразием, в этом я убедился, увидев в кино Штрауха.
Неостановимый поток изображений вождя затопил не только театральные сцены. Тысячи памятников, тысячи скульптур в рост и бюстов поднимались по всей стране. Иные бывали неимоверно комичны. Чего стоит гипсовый вождь пролетариата с одной кепкой в руке, а другой на голове! На волне ленинома– нии бездарные скульпторы лепили себе огромные деньги, громкие имена и завидные биографии. Случалось и такое: актер в гриме Ленина садился около елки, и к нему по очереди подходили мальчики и девочки, чтобы сфотографироваться рядом с дедушкой Ильичом. А какое количество Лениных и Сталиных ходило по коридорам «Мосфильма»! В буфете в очереди иной раз их стояло по пять-шесть штук.
Как-то на одном заводе меня тоже попросили загримироваться под вождя пролетариата и обратиться к рабочим с ленинским выступлением. Просьба была серьезной, на партийном уровне. И я опешил. Что это? Восстание из гроба? Ленин с томиком Ленина в руках? Как же надо не уважать взрослых людей, не верить в их интеллектуальные и духовные возможности, чтобы до такого додуматься!
Так сообща и постепенно страна довела крупнейшую и трагически мощную фигуру своей истории до безобразия, до шаржа, до своей противоположности. Вот она, цена безудержного подобострастия. Можно себе представить, как воспринял бы все это сам Ленин, когда бы мог видеть эту вакханалию, лизоблюдство, лакейство, убогое низкопоклонство, бескультурье и безграмотность, с которыми катился вал его юбилея.
Не сейчас мне эти мысли пришли в голову. Они и тогда не давали покоя. И не я один могу припомнить неизмеримое количество анекдотов, вызванных насильственным вколачиванием ленинской темы в советское общественное сознание. И когда я готовился играть вождя, мне очень не хотелось поддерживать столь трагикомический эффект от безудержного тиражирования образа Ленина. Поэтому много читал его труды и свидетельства о нем, вникал, искал человеческую суть за шелухой, привнесенной в нее разного рода толкователями.
После развала Советского Союза мне часто приходилось слышать разговоры о том, что Владимира Ильича больше не следует играть, его надо забыть. С этим я категорически не согласен. Ленина из истории не вычеркнешь. И подлинное искусство от такого материала, учитывая значение фигуры вождя для мировой и отечественной истории, не отвернется. Тем более что постепенно кроме санкционированной правды о Ленине мы стали узнавать и другую правду. Так, стало известно, что он был жесток, как Савонарола, что у него была железная хватка в борьбе с противниками. Что никакой он не добренький, никогда им не был, и никогда не относился к людям, которые кому-либо что-то могли уступить. Мы были поражены и потрясены, но в этом же открылась бездна интереснейшего для актеров материала.
Вместе с тем появлялись и другие странные предложения. Меня, например, просили сыграть Ленина с издевкой, в ерническом духе. Но я категорически отказывался, потому что считаю: тот драматический момент нашей истории, когда переделывался мир, с хрустом костей и потоками крови, к шутовству не располагает. Все, что с нами происходило и во что я сам искренне верил, было слишком серьезным, чтобы сегодня превратить это в фарс. И тем не менее ходят по Москве, их иногда по телевизору показывают, два артиста не артиста, пародиста не пародиста, изображая Ленина и Сталина. Они в каких-то тусовках участвуют, речи произносят перед зеваками, высказываются по поводу и без оного. Ни умом, ни талантом эта пара не блещет. Какую цель преследуют эти люди? Нынешний сленг очень емко характеризует их намерения: деньжат срубить по-легкому. У меня же они в лучшем случае вызывают досадное недоумение.
По всем поступкам и их последствиям Ленин в истории на первых ролях. И что особенно важно, если смотреть на него из театрального зрительского зала, – Ленин произвел на исторической сцене потрясающую воображение перемену декораций, которая придала миру и человечеству иной вид, иной смысл. Такое мог совершить лишь по-настоящему мощный, титанической воли человек. А вот зол он или добр, праведник или грешник – это уже другой вопрос.
Уйти от его наследия нам не удастся, жизнь его и дела неразрывно связаны с Россией на века, и было бы очередным идиотизмом снова переписывать историю в угоду политической конъюнктуре. Я отнюдь не призываю обновлять, подпудривать и подкрашивать розовый миф о справедливейшем из вождей. Но также я никогда не соглашусь с теми, кто ноет по углам: «Ах, раз он такой плохой и недобрый, его не надо показывать, не надо о нем говорить!»
22 апреля 1993 года по случаю дня рождения Ленина журналист одной из газет задал мне такой вопрос: «Хотели бы вы еще раз сыграть образ Ленина?»
Такого, какого я играл прежде, – нет. А такого, какого еще можно сыграть, – личность трагическую, страшную, поистине шекспировскую фигуру, в его мощи, в его беспощадности, с его оголтелой верой в свою миссию, с его неистребимой жаждой власти, с его убежденностью в собственном праве уничтожать всех и каждого, кто мешает ему делать то, что он считает верным, с его фанатизмом и в то же время с каким-то детским бытовым бескорыстием – разумеется, сыграл бы, если б силы позволили! Да если был бы такой драматургический материал. Тема Ленина – это же кладезь для нынешних Шекспиров или Достоевских. При таком характере – такая трагическая жизнь! Взять нэп: это пытка для него была – отступить от собственной веры, уступить, неважно, что на время, капитализму. Ведь никто тогда не мог наверняка предсказать, можно ли будет остановить это отступление, и ведь как он пошел, какие набрал обороты – тот треклятый капитализм. Но таков был масштаб этой личности, этой воли, что он не побоялся отступить. Так же было при заключении Брестского мира, ведь на карту ставилось все. На тактическую карту. Ради стратегической победы.
А последние его трагические годы: уже теряя память, теряя речь, он видит, что не туда поворачивает его дело и власть вырывается из его рук. И нет уже сил переломить курс, как он это делал раньше. Для человека мощной воли и интеллекта, я думаю, было мучительнейшей пыткой понимать все это и не иметь возможности не только действовать, но просто говорить или писать. Какая же это была трагическая ситуация… Это было бы счастье, сыграть такую роль! В ней можно многое рассказать об истории нашей страны, ибо Ленин, как никто другой, характеризовал ту эпоху в истории России.
Я ют до сих пор не могу понять: если было так, как пишут сейчас, что Россия в 1911–1913 годах была страной процветающей, что мы в те годы завалили Европу зерном и саму масляную Голландию маслом, а Париж мясом; что наши Путиловы, Рябу– шинские, Мамонтовы, Морозовы, предприниматели и купцы развивали могучую промышленность, да и в подготовке национальной интеллигенции, талантливых ученых она, Россия, шла впереди планеты всей, – как же могло случиться, что победила стихия бунта – революция?
Я и вправду застал какие-то следы тех высот. Например, качество гимназического образования: моя покойная теща бог знает когда училась в гимназии немецкому языку, но до самой смерти его помнила. Или смотришь на гимназические фотографии наших дедов рядом с их учителями, которые сплошь мужчины, за исключением одной или двух дам. А наши школьные фотографии – полная противоположность. На них ни одного мужчины– педагога, а у женщин-учительниц такие несчастные, замученные лица. В них не видно ни достоинства, ни желания учить кого-то и воспитывать.
Наверное, нельзя сказать, что Россия до Первой мировой войны была правовым государством, а уж в военное время и подавно. Но тому, что творилось у нас десятилетиями после революции, она точно давала сто очков вперед. Конечно, можно вспомнить 9 января, Кровавое воскресенье. Зато небезызвестен факт, что брат казненного цареубийцы Александра Ульянова —
Владимир – не был изгнан из гимназии, напротив, его наградили золотой медалью за успехи и разрешили поступить в университет, получить общественно значимую профессию юриста и работать. Ну-ка, что бы ждало такого брата через полвека после тех событий?!
А взять «врагов режима» – революционеров: как жили они в своих ссылках? Так не жили и свободные крестьяне. Ссыльные неплохо питались, даже мясо ели. Ходили на рыбалку и на охоту. Общались. Беседовали. Получали книги и журналы… Впоследствии большевики исправили эти упущения в уложении о наказаниях. Они-το по себе знали, что такие ссылки никого не устрашат. Уж они-то по-другому расправлялись со своими не только что врагами, а просто несогласными. И такого натворили, что люди еще долго будут вспоминать с ужасом. А начался этот ужас с первых шагов революции и Гражданской войны.
По множеству свидетельств и фактов царская Россия действительно двигалась в сторону изобилия и права. Однако война положила конец этому движению: народ был озлоблен, а власть неустойчива. И Февральская буржуазная революция закономерно смела остатки царизма. Возможно, в других условиях на этом месте и появились бы ростки нового, но история не терпит сослагательного наклонения. Большевики смогли перехватить рычаги управления государством. И как тут сбросишь со счетов колоссальную волю Ленина, вождя большевиков? И как же не думать об этом с высоты нынешнего дня, если оглядываешься на столетие назад? Поэтому перед искусством нельзя снимать следующую задачу – когда поднята революционная тема, следует увидеть, обдумать и понять этот «субъективный фактор», этот сгусток энергии – Владимира Ульянова-Ленина. Потому настоящая работа над его образом на сцене еще впереди. И прямое зеркало, без тумана и прочих дефектов изображения, для него еще не отлито.
Когда к столетию Ленина Евгений Симонов решил не возобновлять старый спектакль, а поставить его заново, пересмотрев все сцены и в основном трактовку образа вождя, мне как исполнителю роли пришлось искать свое понимание этой задачи. Никаких открытий в период тотального застоя я сделать, естественно, не мог. Однако я постарался убрать из характера своего героя ту навязчивую улыбчивость, добротцу, простотцу, мягкость, назойливую человечность, которой постоянно тыкали в нос нашего зрителя, внушая: смотри, какой человечный, а ведь гений. Мне хотелось сыграть его пожестче. По этому поводу при случае мне даже негромко делали замечания мои товарищи по сцене, так, чтобы не дошло до иных ушей, мол, очень он у тебя жесткий, непривычный. А я размышлял просто: не мог человек в ночь переворота, когда решалась судьба России, его самого, его мечты о социалистической революции, быть милым и улыбчивым. Или, вернее сказать, я не мог себе представить Ленина таким в ту ночь. Я видел его предельно сосредоточенным и напряженным. Сжатым, точно кулак. Видел, как стиснуты его челюсти последним напряжением воли. В таком состоянии, думаю, человеку не до сантиментов. И глупо, наверное, в такую-то страдную пору чаями-кофеями и другой ерундой заниматься. То есть тем, чем занимались прежде многие исполнители роли Ленина.
Поэтому я подходил к солдату, брал его за ремень винтовки и весь в напряжении – какие уж тут улыбки – спрашивал: «Так пойдут воевать или не пойдут?» Тем самым я показывал, как жизненно важно Ленину знать, пойдет солдат с революционерами или не пойдет, имеет ли революция шанс на победу или нет. Вот суть этой довольно примитивной сценки в спектакле «Человек с ружьем», но тем не менее, несмотря на свою тривиальность, она вошла в историю русского театра как некое открытие в подаче роли Ленина.
Интересно, что прежде Ленина царей-батюшек на отечественной сцене не изображали. Вероятно, это считалось кощунством. Разве мог какой-то скоморох, а актерская профессия в глазах знати всегда выглядела недостаточно пристойной, выйдя на сцену Мариинского или Александринки, изображать русского императора?! Запечатлеть Екатерину Великую на портрете – это одно, но чтобы какая-то актриса без роду без племени представляла ее на сцене… У нас же при жизни Сталина десятки «Сталиных», попыхивая трубкой, выходили на подмостки.
То, что разыгрывалось на сцене в те годы, было мистерией, наподобие религиозных праздников у католиков. Они играют, ритуально повторяя сценки из Библии, сюжеты, оторванные от истинной жизни, от конкретных людей, но освященные церковью и навсегда затверженные в малейших деталях, в любом своем повороте.








