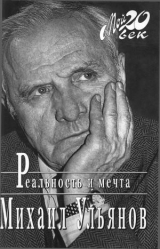
Текст книги "Реальность и мечта"
Автор книги: Михаил Ульянов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
А чем могло быть интересно театральное решение роли Ричарда в эпоху «развитого социализма»? Каким был «основной руководящий тон» этой роли? После многих вариантов, которые возникали, обсуждались и отвергались, мы с Капланяном убедились, что нашему представлению о смысле роли наиболее всего отвечает следующее размышление: мы живем в эпоху, когда то в одном, то в другом конце света появляются, как дождевые пузыри, так называемые сильные личности. Но не слишком ли много их для этого мира? И почему они на поверку оказываются пузырями, которые вдруг возникнув, также внезапно лопаются и исчезают? Однако не успеет исчезнуть такой пузырь, как на его месте, глядишь, поднял голову очередной диктатор и «отец нации». В чем главная причина столь частого появления «сильных личностей»? Может быть, в разобщенности и в раздробленности людских интересов?
Занятно, что этими размышлениями, которые в большей степени относились тогда к событиям за рубежом, мы, готовясь к постановке, примерно на полтора десятилетия предварили события в нашей стране. И разве не та же мутная вода тотального разрушения и борьбы за власть еще недавно хлестала вокруг нас в период постсоветского безвременья, вознося на своих волнах бесчисленных претендентов в вожди? И что история, когда действительность бьет по нам значительно сильней? Как же тут не вспомнить Ричарда? Потому зритель всегда воспринимал этот характер чрезвычайно остро и чрезвычайно близко.
Реальность и мечта
В литературе Ричард III стоит в ряду таких героев, как Дон Кихот, Фауст, Гамлет. К трактовке его образа подходили по-всякому. Его и фал и как гения зла, как сумасшедшего, как клоуна. А я поначалу понимал так: Ричард добивается короны ради великой цели. Ради нее он идет на унижения, интригует, предает, убивает. Он мучается от этого. Мучается, но продолжает интриговать, предавать, убивать, потому что знает: другого пути к трону нет. Но в процессе работы я стал от этой трактовки уходить, утвердившись в мысли, что великая цель не может служить оправданием пролитой ради нее крови. Потому что кровь становится нормой и непоколебимым правилом жизни, оправданием любого убийства. Вероятно, целью Ричарда было другое: испытав унижения, испив из чаши всеобщего презрения, горбатый карлик просто захлебывался в ненависти к людям и мечтал об одном – всем отомстить. А для этого нужна власть, и он использует любые средства, чтобы ее достичь. Он жесток, коварен и хитер. И умен, чтобы скрывать это. Он притворяется на каждом шагу, изображает милосердие, гнев, добродушие, вожделение, даже жестокость. Он играет с такой убедительностью, что волосок невозможно просунуть между правдой и тем, что он изображает. Блистательный элодей и убийственный актер. Но сам он не убивает. При нем неотступно находятся три головореза, которые хладнокровно, как свиней, закалывают всех, кто мешает их главарю на пути к власти.
Разумеется, не я первый брался за эту великую роль. Поколения артистов исполняли Ричарда III, и даже сложились некоторые клише в трактовке его характера. Например, подчеркивался, дьяволизм этого человека, способного подчинять окружающих людей себе вопреки их воле. Но, вчитываясь в текст Шекспира, в хроники, посвященные Ричарду, в историю Англии XV века, в критическую литературу о пьесе, я сильнее убеждался в том, что сила узурпатора была не в сатанизме, а в наглом бесстыдстве. Любую ложь он произносит с убедительностью истин на Моисеевых скрижалях. Известно, что века спустя Геббельс изрек: «Чем больше лжи, тем больше верят». Великой человеческой доверчивостью во все времена пользовались разные преступники и политические хитрецы. А люди верят снова и снова!
Ричард был сыном полуварварского, полуразбойничьего века, эпохи, пропитанной кровью. Когда его зарубили в битве, то сделали это страшно и жестоко, вырвали волосы, привезли к паперти церкви и бросили. Тело три дня лежало для устрашения, пока монахи не похоронили его. В стремительной и зловещей карьере Ричарда III, в его отчаянной борьбе против судьбы, в его внезапной и ужасной кончине есть что-то демоническое. Вот как о нем писал Томас Мор в своей превосходной «Истории Ричарда III»: «Он был скрытен и замкнут, искусный лицемер… внешне льстивый перед теми, кого он внутренне ненавидел, он не упускал случая поцеловать того, кого думал убить, был жесток и безжалостен, не всегда по злой воле, но чаще из-за честолюбия и ради сохранения или умножения своего имущества. С таким кротким и чувствительным выражением лица, что, казалось, ему не свойственны и совершенно чужды хитрость и обман. Воистину он имел острый ум, предусмотрительный и тонкий, склонный к притворству и лицемерию. Его отвага была такой неистовой и лютой, что не покинула его до самой смерти».
Вот какая монструозная, наделенная бесовским могуществом, сверхъестественная фигура вырастала передо мною, когда я читал о Ричарде все, что мог найти в библиотеках. Да и судя по мемуарам актеров, все трагики играли Ричарда как какую-то нечеловечески сильную, могучую и сатанинскую личность.
Но знание истории и проникновение в сущность изображаемого характера еще не есть твое решение. Это только общие знания, и не более того. И если я просто буду играть известные понятия, то едва ли смогу убедить зрителя в правдивости персонажа. Сегодня можно привлечь внимание трактовкой, толкованием роли, но ее решение актером должно исходить и из понимания собственных сил, а также интересов и проблем современного зрителя.
В чем-то, возможно, наши размышления не соответствовали действительности, но они точно выражали наши раздумья и тревоги. Поэтому в спектакле мы решили рассказывать о личности, которая из-за определенного стечения обстоятельств вдруг обретает силу, мощь, вес и в конечном счете трон. Почему? Из-за того, что Ричард сумел воспользоваться разобщенностью и разладом, царившими вокруг. Это был жуткий мир борьбы и предательства, грубости и демагогии, где не было ничего святого, не было убийц и жертв, а была лишь временная победа одной твари над другой. Не было там положительного человека. Именно в такой атмосфере мог вырасти феномен, подобный Ричарду. Мир злодеев – вот питательная среда, в которой вырос самый подлый из них, самый отчаянно-наглый. Ричард обнажает механизм власти впрямую, срывая с идеи королевского величия все и всяческие покровы. Для него судьбы человеческие – глина. Весь мир – огромный ком глины, из которого ты можешь делать все что захочешь. Если у тебя есть власть.
При таком понимании характера Ричарда надо лепить его с нуля – это одинокий, серый, незаметный человек, снедаемый ненавистью к людям за то, что он убог и ничтожен: «Я, сделанный небрежно, кое-как /Ив мир живых отправленный до срока / Таким уродливым, таким увечным, / Что лают псы, когда я прохожу».
Однако этот обиженный, перекореженный, опаленный лютым презрением к людям человек мечтает о высоком и недосягаемом и начинает свой путь в тиши одиночества. У него еще нет союзников и единомышленников. Он опаслив. Он привык пресмыкаться и подлаживаться. Потому поход свой против ненавистных ему людей, свой кровавый путь он начинает, оглядываясь, труся, вздрагивая и замирая. И постепенно наглеет, набирается сил и становится, наконец, Ричардом III. В итоге власть получает не исключительный человек, не герой, а злобное ничтожество, упырь.
Но если так посмотреть на пьесу «Ричард III», то, возможно, играть Ричарда надо не сатаной и дьяволом, а мелкой таарью, трусливой, ничтожной натурой, которая, пользуясь человеческим несовершенством, лезет в дыры и щели, а не идет на приступ. Он, как мышь, прокладывает себе дорогу молча, тихо и незаметно, готовый при малейшей опасности бежать. Все тем же мышиным способом, пользуясь разладом и раздором, ища лазейки и прогрызая дыры, натравливая и льстя, предавая и продавая, всегда настороженно ожидая удара, это ничтожество взбирается на иерархическую гору. Что-то шакалье есть в нем. «Я сплел силки: умелым тол– кованьем / Снов, вздорных слухов, пьяной болтовни / Сумел я брата, короля Эдварда, / Смертельно с братом Кларенсом поссорить» – вот тактика и философия Ричарда: стравливая и науськивая, раболепствуя и подличая, он медленно, но верно карабкается наверх. И в этом восхождении его подталкивают человеческая глупость, неумение людей узреть последствия содеянного.
Мы рассказывали историю мелкого человека, который взобрался на самую вершину государственной власти. Но в его триумфе зародилось зерно его трагедии. Ничтожество, поверившее в личную непогрешимость и исключительность, не замечает несоответствия своего низкого характера высоте занятого положения.
Конечно, душу главного героя следует раскрывать в экспрессивном театральном действии. Кроме того, мы с Капланяном решили пойти на прямое общение со зрительным залом. Хотелось втянуть зрителя в размышление о главном: откуда берутся ричарды? Поэтому все монологи в спектакле строятся как разговор со зрителем, которому Ричард доверяет самое темное и тайное, обнажая закоулки своей души, выливая всю ее грязь и весь цинизм.
И первая же мизансцена была построена Капланяном так, чтобы Ричард выходил прямо на авансцену. И вот из-за огромного трона, из темной глубины появляется серенькая хромающая фигурка. Оглядывается. Обходит вокруг трона и мягко приближается вплотную к зрителю. Искательно заглядывая ему в глаза, она начинает задушевный, искренний, страшный по своей обнаженности и злобе разговор, начинает свой жуткий поход против человека.
Все монологи Ричарда я обращал прямо к публике. Совершив какую-то очередную пакость или одержав в чем-то победу, он похваляется перед залом: «Ну не молодец ли я? Хороша работка?» И как бы делится с ним сокровенным, объясняет тайный механизм своей игры.
Для чего это понадобилось? Чтобы придать спектаклю публицистичность и полнее обнажить сущность Ричарда III. Пусть именно он, с его программой и особой философией, с его последовательным движением к цели и устрашающим безумием, заводит беседу со зрителем. И речевая манера, изуверский смысл речей Ричарда превратят того из созерцателя в участника кровавой мистерии и – я верю в зрителя – вызовет у него чувство ответственности за происходящее. Этот сценический ход в некотором роде безупречен. Те, кто принял роль, внутренне начинают сопротивляться герою и содержащемуся в нем злу. А те, кто ее не принял, видят зло для себя уже в самой форме, в самой актерской игре и тоже начинают яростно протестовать против всего, что творится на сцене. В итоге достигается нужный эффект: суд над мерзостью мира в лице Ричарда происходит в зрительских умах и душах.
Надо сказать, в театре меня критиковали за эту работу. Говорили, что король Ричард должен быть обаятельным, мягким, интеллигентным даже, чтобы этими своими качествами привлечь людей, обмануть их. А я отвечал оппонентам, что структура его жизни, смысл поступков не соответствуют такому характеру. Он может только прикидываться мягким, любящим, сочувствующим. На самом же деле он актер, злобствующий лицемер, развертывающий перед людьми свой зловещий театр. Причем актер талантливый, поэтому ему верят! А трагизм жизни в том, что, даже видя, как вокруг творится дурной спектакль, зритель, ставший его участником, не имеет возможности закрыть занавес такого театра. И разве мы сами не бывали статистами в подобных спектаклях, разыгрываемых целой плеядой отечественных правителей? И, разумеется, видели ужас, ложь, ошибки и ничего не могли поделать. Так неужели забыли? Мой Ричард напоминал об этом, прекрасно понимая, что, пока он наверху, его зрители бессильны. Оттого он и не скрывает своей подлости, но маску лицедея на всякий случай не снимает, хотя его мало волнует, как ее воспринимают со стороны.
Исходя из такого решения, мы рискнули изменить и переставить некоторые сцены по сравнению с первоисточником. Например, эпизод с леди Анной стоит в начале пьесы, но при нашем понимании Ричарда невозможно поверить, чтобы он решился на обольщение Анны, когда еще осторожен и слаб, еще не; уверен в своих силах. Только собрав вокруг себя головорезов и сломав сопротивление принцев, уже опираясь на силу и почувствовав себя на коне, он ринется и на эту крепость. Тут есть и азарт игры, который затягивает его и диктует ему необходимость делать все более высокие ставки.
В рамках такого представления о главном герое в одном из эпизодов Капланян предложил сыграть нечто на грани дозволенного. Это знаменитая сцена с леди Анной у фоба ее свекра, убитого Ричардом. По-разному решали ее в разных театрах, в разные времена. Кто трактует ее как момент зарождения любви леди Анны к Ричарду в ответ на его влюбленность, кто – просто как ее женскую слабость и поиск опоры. Мы мыслили так: не влюбленностью, не обаянием, не сверхнапряжением чувств Ричард завоевывает Анну – он насилует ее тело и душу, и она от этого ужаса готова на все согласиться, даже на брак с ним. А ему важно было сломить ее. Он боролся не за любовь, а за корону, за королеву. Растоптав женское достоинство леди Анны, он снова доверительно обращается в зал: «Кто женщину вот этак обольщал? / Кто женщиной овладевал вот этак? / Она моя, – хоть скоро мне наскучит. / Нет, каково? Пред ней явился я, / Убийца мужа и убийца свекра; / Текли потоком ненависть из сердца, / Из уст проклятья, слезы из очей… / И вдруг теперь она склоняет взор, / Ко мне, к тому, кто сладостного принца / Скосил в цвету!»
Этот эпизод с подачи Капланяна выглядел так. Несут гроб Генриха VI, убитого Ричардом. На нем черно-белое покрывало. Ричард наступает на него, оно спадает, и они с леди Анной играют этим покрывалом. А потом Ричард насилует ее… Сцена игралась весьма правдиво и вызывала отвращение у всех. Однако с ней был связан один забавный анекдот. В Тбилиси я исполнял этот эпизод в концерте вместе с замечательной грузинской актрисой Медеей Анджапаридзе. Она и говорит мне, еще перед репетицией, со своим неповторимо обаятельным акцентом: «Только ложиться на меня нельзя: у нас это не принято». А однажды после спектакля ко мне подошел зритель и спросил, почему это я, играя, смотрю в его глаза, как будто хочу сделать соучастником всей этой гнусности. Видимо, он сидел где-то в первых рядах. Я, конечно, разуверил его в подобном намерении. Но как актеру мне было лестно, что мой герой создает впечатление, которого я и добивался.
Трагедия кончается боем Ричарда с Ричмондом, претендентом на трон. Здесь Ричард проявляет чудеса храбрости, но гибнет в неравном бою, мужественно и до конца борясь. Однако Ричард, каким он виделся нам, не может погибнуть, обнаруживая мужество и героизм. Наоборот, он остается ничтожеством до конца и знаменитое: «Коня! Коня! Корону за коня!» – это не крик воина, продолжающего драться до конца, а отчаянный вопль труса, который готов продать корону за коня, чтобы спасти свою шкуру. Наш Ричард готов продать все и вся, лишь бы спастись. И мы отказались от Ричмонда, этого голубого персонажа, призванного принести свет справедливости и победить зло.
Слишком уж это абстрактная фигура, абсолютно не соответствующая историческому Ричмонду, который стал после победы над Ричардом королем Генрихом VII, жестоким и беспощадным. В пьесе также есть сцена, когда Ричарда мучают кошмары, призраки убитых им людей. Мы отказались и от нее. Совесть, этот «когтистый зверь, скребущий сердце», не терзает Ричарда. Ни в чем он не раскаивается. Никого он не любит, ни перед кем ему не стыдно, он всех презирает.
А финал мы сделали такой. Поняв, что битва проиграна, Ричард судорожно мечется по полю боя, отчаянно цепляясь за жизнь, и, увидев своего вернейшего приспешника, палача и главную свою опору Ретклифа, бросается к нему, ища защиты. Но, следуя закону волчьей стаи и желая сберечь собственную жизнь, тот туг же, как барана, прирезал своего недавнего повелителя. И только жалкий заячий писк Ричарда раздается в пустоте. Такая концовка показалась нам закономерной. Только так позорно могут кончить свою жизнь поганки, подобные Ричарду.
Мейерхольд говорил, что спектакль должен одним крылом смотреть в землю, а другим в небо. Капланян искал Шекспира без котурнов. Добивался, чтобы на сцене было жизненно, земно, кроваво и больно. Чтобы не театральной парфюмерией, а человеческим потом пахли в этой ожесточенной борьбе персонажи «Ричарда III».
Подвластна ли диктатору любовь?
Не умеет человек довольствоваться тем, что имеет, поэтому с древности мудрецы говорили о том, что счастлив лишь тот, кто в малом видит достаточное. Но коль скоро человеку всегда нужно больше, чем у него есть, имеет смысл подумать о том, что действительно достижимо и какими средствами.
Ныне в нашей действительности большую силу забрали деньги – многое можно сделать с их помощью, многого можно добиться. И все же есть вещи, которые не покупаются. Список их известен каждому: счастье, здоровье, душевное спокойствие… Словом, то, что выбивается из разряда материальных ценностей. Но есть среди этих понятий нечто совершенно особенное. Это любовь. Ее жаждут все, но никто не изобрел универсального рецепта для ее обретения. Ее не купишь, и даже самые сильные мира сего не способны раздобыть ее в приказном порядке, ибо их средствами достигается только достижимое, а недостижимое иногда приходит само.
Пожалуй, нет другой более популярной исторической личности, чем Наполеон Бонапарт. В библиотеках огромные стеллажи заставлены книгами о нем. Ни одному историческому герою не давали столь противоположных оценок, как Наполеону. И быть может, ни один человек не привлекал к себе столько внимания, как этот гениальный диктатор. Естественно, что искусство не могло не отразить эту выдающуюся личность. Сколько живописных полотен, скульптур, композиций, литературных произведений посвящено ему! По заслугам. Наполеон утвердился императором благодаря собственной воле и военному гению. Молодой и тщеславный лейтенант Французской республики, казнившей своего короля Людовика, становится правителем страны и палачом взрастившего его общественного строя, ибо велик соблазн
Наполеона к личной тирании. Но она имеет свойство погребать под собой человеческое счастье, человеческие мечтания, надежды. Попирается все. Гибнут логика, смысл, правда, справедливость, законность, обесценивается сама жизнь – тирания мрачной тенью закрывает собой все светлое. Каким бы способным, даже талантливым, даже гениальным ни был человек – его деспотизм отвратителен. Да и самого тирана его всевластие слишком часто лишает того по-настоящему ценного, что он имел в жизни, а затем губит.
Сколько раз Наполеона играли на театральных подмостках всего мира! Сколько актеров примеривалось к этой притягательной, загадочной, противоречивой фигуре! И сам исторический Наполеон был, как мне кажется, великим артистом. Во дворцах и на полях сражений он часто разыгрывал спектакли, блестящие по внутренней интриге и явному сюжету.
Я натолкнулся на пьесу Фердинанда Брукнера «Наполеон Первый» в начале 70-х годов и тоже не мог преодолеть искушения – попробовать сыграть Бонапарта, тем более что кое-какой опыт работы над образами исторических личностей у меня уже был. А тут такой колоритный персонаж из чрезвычайно понравившейся мне пьесы!
Она была написана австрийским драматургом в 1936 году в Америке и, несомненно, несла на себе отпечаток предвоенной поры. Годы были трагические: разрасталась фашистская угроза, и Гитлер уже нагло рвал Европу на куски. Уже захвачена Чехословакия, уже произошел аншлюс – проглочена Австрия. Брукнер бежит со своей порабощенной родины и в эмиграции пишет несколько пьес, основанных на историческом материале, но обращенных своими идеями к страшной современности. В пьесе о Наполеоне драматург проводит прямые ассоциации со своим временем. Пожалуй, в этом присутствуют некоторая авторская узость, тенденциозность, но зато есть и четкая позиция, есть определенный угол зрения на историю, на тиранию. Однако мне в руки попалось мало книг, отвлеченных от времени их написания. Пусть писатель изо всех сил старается сохранить объективность историка – никуда ему не деться от субъективного взгляда на то, что его по-человечески волнует. А мне как актеру того и надо, потому что моя профессия испокон веков зиждилась на субъективной трактовке ролей и сюжетов. И театр мертв, если он не омыт живой водой современности. Иначе кому он нужен, такой музейный экспонат? А в театре я, сын своего времени, наполненный его тревогами, вопросами, проблемами, могу на все смотреть лишь через призму собственных чувств и знаний.
И ют я подумал, что пьеса Брукнера даст возможность выразить тревожащие меня мысли о сущности неограниченной власти, о ее способности искорежить и поломать жизнь добившегося ее человека. Наполеон у Брукнера говорит: «Мой мир, каким я его вижу». Какое проклятое это «я». Оно, как лавина, разбухает, срывается и несется по жизни, погребая под собой человеческое счастье, человеческие мечтания, надежды. Все попирается, уничтожается ради этого «я». Гибнут логика, смысл, правда, справедливость, законность, человечность, не остается ничего, кроме «я», которое как мрачная тень закрывает собой все светлое. Сколько уже видела история этих раздутых до чудовищных размеров «я». Вот еще один – великий император, вылепивший свою империю из революционного теста. В конце концов, все гипертрофированные личности лопаются со страшным треском. Но какой ценой оплачивается величие наполеонов рядовым человеком и человечеством!
А какую цену на этом фоне платит за все сам Наполеон? Его частная, семейная, любовная жизнь в пьесе привлекала меня ничуть не меньше, чем значение личности Бонапарта для истории, так как в этой линии была заключена мысль о смысле бытия: о том по-настоящему ценном, что есть в жизни любого, даже великого, человека, что остается после него.
Есть в актерской профессии такой миг дрожи душевной, похожей, наверное, на дрожь золотоискателя, нашедшего драгоценную россыпь, предел твоих мечтаний, когда ты вдруг обнаруживаешь прекрасную по мысли и с точки зрения драматургии пьесу с героем, которого ты смог бы сыграть. И ты в нетерпении, внутренне уже исполнив всю роль, спешишь поделиться с другими счастьем своей находки, ищешь союзников, товарищей, готовых с тобой немедленно приступить к работе. У тебя в голове уже есть пылкий монолог, который, ты уверен, убедит любого Фому неверующего, и ты направляешься в родной театр, и… Выясняется, что главному режиссеру пьеса не нравится. Для него она слишком мелка, поверхностна, легковесна. Или что пьеса не соответствует истории. Или конкретно меня как актера режиссер не видит в роли Наполеона. И вообще, планы театра иные! В них нет места для этой пьесы. И никому, оказывается, не интересен Наполеон, и никому он не нужен. Что остается? Исполнить «глас вопиющего в пустыне», а когда надоест, просто погрустить о том, что Наполеона тебе не сыграть.
Вероятно, так и произошло бы, не вмешайся счастливый случай.
Ольга Яковлева, одна из лучших актрис Театра на Малой Бронной, давно уже «болела» Жозефиной из той же пьесы Брукнера. Кстати, великолепная роль! Женских ролей, замечу попутно, в мировой драматургии не так уж много, а подобных этой так просто единицы: здесь незаурядная личность и «вечная женственность» слились неразделимо, давая простор для игры. И так складывался репертуар, и так распорядился своими ближайшими постановками Анатолий Васильевич Эфрос, что у него появилась возможность репетировать пьесу. Мой вопиющий глас, видимо, каким-то образом достиг его ушей, к тому же мы много лет договаривались с ним сделать что-то вместе в театре или на телевидении, и Анатолий Васильевич, наконец, предложил мне сыграть Наполеона в его спектакле. И я мгновенно согласился.
Так в мою актерскую судьбу вошло это чудо: работая в Театре на Малой Бронной над образом Наполеона, я встретился с Эф– росом-режиссером.
Сначала мы просто разговаривали, фантазировали вместе, без каких-либо особых прицелов. Потом приступили к репетициям на сцене. Пробы, поиски. У меня еще была задача приноровиться к актерам театра Эфроса, с которыми прежде не сотрудничал. А каждый профессионал знает, что это не так легко. Я оказался гастролером на Малой Бронной. Подобное гастролерство всегда болезненно воспринимают актеры того театра, куда его руководители приглашают «варяга». И надо согласиться с тем, что в этом есть логика и резон. Действительно, если нет актеров на главные роли, то к чему, собственно, брать эту пьесу? Безусловно, в каждом театре должны иметь место и эксперимент, и проба актера, и право на трактовку роли, соответствующую его данным. Но нужны и исполнители, соответствующие режиссерским замыслам.
А если режиссер желает поставить именно этот, а не другой спектакль и актера в нем видит такого, какого нет в труппе? Стоит ли приглашать его из другого театра? Такие случаи становятся все более частыми. Что в этом: своеволие режиссера, неуважение к своим актерам, желание что-то всколыхнуть, обновить в родном театре? Наверное, есть и одно и другое. Поэтому иной раз театр хочется уподобить битком набитому трамваю, где один пассажир, подвинувшись, непременно задевает других и бывает больно.
Но вот по ходу работы я все чаще обращаю внимание, что Анатолий Васильевич больше подбадривает актеров, чем делает полезные для спектакля замечания. Так проходит неделя. Наполеон мой выстраивается довольно трудно, однако со стороны режиссера практически никаких подсказок не следует. Вроде бы бесцельно время идет дальше, и вдруг в один прекрасный день Эфрос останавливает репетицию и начинает подробно, буквально по косточкам разбирать сцену, определяя ее смысл, раскрывая мотивы поведения Наполеона. Тут же перед актером ставится предельно ясная задача, и затем Анатолий Васильевич несколько раз повторяет сцену, добиваясь нужного звучания.
Тогда я понял: режиссер долго следил за репетицией, за исполнителем, отмечая его ошибки, чтобы правильно решить сцену вместе с ним, уже исходя из поисков актера и своего видения. Добившись этого, Эфрос опять замолкал. Так мы и работали вместе: я что-то предлагал, он отбирал из предложенного или отвергал, взамен предлагая что-то свое.
И, конечно же, нас вел драматург. С точки зрения драматургии «Наполеон Первый» – великолепно скроенная пьеса. Для нас в ней ключевой стала последняя фраза. Когда Наполеон проигрывает российскую кампанию, Жозефина спрашивает его: «И что же остается?» А император ей отвечает: «Остается жизнь, которую ты прожил». То есть ничего не остается: ни императора, ни Москвы, ни похода в Египет, ни Ватерлоо – остается лишь жизнь человеческая, единственная ценность, единственное, что осязаемо. Остальное испаряется, будь ты даже владыкой мира. Поэтому так важно для нас было как можно более убедительно показать его частную, семейную, любовную жизнь и в ней его – человека, чтобы вывести то единственно ценное, что остается от величия нашего героя в его последней реплике.
Мне интересно было сыграть Бонапарта как просто мужчину, а не историческую личность, который также умеет чувствовать, мучается сомнениями, любит и ненавидит, ревнует и чего– то боится, горит и остывает. Его отношения с Жозефиной были сложными: он то покидал ее, то дико ревновал и не находил места в разлуке с ней. А Жозефина по отношению к нему использует искусство обольщения, при помощи которого умная женщина держит возле себя любимого и любящего мужчину – просто мужчину, не императора. И он не может вырваться из-под ее власти.
Бок о бок с этой темой идет мысль о том, что даже сильное, трепетное, постоянно обновляемое чувство к любимой женщине пасует перед одержимостью диктатора, мечтающего овладеть миром. Обладание им для Наполеона выше счастья близости с самой желанной женщиной, и здесь император берет в нем верх, и он предает Жозефину.
Эта сшибка между чувством к Жозефине и долгом, как его понимал Наполеон, открывала в роли огромные возможности для артиста. Мне казалось, что я чувствовал, как страсти рвут этого человека. Но, устояв перед силой любви, он пасует перед искусом власти и покидает Жозефину навсегда. Она – его жертва. Однако он сам тоже жертва, ибо властитель Европы на самом деле был не властен в себе самом и так же, как все, подчинялся чувству, которого приказами не добиться.
Да, жизнь его оказалась трагической. Кто его любил, верил ему, кто его не бросил? Одна Жозефина. Никто не был ему дороже и ближе женщины, которую он предал. Вот эта лирическая линия, кипение страстей человеческих увлекла нас в спектакле о военном гении и диктаторе Франции. Именно в этом ракурсе мне следовало сыграть своего героя. Но прежде следовало сжиться с ним, понять его внутренний облик и по-своему воссоздать на сцене. А для этого требовалось выпростать человеческие черты из-под исполинской пирамиды наполеоновской славы. Да, велик и грозен император! Он стирал границы мира и прочерчивал новые. И к нему тоже можно отнести слова Пушкина, сказанные о Петре Великом: «Он весь как Божия гроза». Но все же Бонапарт – человек, и не всегда он на коне.
Готовясь к роли и читая в Исторической библиотеке мнение разных авторов о Бонапарте, я не без интереса отмечал, как одни – в основном французы – его всячески превозносили, а другие – например, англичане – принижали, как могли, когда речь шла о политических и военных итогах наполеоновской эпохи. Однако особых расхождений не было, если заговаривали о его частной жизни. В большинстве биографы считали ее нескладной, и по этому поводу мне приходила на ум фраза Юлия Цезаря из «Мартовских ид»: «Мужчина может спасти государство от гибели, править миром и стяжать бессмертную славу своей мудростью, но в глазах жены он остается безмозглым идиотом».
Конечно, я не собирался так изображать моего героя, да и слова Цезаря скорее характеризуют женщину и ее предпочтения при взгляде на мужчину. Но оценить Бонапарта с точки зрения женщины, которая не трепещет от его исторических заслуг и для которой он обыкновенный мужчина, – это было интересно. Оказалось, что великий человек прост и раздираем противоречиями, как любой из смертных. Исследователям известно, что отношения Наполеона и Жозефины были крайне неровными. Но насчет того, изменяла она ему или нет, история темная. Зато достоверен факт, что он с ума сходил от этой женщины во время итальянского похода. А она умело подхлестывала эту страсть, не позволяя вырваться из-под ее обаяния. Эту страстность молодого полководца к любимой мне хотелось пронести через всю пьесу до того момента, когда Наполеон вынужден выбирать: любовь или власть. Выбор надиктовывают политические соображения. Чтобы упрочить императорское положение, ему нужно породниться со старинными династиями, правящими в Европе. Для этого могла сгодиться любая женщина, но только королевских кровей.








