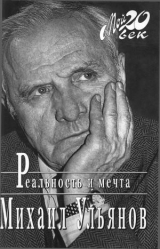
Текст книги "Реальность и мечта"
Автор книги: Михаил Ульянов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Что такое Горлов, каким он написан? Зазнайство, фанфаронство, эгоцентризм, абсолютнейшая глухота к малейшей критике, ощущение себя пупом земли, ощущение себя единственным непререкаемым судией всех деяний, творящихся вокруг него. Мне не раз случалось видеть при власти таких дураков. А перед войной, когда чуть не подчистую были уничтожены офицерская элита и высший командный состав Красной армии, путь к высоким постам был расчищен в лучшем случае для исполнительных солдафонов, а в худшем – для карьеристов и доносчиков. И понадобилось жесточайшее испытание для всей страны, чтобы поставить их наконец на место. Но, к великому сожалению, я видел и до сих пор вижу подобных персон в разных сферах деятельности.
Да, того Горлова в пьесе сняли с должности, но «горловщина», к сожалению, продолжает цвести махровым цветом. И раз мы показывали спектакль в 1975 году, спустя уже тридцать лет после окончания войны, мне совсем неинтересно было играть одно только прошлое, историю одного невежественного генерала. Я хотел сыграть целое явление, именуемое мною «горловщиной». Поэтому вместе с Евгением Симоновым мы стали поднимать этот характер до символа, до определенной, очень густой, почти предельной сатирической концентрации. До гротескной дури! Ибо видели в этом образе принадлежность именно сатире, а не драме. Манера поведения такого человека, его лексика, его походка, его ощущение себя в мире – все решалось исходя из преувеличенных черт, в чем-то доведенных до абсурда. Мой Горлов плохо говорит, так как он никогда не учился хорошей речи и не считал это нужным. Он ходит барином, зная, что все перед ним разойдутся и уступят место. На любой табурет Горлов садится, будто на трон, а в высказываниях он безапелляционен до идиотизма.
И танец его, который впервые был введен в постановку 1975 года, тоже говорит о том, что все в прошлом. Горлов танцует цыганочку, лихо танцует, с присядкой, но сделать этого без опоры на стулья уже не может. Ему осталась одна звонкая, громкая, наглая показуха, верхний слой пустяковой жизни, ибо внутри этот человек давно пуст, как барабан. Поэтому ему не суждено понять, куда его несет и что происходит. Однако Горлов убежден, что ничего не должно происходить без его ведома, без его участия. Ему недоступен новый подход к жизни, он не понимает новых взаимоотношений. Он глух и, что гораздо хуже, глуп. Из таких актерских заготовок характер склеивался ядреный, злой, беспощадный, подчеркнутый, тем более что у меня была точная позиция по отношению к подобным людям. Естественно, что герой мой вызывал у многих зрителей неоднозначное, иногда горестное и недоуменное отношение. Дескать, что это Ульянов играет такого монстра? Да бывали ли во власти такие дураки?
Быть может, нечасто, но бывали. Но я, работая над ролью, отнюдь не портрет с них писал. Я же не фотограф, я актер. Моя задача состояла в том, чтобы обобщить явления, изобразить определенный типаж в таком виде, когда каждому станет понятно: такому феномену во всех его видах и формах не место в жизни, его следует полностью искоренить. Не стану по косточкам разбирать и мотивировать, чем были вызваны действия моего Горлова. В спектакле я над ним просто издевался. Таких «героев» надо за ушко да на солнышко, чтобы люди посмеялись над ними, ведь смех самое лучшее оружие против тупости и безнадеги. Мне очень хочется, чтобы «горловщина» исчезла с лица нашей земли, – потому что она смешна только со стороны, а когда в лоб – то по– настоящему страшна. Видеть ее, находиться рядом с ней не только грустно, но и опасно, если сидит на важном месте дурак, считающий себя умнее всех на свете.
Не всем понравилась моя трактовка роли. За нее на меня обижались многие военные. Некоторые даже писали письма, считая, что я занимаюсь злым делом – играю на руку неизвестно кому. Но это неверно. Я стремился лишь к здравомыслию и нравственной чистоте в нашей жизни. Не обращая внимания на окружающие нас гнусности, не выводя их на свет божий, не обнажая скрытые пружины зла, мы тем самым как бы соглашаемся с ними и даже начинаем считать противоестественные вещи естественными.
Спустя приблизительно десять лет после спектакля «Фронт» мне довелось сыграть в фильме «Частная жизнь» человека, которому в силу обстоятельств предложили уйти на пенсию. Для моего героя Абрикосова, теперь уже в прошлом крупного хозяйственного деятеля, наступает новая жизнь. По уграм персональная машина не ждет его у подъезда, ехать ему некуда, идти тоже. Когда домашние расходятся по делам, он остается в квартире один. Безмолвствует телефон, никто не звонит в дверь. Вершитель судеб, каким он мнил себя, оказался никому не нужным, когда его вытолкнули из привычного седла. А он-то знать ничего не хотел, кроме работы… Попытка обратиться к старому другу ничего не дала, так как внезапно выяснилось, что друг умер уже полгода назад.
И вот, лишившись работы, Абрикосов стал одиноким. Он вдруг остро ощутил несостоятельность, бессмысленность своей жизни. Как быть теперь, когда его век на исходе, когда так некстати надо начинать все сначала, чтобы заново освоить этот до сих пор не известный ему мир? Неужели придется перестраивать себя? Мучительный процесс!..
Надо сказать, что режиссер картины Юлий Яковлевич Райзман сначала не хотел брать меня на роль главного героя: он не любил работать с актерами, которые часто болтаются на экране, а я к тому времени уже изрядно намозолил глаза отечественному зрителю. Но потом Райзман присмотрелся ко мне и оттаял. Единственное: его не устраивала некоторая моя неотесанность в одежде. Ну да беды в том не было, поэтому Юлий Яковлевич, сам сын портного, пообещал на съемках заняться моим гардеробом и действительно хорошо подобрал мне костюмы. У меня сохранились очень теплые воспоминания об этом человеке. По натуре он был демократичным, веселым, даже озорным, а со стороны смотрелся неприступным аристократом, несмотря на свое невыдающееся происхождение. Благодаря Айзману на съемочной площадке всегда царила непринужденная и дружеская обстановка, поэтому в перерывах актеры могли вместе отдохнуть, пошутить, но и работали тоже от души.
Так вот, что-то общее было между Горловым и героем «Частной жизни» Абрикосовым. Наверное, в полной глухоте, в непонимании того, что происходит за стенами твоего учреждения, твоего кабинета, твоих дел, области твоих служебных интересов.
Но Абрикосов – это уже не сатирическая, а трагическая роль. И я видел, что здесь нельзя издеваться и смеяться, но надо понять и проникнуться драматизмом судьбы этого человека.
Абрикосов проработал всю жизнь добросовестно, честно (как, впрочем, и Горлов), делая все для выполнения поставленных перед ним задач. Он до конца отдавал себя работе, а то, что це хватало времени на семью, ему казалось нормальным. Что ж, бывают люди, для которых дело превыше всего! Этот человек долгие годы считал себя нужным людям, народу. И вдруг с ужасом увидел, что многое проходит мимо него, а он-то всегда считал себя хозяином жизни. Оказывается, сын растет по-иному, чем он себе представлял, и они плохо друг друга понимают. Оказывается, у жены полным-полно проблем, которыми он никогда не интересовался. Рядом с ним течет бытие, в котором есть и любовь, и недоброжелательство, и свои привычки. Но Абрикосов далек от, вдего этого исключительно по собственной вине. Оказавшись на пенсии, он словно попал на другую планету и теперь постепенно открывает ее для себя, понимая, как странно, как неверно складывалось его существование раньше. Горлов этого не сознает, а мысли и чувства Абрикосова начинают просветляться. Он видит, что открывающийся ему мир сложнее и разнообразнее, ч^м прежде казалось, когда он сам наблюдал этот мир издалека. И вот Абрикосов приходит к мысли, что жить только своим разумом, основываясь только на своих взглядах, не прислушиваясь к окружающим, нельзя. Есть еще другие люди. И ничего не поделать, их интересы, их проблемы, их сложности, их. устремления не всегда совпадают с твоими запросами и задачами. Подойдя вплотную к этой истине, герой фильма пытается наладить какие-то связи с этим вновь открывшимся ему миром, найти взаимопонимание с женой, с сыном, с друзьями.
Чем-то неуловимо похожи между собой Горлов и Абрикосов. Только исход их драмы разный.
О «Частной жизни» мне частенько задавали вопрос: «Скажите, пожалуйста, как понять последнюю сцену, когда Абрикосова вызывают к министру, и он начинает судорожно одеваться, потом делает это все медленнее и медленнее, и наконец, замерев полуодетым, как бы задается немым вопросом: что же дальше? Пойдет он снова работать или нет?» И я всегда отвечал: «Не знаю, как он поступит, но в любом случае это будет другой человек. Человек, переживший трагическую перестройку своего внутреннего мира».
По этому же поводу я однажды получил примечательную записку: «Уважаемый товарищ Ульянов! Не тешьте себя иллюзией. Если Абрикосов пойдет работать, он должен будет подчиниться миру, в котором будет жить». Трезвая, резкая, но реальная записка. Тот, кто ее написал, вероятно, пережил и ощутил подобное. Да, очень трудно из-под пресса, формирующего человека-вин– тика, выскочить не винтиком. Но, наверное, легче тому, кто уже понял, что он и сам по себе что-то значит. Не потому, допустим, что он служит в министерстве, а потому, что он человек и «ничто человеческое ему не чуждо». Такому уже никогда не быть допен– сионным Абрикосовым.
И тут мне очень хочется сравнить Горлова и Абрикосова.
Вот танцует Горлов цыганочку, и танец – свидетельство того, что во времена молодые это был лихой, удалой человек, смело и безоглядно воевавший, умевший познавать жизнь во всей красе и со всеми ее крайностями.
А вот момент, когда Абрикосов уходит со своего поста. Он начинает разбирать сейф: одно надо оставить, другое, то, что принадлежит лично ему, можно забрать с собой. И вдруг средй вещей мелькает маленький бюст Сталина, ордена – и через эгиде– тали, которые замечательно точно продумал режиссер, сразу представляешь, в какую эпоху проходила жизнь Абрикосова, каким влиянием она подвергалась. Но также видно, что это была честная жизнь, безоглядно отданная работе, как жизнь Горлова была неразрывна с военной службой.
Возможно, самой интересной темой для искусства является процесс человеческого становления, как у Абрикосова, или падения, как у Горлова. На этих кривых можно выстроить и характерность, и образ и создать атмосферу, в которой жил человек, привнести ощущение каких-то давнишних завязей его натуры. Это показалось мне очень важным и нужным. А застывшие формы любого характера для актера как горькая оскомина!
Мне довольно часто доставались роли общественных лидеров и руководителей разного ранга. И когда в Театре Вахтангова приступили к постановке спектакля по пьесе Андрея Вейцлера и Александра Мишарина «День-деньской», мне также была поручена главная роль директора завода Игоря Петровича Друяно– ва. Перед началом работы я, естественно, прочел пьесу и… ужасно расстроился.
Пьеса была из разряда производственных. Но не в этом беда. Производственные пьесы порой поднимали интересные вопросы«· решали значительные нравственные проблемы. Возьмем для примера «Премию», Александра Гельмана, по которой было поставлено много спектаклей и даже снят фильм с Евгением Леоновым в главной роли, или «Сталеваров» Геннадия Бокарева.
В советское время такие сюжеты не были чем-то особенным, и они нередко затрагивали важные проблемы, когда на первый план выдвигался именно человек, его личность, образ, тип, а на втором плане разворачивалась некая производственная коллизия. И человек был действительно интересен в этих специфических ситуациях. Каков он в соприкосновении с техникой, с трудовым коллективом, со временем, с обществом. Как он себя ведет, что он решает, в чем он ошибается, в чем он прав. Во многих пьесах бывало, к сожалению, и так, что не увидать человека за варкой стали, возделыванием полей, изготовлением машин. Тог– ДЗ смотреть на все остальное было в высшей степени скучно.
Что-то в этом роде представляла собой пьеса «День-деньской». В ней целых три часа надо было ковать котлы, а характеры персона– жей написаны невнятно. Фамилии у них есть, имена есть, даже ка– кая-то биография имеется, но нет вещественности, нет «тела».
Посему я стал думать, как же сделать своего героя Друянова более ши менее вразумительным и интересным. Если следовать сюжету, ничего не получится. Сюжет ясен как день. За реконструкцию производства снимают директора с работы. Ну, про это были сотни фильмов и спектаклей. И тогда я стал вспоминать интересных, своеобразных, своеобычных людей, с которыми сталкивала меня моя актерская кочевая судьба.
В том числе вспомнился председатель колхоза, который рассказывал о том, как он боролся с пьянством. В его хозяйстве один из работников страшно пил, и ничего с ним нельзя было поделать– Наконец решился председатель на такой ход. Однажды ночыр они с парторгом колхоза пришли к этому выпивохе с ружьями и сказали: «Есть постановление правления колхоза о том, чтобы тебя расстрелять за пьянство». Мужик, жена его, дети стали плакать, а пришедшие изображали неподкупных судей и твердили, несмотря ни на что: «Пойдем в рощу, мы тебя расстреляем». Мужик просил пощады, валялся в ногах, и тогда они «смилостивились»: «Ладно, на этот раз прощаем». «И что ты думаешь, – сказал мне председатель колхоза, – бросил он пить».
Эту историю я рассказал на одном из совещаний в Министерстве культуры, и драматург Михаил Ворфоломеев потом поделился со мной, что, прибежав домой после совещания, молил только об одном: лишь бы никто не перехватил такой сочный сюжет. И в течение двух недель он сочинил одноактную пьесу, в центре которой событие, рассказанное моим знакомым. Она с большим успехом шла по российским самодеятельным театрам.
И еще один председатель пришел мне на ум. Во времена оные, когда всюду сажали кукурузу, с него, естественно, требовали того же. А дело происходило в Мордовии, кукуруза там испокон не росла. Председатель все не сажал, а от него все требовали, и тогда он наконец разбил грядку перед правлением колхоза, за что, как за насмешку, получил строгий выговор с предупреждением и чуть из партии не вылетел. Но потом кукурузная кампания кончилась, и все обошлось.
Еще другие случаи вспоминались и оказавшиеся в центре их люди – смелые, необычные. По их примеру придумался следующий характер.
В пьесе «День-деньской» написано так: вошел человек средних лет, в легком заграничном костюме, с привычными командными нотками в голосе. То есть пришел герой и начал руководить. Сразу понятно, что он обязательно победит. Герои же у нас побеждают. И тут же всем становится скучно, потому что загодя ясно, чем дело кончится. А худшего наказания для зрителя, чем знание спектакля на пять ходов раньше автора и раньше актеров, придумать невозможно. Театр всегда должен быть умнее, хитрее, занимательнее, чем может представить себе зритель, должен его опережать, ставить перед задачами нравственными, или сюжетными, или эмоциональными. Без этого театр не существует. Конечно, зритель может быстро понять идею, но он не должен моментально разгадать фабулу. Иначе интереса к спектаклю не жди. Иначе стопроцентный провал. И зачем тогда выслушивать беспрерывные разговоры о реконструкции какого-то производства, о замене старых котлов на новые?
Исходя из этих соображений, я решил рискнуть – сыграть нечто совершенно противоположное тому, что написано в пьесе.
И вот на сцене появляется какой-то седой гражданин в замызганном костюмишке, сутуловатый, с шаркающей походкой, со скрипучим и удивительно неприятным голосом, покручивающий в руках цепочку из скрепок. Какой-то такой, понимаете, нахохлившейся, старой и драной птицей выглядит этот человек. И тягуче, занудливо начинает приставать к окружающим.
Я рассчитывал на то, что зритель будет шокирован. Это и произошло. Зрительный зал поначалу ошарашен, он не понимает, кто пришел. Хватаются за программки. Там написано: директор завода, так он и рекомендуется. Директор завода? Да разве такие директора бывают? Зритель пытается разобраться, в чем тут дело – то ли в нездоровье актера, то ли в чем-то другом. И зритель с интересом начинает вытягивать шею по направлению к сцене, а не откидывается на спинку кресла, поглядывая на часы и рассчитывая время до конца спектакля.
А мой директор ходит, ко всем привязывается, сидит, развалившись, гоняет бесконечные чаи – ему секретарша все время приносит чай, со всеми разговаривает пренебрежительно, грубовато, насмешливо. И постепенно зритель раздражается: дескать, что же это за гусь-то лапчатый, почему он так вызывающе себя ведет? У одних рождается чувство протеста, у других – недоумение, третьим становится интересно, чем закончится дело, а четвертые уже придумывают, как бы наказать зарвавшегося актера. Но никто не спит, потому что странный, нахохлившийся, в старомодном костюмчике человек притягивает, как магнит. Потом, в процессе Спектакля, зритель поймет, что это человек умный, талантливый, прошедший огонь, воду и медные трубы. Друянов о себе, например, говорит: «Ты что же думаешь, меня впервой собираются снимать с занимаемой должности? Все, брат, было, всё. Ты знаешь, что у меня три ордена Ленина и двенадцать выговоров разного калибра?» И становится ясно, что человек с огромной жизненной школой в поведении лишь прикрывается этой манерой, как маской, от бесчисленного количества дураков. А что он и мужествен, и мудр, и по-директорски ответствен, это все узнают потом – в конце спектакля. И досмотрят спектакль до конца, потому что будут разгадывать характер. Что Зрителю до того, как куют котлы, ведь они необходимы в обыденной жизни, а в театре неинтересны! Зато зрителю важно Понять, что за человек перед ним. Поэтому процесс разгадывания личности Друянова в какой-то мере становится содержанием спектакля.
Кажется, мой эксперимент удался. Судя по рецензиям и по посещаемости спектакля, «День-деньской» имел приличный успех. Но и раздражал он людей тоже. Помню, в Свердловске собрали директоров на этот спектакль, и те были обижены – они утверждали, что такого директора быть не может. Странно,· никто из них не встал на защиту моего персонажа, хотя, казалось бы, они должны понимать, что в директорской работе зачастую не форма существенна, а содержание характера. Характер же Друянова именно директорский, по самой высокой мерке. Он берет на себя ответственность за реконструкцию, временно заваливает план ради того, чтобы потом выпускать новые котлы, потому что старые уже не будут продаваться, так как не соответствуют требованиям времени. Короче говоря, Друянов отвечает делом на государственные призывы к ответственности, к модернизации и интенсификации производства. Но странная штука: меня ругали в основном за то, что директор получился гнусавым, будто бы голос и внешность имеют первостепенное значение для человека на руководящей должности. Однако подобные суждения меня нисколько не обижали и не возмущали, & подчас даже смешили. И все же иногда горько бывает, что люди судят так поверхностно. Ведь давно известно: встречают по одежке, а прово– жают-то по уму.
Тем не менее, пока спектакль шел в театре, все было благополучно. Другое дело, когда его сняли на телевидении… Конечно, такой перенос спектакля со сцены на экран – дело в высшей степени сложное и даже опасное. На телевидении своя специфика и условия работы. То, что логично в театре, там частенько представляется совершенно несуразным. И то, что было выразительно на сцене, на экране становится убийственным, навязчивым и грубым. Мне известно немало спектаклей, которые погибли в результате такого переноса. Например, наша знаменитая «Принцесса Турандот» была снята ужасающе плохо. А дело в том, что в телепостановку перенесли лишь форму спектакля, а театральный задор блестящей постановки Вахтангова был утерян.
Похожее произошло и со спектаклем «День-деньской»: резкая форма характера годилась д ля театра, а ддя телевидения оказалась чрезмерной. Несмотря на все усилия сбавить тон, притушить остроту исполнения, мне, видимо, это мало удалось, и спектакль получился с известными погрешностями. Очевидно, особенности моей трактовки характера Друянова на крупном телевизионном плане еще более подчеркивались, и я стал получать великое множество писем, где меня снова ругали за то, что я посмел изобразить такого гнусавого директора. Ведь его на пушечный выстрел не подпустили бы к заводу! Словом, повторилась та же история, что с Горловым. А один зритель написал мне: «Товарищ Ульянов! Я так и не понял вчера: так хороший вы или плохой?»
Бедный, бедный зритель! Он привык, чтобы ему все разжевывали: где белое», где красное, кто фашист, кто русский, наш – не наш. Сам он не умеет думать и не может сообразить – каков же этот необычный человек, этот Друянов… К сожалению, за годы, прошедшие после выхода того спектакля, в этом плане ситуация не выправилась, а скорее усугубилась. Сейчас зритель зачастую отличает отрицательного героя от положительного только по названию, мол, если в телесериале не сказали, что это бандит, а это полицейский, то и не разберешь, кто есть кто. Тем более что методы борьбы друг с другом у подобных персонажей одинаковые от фильма к фильму. 1де уж тут задуматься о сюжетных коллизиях, о разнообразных проявлениях характеров…
В другой раз я получил письмо следующего содержания: «Мы, лаборантки такой-то лаборатории, сегодня весь день проспорили, считая, что вы неверно играете и неправильно отображаете образ советского директора». Невдомек было лаборанткам, что дело совсем не в том, правильно или неправильно я «отображаю». Просто я нарушил правила игры между актером и зрителем, чтобы расширить зону соприкосновения театра с реальностью. Я добавил полутонов, чтобы рельефнее изобразить одно из жизненных явлений. Но когда я погуще смешал краски, многие зрители растерялись и не поняли предложенных мной новых правил.
Имело ли смысл так поступать мне, актеру? Я постоянно задаюсь этим вопросом применительно к своим ролям. Каким цветом раскрасить своего героя, как воссоздать его облик, пластику движений, характерные, запоминающиеся повадки? Все это находится в рамках работы актера над образом. И, конечно, мне приходилось учитывать возможное мнение зрителя о том, что он увидит на сцене или на экране. Со временем после многих раздумий я пришел к выводу, что артист имеет право на такое своеволие, ведь жизнь гораздо сложнее всех наших творческих теорий и конструкций, разнообразнее всех наших бытовых установок и стереотипов. А эксперимент – это одна из форм искусства. И если драматург не сумел в пьесе показать сложность и противоречивость окружающей действительности, актер с позиции своего мастерства и профессионального прочтения образов через своего героя может и должен обогатить постановку новыми яркими находками.
Но в театре бывают ситуации с точностью до наоборот. Когда произведение настолько сложно и всеобъемлюще, что даже и не знаешь, с какой стороны за него взяться.
В сезон 1983/84 года в нашем театре впервые заговорили
овозможной сценической интерпретации романа Чингиза Айтматова «И дольше века длится день». Поначалу я отнесся к этой идее скептически и особенно ею не заинтересовался. Слишком много этажей у романа, слишком сложно-философски он написан, слишком всеохватны события, в нем показанные. Космос, реальность, древняя легенда. Как это соединить на сцене? Скажем, как воспроизвести космос? А легенду о манкуртах? Да и себя я не особенно причислял к участникам будущего спектакля. У меня в то время шли съемки фильма «Без свидетелей».
Но великое дело – заинтересованность и энергия. Наш товарищ Евгений Федоров, желая помочь театру в выборе современного репертуара – наиболее сложной задаче для любого коллектива, – настаивал на постановке спектакля по роману. Скептиков было много, верящих в подобную возможность было мало. Считали это неосуществимым и, в общем, бесперспективным делом.
Картина обычная для театральных будней. В работе отклоняется немало предложений, на которые всегда найдется, чем возразить. К сожалению, чаще не верят, не видят, не допускают, не представляют, не хотят, не дают, не помогают. Много бывает в театре этих проклятых «не». Чего стоит одно знаменитое «не вижу». Ну не видит актера режиссер и не принимает его в заданной роли – и все тут!
Конечно, постановщик имеет свое представление о роли, с которым я, как актер, скажем, не совпадаю. Что ж тут несправедливого? Это же законное право режиссера, ибо он выбирает и назначает актера на роль, исходя из общего понимания спектакля. Тем более что правильное распределение ролей внутри театральной труппы? – это действительно половина успеха. Несправедливо другое: актер большей частью бессилен доказать свое право на ту или иную роль, свою незаменимость в ней. Такова жестокая правда театра. Показы? Да, они существуют, но я затрудняюсь припомнить случаи, когда актеру удалось с их помощью переубедить постановщика.
Однако вернусь к роману Чингиза Айтматова. Стараясь продвинуть свою идею о постановке «И дольше века длится день», Федоров был настойчив и деятелен. Кроме того, по советским временам у него для этого был весьма солидный козырь «за». Федоров был избран секретарем театрального парткома, поэтому принципиально возражать ему никто не стал. И хорошо, как показало будущее. Поэтому вахтанговцы пригласили инсценировщика, и первый же вариант его инсценировки с треском прова– лйЛся на обсуждении художественного совета театра, а второй вызвал яростный отпор у актеров, уже назначенных на роли в будущий спектакль. Мне тоже эта работа показалась абсолютно неприемлемой, о чем я прямо и сказал. Согласия не получалось, поэтому пришлось подойти к постановке с Другой стороны.
На постановку спектакля театр пригласил известного режиссера, руководителя Казахского государственного теат*ра драмы Азербайжана Мадиевича Мамбетова. Видя сложное отношение к пьесе своего земляка, Мамбетов решил написать инсценировку сам. На это ушел почти год. Наконец, осенью 1984 года Азер– байжан Мадиевич привез новый вариант пьесы, который в основе своей устроил всех участников будущего спектакля, хотя работы и над ним предстояло еще много.
Литература – все-таки фундамент театра, как сказал Неми– рович-Данченко. Однако бесконечное множество раз читал я в газетах, слышал на разных совещаниях бессмысленный, на мой взгляд, разговор о том, вправе или нет театр и кино переводить прозаическое произведение в пьесу или сценарий. Притом часто муссировалось мнение, что уж если театр взялся за инсценирование повести или романа, то должен передать и весь их дух, и весь их смысл, и даже все их коллизии. А спор-то бессмысленный, потому что прозу инсценировали и ставили на театре с незапамятных времен! И какие порой получались шедевры1 Взять, например, знаменитый спектакль «Братья Карамазовы» от 1910 года во МХАТе или прекрасный спектакль «Три мешка сорной пшеницы» по Тендрякову в БДТ. Такие спектакли ставили и будут ставить впредь потому, наверное, что драматургия иногда серьезно отстает от прозы и в отражении горячей действительности, и в приближении к вечным проблемам. И проза приходила на Сцену тогда, когда в ней появлялись герои, которые оказывались жизненно необходимыми для театра. А среди театральных мастеров наверняка найдутся те, кому под силу перевести на свой язык и уместить на восьмидесяти – восьмидесяти пяти страницах пьесы смысл и главный нерв многостраничного тома.
Но судить театр за это надо по его законам. По законам драматургии, а не прозы. Драматургия – это встречный бой с действительностью, когда в определенный сценический момент надо завоевать конкретную эмоциональную высоту. Сделать это надо на глазах у зрителя до тех пор, пока занавес не закрылся. А прозаическое произведение – это генеральное наступление: на огромном пространстве, с вводом большого числа действующих лиц, с соучастием заинтересованного читателя, который по своему желанию сможет вернуться к книге и мыслям о ней в любое удобное для себя время. В этом, собственно, и отличие. Поэтому из-за различия целей и средств на сцене очень часто рождается художественное произведение, сильно отличающееся от своего литературного предшественника.
И вот нам предстояло решить, как лучше всего передать вневременную, глубокую и многоступенчатую прозу Айтматова на сцене Театра Вахтангова. Однако мы не были первыми, кто брался за роман, что естественно, ибо он поднял корневой вопрос – так что же является фундаментом, центром жизни в этом быстро меняющемся мире, когда человечество уже вырвалось в космос? Для писателя ответ очевиден: человек.
Все от человека, все от него. И правда и кривда. И свет и тьма. И разум и безумие. Нет зверя страшнее человека, когда он становится зверем. Все прекрасное в мире тоже от человека – города, открытия, искусство. Каким будет человек, таким будет мир и вся жизнь! Истинность этой формулы подтверждает нынешняя реальность, в которой человечество, овладев колоссальными силами, поставило планету на край небытия. Нет важнее темы, никогда не было горячее проблемы, чем эта. В этом секрет поразительного успеха, который получил роман у нас в стране и за рубежом.
Говорят, Чингиз Айтматов – один из самых читаемых писателей в мире. Немудрено, если в центре писательского мировоззрения и всех его произведений стоит обыкновенный человек. Но, пожалуй, ни в одной книге Айтматов не вывел такого земного и незаметного героя, как Едигей.
«Кто я – работяга, каким несть числа. Мне ли тревожиться, мне ли переживать?» – говорит о себе Едигей. Но в том-то и мощь, й особая примечательность, и новизна, и своевременность этого характера, что он чувствует свою ответственность, свою причастность ко всему, что творится в нашем мире. Издревле такие люди назывались солью земли.
Думается, Айтматов недаром поселил своего героя на далекий, богом забытый сарозекский железнодорожный разъезд, где только степь да верблюды. Туда и воду-то привозят в цистернах. И какое, казалось бы, дело Едигею до другого мира, далекого от Боранлы-Буранного разъезда? «Ведь наверняка там знают больше, чем здесь, в сарозеках». Живи себе потихоньку да выполняй свое дело. Но Айтматов умно и убедительно приводит читателя к непреложному выводу: все на свете завязано в тугой узел, где бы ты ни жил. Нет сейчас таких далеких и заброшенных уголков, куда бы не докатывались беды и радости остального мира. Все как на ладони, и говорят, что нет такого места на земном шаре, которое не просматривалось бы со спутников.








