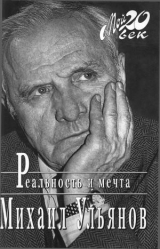
Текст книги "Реальность и мечта"
Автор книги: Михаил Ульянов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Все открыто, все наблюдаемо и поэтому страшно. Хаты с краю уже быть не может. Это верно и в глобальном понимании, и в индивидуально-человеческом плане. Большое связано с малым, малое с большим… Как жить в таких условиях? Спрятать голову в песок? Уйти в наркотический дурман, в алкоголь, в стяжательство, в соблазны, в бесконечную борьбу за власть?
Для Айтматова это не риторика, поэтому он отвечает ясно и четко: будь человеком, ответственным за все. Никто, человек, за тебя не решит твоих проблем. «Не бог, не царь и не герой». Только ты сам – своей ясностью, верой в разум и труд, в самого себя. «И пока у меня хватит сил, я не промолчу. А если уступлю, значит, уроню себя в своих глазах», – говорит Едигей.
В этом кроется главная сила Едигея, его несгибаемая сущность. Пока человек боится уронить себя в своих глазах и потерять свое лицо, взглянув в зеркало жизни, до той поры он непобедим и могуч, ибо ничего на свете нет выше человеческой совести. И люди, подобные Едигею, перешагнуть через нее не могут, понимая, что иначе останутся без душевного хребта и начнут гнуться во все стороны под ветрами перемен. Или донесутся, как перекати-поле, в края, где теплее и сытнее, где ты никому не дорог и тебе ничто не дорого. Таков Сабитжан, вечно боящийся, как бы на него не обиделись начальники. В остальном же ему все равно, как он выглядит и что о нем подумают люди. Все неважно, все не стыдно. Главное, угодить стоящим выше и сильным. 1лавное, чуть-чуть приблизиться к ним.
Читая Айтматова, я обратил внимание на редчайшую особенность его писательского дара: создавая живого, неповторимого человека, он умеет выявить в нем обобщенно-социальные черты. Именно суммарной индивидуальностью и обобщенностью своих характеров убедительны в романе представители двух полюсов – Едигей и Сабитжан.
Наверное, любую философию можно раскрыть в словах. Но как обозначить в сценических образах главные идеи романа, не потеряв при этом запахов казахской степи? Рассказать ли древние притчи? Раскрыть ли духовный мир Едигея через его любовь и нежность к Зарипе? Показать ли его несгибаемость под ударами судьбы? При всяком переносе прозы в драматургию возникают такие вопросы.
Едигей! Вероятно, в моем исполнении он мало походил на персонаж из романа Айтматова. Внешне уж точно. Мы даже гримы казахские не искали. Ведь для передачи общечеловеческих идей не так важно, какой национальности будет герой. Важно, что он человек в самом значительном смысле этого слова. И его тревожит все, что происходит с людьми. И он твердо верит, что спасти мир от безумия может лишь тот, кто знает, как важно оставаться человеком.
Для того чтобы построить здание спектакля, имея фундаментом гранит прозы Айтматова, мы использовали обыкновенные театральные средства-«опоры» – декорации и музыку. Они помогали лучше передать тревогу, полные беспокойства размышления героя, выбор им позиции в нашем кипящем мире, все то, чем так озабочен Айтматов.
Создавая декорации, не пожалел сил художник Иосиф Сум– баташвили.
Вся открытая сцена Театра Вахтангова была затянута желтым, как песок, материалом. «Сарозеки – желтые земли серединных песков»* – пишет автор в романе. И в этой бескрайности – взметенные, как пламя, как взрыв, как след ракеты, как девятый вал, вздыбленные рельсы. А «по сторонам от железной дороги лежат сарозеки». Все было метафорично и соответствовало авторскому видению. Это не фотография места, а именно его образ. Сумбаташвили как художнику присуще умение вот таким выразительным решением сценического пространства, одним точно найденным образом раскрыть весь характер, весь смысл спектакля. И ничего лишнего. Ни одной отвлекающей детали.
А музыка! Не часто мне встречалось такое проникновение в дух и смысл спектакля, как это получилось у композитора Гази– зы Жубановой. Музыка к спектаклю может быть и его помощницей, и его противницей, ненужным, раздражающим украшением, которое отвлекает от сути, от мысли и звучит поперек замысла, поперек решения. Точно найденное музыкальное сопровождение отличается тем, что его будто и не слышно, но возникает оно лишь й тот момент, когда так необходимо зрителю для рождения образа. Музыка Жубановой была именно такой. Ее мелодии с национальным колоритом удивительно органично вплелись в ткань спектакля и создали особую тревожно-чарующую ноту.
Немаловажно, что в романе Айтматова многие и, может быть, самые нужные для инсценировки размышления идут от автора. Их не всегда удается перевести в диалог, и в этом была наисложнейшая проблема. Как ни странно, после разных вариантов и проб мы остановились на старом, но единственно верном решении – пусть спектаклем будет рассказ-исповедь Едигея. А для попадания в образ следовало найти доверительную, душевную ноту этого рассказа, чтобы зритель превратился в заинтересованного свидетеля жизни Едигея. Соучастие этой исповеди по замыслу должно было придать спектаклю движение и дыхание. Через человеческую сопричастность нам хотелось добиться зеркального эффекта: чтобы, вслушиваясь в раздумья Едигея, зритель оглядывался на себя и распутывал свои сложности.
Особой театральной новизны в этом приеме не было – пови– димому, он известен еще со времен Эсхила. А проблема заключается в том, что есть темы, которые невыразимо трудно вынести на непосредственный суд зрителя. Чтобы здесь и сейчас вместе с ним разобраться, понять, найти позицию, оценить, принять всем сердцем или отвергнуть со всей ненавистью то, что в этот момент обсуждается на сцене. Для этого театру не хватает его сиюминутности, и зритель без ответа на заявленные в теме вопросы может остаться неудовлетворенным.
Только художественной публицистичностью было не обойтись. Нашему театральному Едигею в его муках и борениях с несправедливостью была необходима опора, верящий в него друг. В романе есть немало превосходно написанных внутренних монологов Едигея – их мы рискнули вынести в прямую речь, обращенную именно к другу. А стать им должен был… Всегда страшновато выходить к залу с рассказом-исповедью. Зато бывают минуты, когда радостно замирает актерское сердце от того внимания, настороженности, напряжения, которое видишь в глазах зрителей.
Нет музыканта без слушателя. Нет прозаика без читателя. Нет актера без зрителя. И неважно, каков он, работать приходится с ним и для него. Значит, надо постоянно искать путь к его сердцу. Делать это очень трудно, поэтому мне по-прежнему дороги встревоженные и серьезные глаза зрителя на спектакле «И дольше века длится день». Но я трезво понимаю, что дело тут не в моей актерской проникновенности, а в глубине, тревожности и честности айтматовской прозы, которую нам, наверное, удалось донести до зрителя, не расплескав ее богатства.
Всегда ли короли герои?
Разумеется, если подходить к этому вопросу исключительно со сценической позиции, то любой персонаж, в том числе король, – герой. Но короли всегда люди. И, поглядев шире, не с актерской, а с обыденной человеческой позиции, легко прийти к выводу, что далеко не каждый король имеет право называться героем.
Не устаю изумляться, до чего же тонкий инструмент – этот самый театр – придумал человек для своих отношений с временем и с порождениями времени в текущей жизни: со святыми, мучениками, с чудовищами, имеющими над людьми убийственную власть, с тиранами всех времен и народов, с вождями, непременно ведущими толпы к счастью и светлому будущему.
Страшны властительные тираны, а обыкновенному человеку для чего-то непременно хочется обличительно крикнуть им в лицо: «Ты тиран^Ты убийца!» И он исхитряется сделать это с высокого помоста сцены, даже зная, что вслед за этим помост славы может для него превратиться в эшафот, в подставку гильотины, в Лобное место… Очень часто современному тирану истина высказывается через повествование о подобном ему властителе прошедших веков. Интересно, что и сами обличительные спектакли стали драматургическими сюжетами. Вот Гамлет с бродячими комедиантами показывает повинному дяде историю об убийстве своего отца. Но не каждый тиран желает понимать аналогии с прошлым, а, для театра, для артистов важнее, чтобы их повесть понял зритель. Ведь без его участия не может происходить «игра в театр». Сцена и зритель – два равноправных участника действия. Между ними – безмолвный договор, который они прекрасно понимают, и условия игры, которые они непременно соблюдают. «Ты мне только намекни, и я тебя пойму!» – как бы говорит зритель. И театр, если это действительно театр,
есть остро отточенный инструмент, нравственно выверенный, 1еловечески чуткий, искусный в своем ремесле, – точно знает, > чем жаждет услышать зритель, каких ждет намеков.
Как показали эпохальные события в нашей стране, ухо зрителя особенно чутко к намекам и иносказаниям в тихие времена гражданского безмолвия, когда говорить вслух не то что опасно,
просто – не разрешено. А в бурю и ломку иная жажда проявляется у людей. Пойми ее, художник! Может быть, в такие времена зритель приходит в театр, чтобы услышать слово сочувствия и веры и, внимая сцене, снова ощутить, что он – «человек, а жизнь его священна и угодна Богу, что он не пылинка на ветру, не слеза на реснице… Он человек и должен прожить достойно свою единственную жизнь…».
– Таинство театра, его закон, его многовековая привычка одинаковы в любой стране, у любого народа в ведении этого странного диалога со множеством людей в зрительном зале. Странного, потому что сцена говорит, кричит, плачет о них, смеется им, взирающим из темноты, а люди, в темноте зала, молча сопереживают этому. Но если сцена талантлива, она слышит их безмолвный ответ. Это не телепатия, это единение и сопричастность. Так же происходит общее переживание, общее размышление и общее чувствование во время храмовой службы. Да и сам театр сродни храму – в нем служат искусству.
Иногда мне думается, что и театр, и литература, и музыка нужны для того, чтобы увеличить количество доброго среди людей. Ведь человеческое сердце жаждет прежде всего справедливости, а искусство, и театр в том числе, вершит суд над подлостью, своекорыстием, тщеславием, над злыми делами неправых мира сего. Театр восполняет в нашей жизни – особенно в эпохи «великих» диктаторов – существенный недостаток высшей справедливости и правды, называя и дурное и грязное, и прекрасное и доброе своими именами. А люди могут черпать из этого источника, кто сколько хочет, чтобы утолить свое сердце.
Я ничуть не заблуждаюсь, говоря, что театр, книга способны коренным образом повлиять на ход вещей в политике, на поведение правителей. Мне же думается, что театр – вообще искусство – может разбудить мысль человека, открыть ему глаза на прекрасное и опасное, научить личной ответственности за свой окоп в битве жизни. Если в это верить, а я все-таки верю, то в работе можно браться за поучительные исторические примеры, имеющие аналогию с нашей сегодняшней болью. И можно в день бегущий призывать старинную тень отца Гамлета, дабы она напоминала нам о важном…
Моя судьба сложилась витиевато в том смысле, что, будучи человеком негероического характера и заурядных внутренних сил, да к тому же самого рабоче-крестьянского вида и стати, я сыграл массу королей, императоров и вождей.
Правда, в начале работы в театре и кино я играл именно среднестатистического гражданина: это Каширин в фильме «Дом, в котором я живу», Саня Григорьев в «Двух капитанах», Бахирев в «Битве в пути». Позже акцент чуть-чуть передвинулся, и у меня появилась роль Трубникова в фильме «Председатель», человека явно неординарного, выбивающегося из общего ряда. А еще позже сыграл я и Георгия Жукова, нашего героя без всяких оговорок, героя не столько по почетному званию, сколько по сути своих дел и характеру. И все же это были типизированные люди, принадлежащие определенной эпохе в жизни нашей страны. Вероятно, была в этом логика, как писали некоторые критики, и я сумел в этих своих ролях отразить время и представление соотечественников о нем. А как же иначе, если я сам из ряда этих типичных людей, если эквивалентны им моя психика и мой внешний вид. Поэтому зрители поверили в моих героев как в своих современников.
Но актерская жизнь порой складывается непредсказуемо, и в ней все прибавлялось и прибавлялось королей да императоров. Почему? Потому что актер ролей не выбирает и театрального репертуара не строит. Но репертуар зависит от стоящей за окном эпохи, и от связанной с ней политической конъюнктуры, и от зрительских пристрастий. А для пьес, вошедших по этим причинам в репертуар, руководство театра и режиссер уже назначают актеров на роли. И не раньше, чем утверждена постановка, скажем, «Ричарда III» или «Наполеона Первого», можно думать о том, какая роль тебе достанется.
Бывает, что актер сам загорается спектаклем, в котором его ждет давно вымечтанная роль. Он может предложить этот спектакль своему театру. Но шансов на то, что ему пойдут навстречу, ничтожно мало. Так вышло у меня со спектаклем по пьесе Брукнера «Наполеон Первый». Вахтанговский театр не увидел в моем предложении ничего для себя интересного. И только счастливый случай в лице Анатолия Васильевича Эфроса и актрисы его театра Ольги Яковлевой позволил осуществиться моей мечте. Но к тому времени я был уже опытный «император»: за мной стояли Ричард и Цезарь.
А как быть, если царственная роль достается актеру по режиссерскому произволу? Вот, допустим, свершилось: я – король, даже больше – царь царей. Но как бы громок ни был титул, до тех пор, пока за ним не проглянет для актера живой человек, роль едва ли состоится. Так же как ничего не выйдет, если, исполняя роль профессионального слесаря, артист будет лишь имитировать типично слесарские ухватки и черточки, а играя пахаря – брести по меже за понурой лошадкой. Тут ни слесаря не получился, ни пахаря, ни тем более актера. Кстати сказать не для смеха, а бывали годы, когда «сверху» спускали разнарядки на спектакли производственного или сельскохозяйственного направления. Наверное, тяжело их было смотреть природным работягам, которые имели «родовое» представление о своем труде, на сцене же видели его убогое подобие. А бедные актеры в поте лица старались придать безликим производственным героям хоть что-то живое и человечное, хоть что-то индивидуальное.
Все это к вопросу об индивидуализации и типизации персонажей. По-настоящему живым герой станет, если найдется в нем нечто единственное, по-человечески неповторимое. И еще, если через его индивидуальность зритель сможет представить нечто общее.
Наполеон, Цезарь, Ричард, Ленин, Сталин – уникальны, это личности, которые стали символами народов и времен. Вживаясь в такие роли, актер в силу своей профессии обязан взглянуть на себя и на мир глазами своего героя, почувствовать, принять его правила игры с окружающими: с друзьями и с врагами. В чем его хитрость?.. А страх?.. Может, он амбициозен или тщеславен?..
И я подходил к ролям королей с собственной точки зрения и понимания. Нельзя же играть персонаж, не ощущая себя равным ему в момент этой игры, пусть он хоть трижды коронован.
И, обдумывая образ, я старался дознаться, что общего может быть между ним и мною. Что сделает роль достоверной в моем исполнении? Эго не значит – унизить, дегероизировать «большого человека». Да ведь и выше себя не прыгнешь, даже изображая Цезаря! Поэтому мои короли и императоры чуточку’заземлены, в смысле – приближены к земному, ибо не смог бы я сыграть этакую паву заморскую, этакого императорского величия: слишком я прост и обыкновенен. Меня и обвиняли в простоте. Отлично помню, как в «Огоньке» после выхода «Антония и Клеопатры» Любовь Орлова и Григорий Александров писали, что Цезарь у меня не император, это воин в распахнутой рубашке, с обнаженной грудью, с чересчур резкими движениями. Он и на императора-то не похож! Правда, они такое решение роли принимали, хотя и подчеркивали, что именно королевская, императорская стать вся убрана… Но позвольте спросить: кто же похож на императора? Может быть, Петр Великий, который в рабочей блузе тащит тележку с инструментами по мощеной уловке припортового голландского городишки?..
Мне всегда хотелось увидеть, в чем человечны великие мира сего, в чем их слабости, их человеческая достижимость снизу, от подножия тронов? Это не вопрос панибратства. Меня отнюдь не прельщает желание принизить значимую личность, но я преклоняюсь перед теми общеизвестными качествами человека, которые через неожиданность характера и решений пролагают путь к величию.
Вообще, если задуматься: что делает короля королем? Мас-са– свидетельств в истории тому, что король даже по наследственному праву далеко не всегда король в жизни. И его королевское облачение, его бармы, его скипетр и держава, его трон еще не делают его королем. Все это внешняя мишура, образующая некий панцирь, непроницаемую скорлупу и маску, способную отвести пытливый взгляд от истинного лица. Прячет короля и его окружение: глашатаи, герольды, думные дьяки и прочие «средства массовой информации» – от них идут волны величальной молвы, твердящей о божественности правителя. А внутри под этим бывает просто гниль. Поэтому для актера, пытающегося постичь нутро – человеческую суть короля-императора-вождя, важно как бы «пробиться к нему в спальню», увидеть его «голым».
Мудра сказка Андерсена о голом короле, о его «новом наряде» и о простодушном мальчишке, крикнувшем людям, что король-то голый! Эта притча будто о нас, актерах, о нашей сверхзадаче: простодушно показывать зрителям со сцены, каковы они – короли, под своими одеждами и масками.
А властители давят на актера своей властью, демонстративным величием и звездной недосягаемостью. Как же их играть? И тут задумаешься: а чего больше в работе артиста – художественного чутья или исторической грамотности, политического анализа, размышлений, основанных на собственных общественных приоритетах? Однозначного ответа нет, зато в каждой хорошо исполненной роли есть доля творческого расчета, интуиции, психологического анализа личности, которую примеряешь на себя, и профессиональной тактики, чтобы не выдохнуться на пути от репетиции к спектаклю. Но для меня в основе всей работы над характером того или иного властителя всегда лежит еще и моя общественно-политическая позиция. В этом, пожалуй, есть особая прелесть моей странной профессии – через роль актер может выразить больше, чем объяснить на митинге, в газетной статье или в официальном докладе. Тем более что художественное воздействие несмываемо. Газету бросишь и забудешь, а творческое открытие, прикосновение к нему оставляют в душе след на всю жизнь. И в этом смысле театр – сила удивительная, а на актере из-за этого лежит огромная ответственность.
Среди тех ролей, которые требуют от артиста полной, без остатка самоотдачи, я непременно назову Ричарда III.
«Ричард III» – это высочайшая вершина в великолепном шекспировском наследии, и для ее покорения нужны изрядные силы и средства. Но, несмотря на заведомые трудности, она влечет к себе и тянет, как настоящие горные высоты.
Кто из актеров с замиранием сердца не мечтал сыграть столь блистательного мерзавца и злодея? Эта роль – обширный полигон для неожиданных решений, находок, потрясающих сцен, ярких монологов! В этом герое сосредоточены поразительные контрасты уродства и силы, ничтожества и мощи. Тут есть что сыграть! Тут есть ради чего играть! Одно слово – гастрольная роль, из репертуара многих знаменитых трагиков. А я, если говорить откровенно, и не помышлял о Ричарде III. Для него я слишком русский, простой, не героический и не трагичный. Мне были непонятны и страшны такие натуры, а на одном перевоплощении подобную роль не сыграешь. Она играется не лицедейством, а всем существом, всем сердцем. В нее надо вложить весь опыт, все прожитое и нажитое.
Кто-то хорошо сформулировал, что качество работы художника зависит от количества прошлого опыта. Без его изрядного накопления нельзя играть в трагедиях Шекспира. Верно отметил, кажется, Росси: «Беда в том, что, как играть Ромео, познаешь в семьдесят, а играть надо его в семнадцать». Прожив жизнь в театре, я тоже согласился с этой бесспорной, но горькой и, я бы сказал, несправедливой по отношению к актеру истиной, хотя порой даже нескольких десятилетий не хватает, чтобы понять роль.
В шестидесятые годы прошлого века Михаил Федорович Астангов, затевая постановку «Ричарда III», пригласил меня быть сорежиссером и вторым исполнителем. Но тогда я едва ли мог войти в спектакль со своей трактовкой роли и своим видением постановки. Хотя бы потому, что Астангов совсем иначе понимал характер Ричарда. Так как он был актером романтическим, приподнятым, то и играл бы Ричарда как демоническую, сатанинскую личность. Приблизительно так он много лет показывал в концертах сцену с леди Анной. Это было его поле. Здесь он был неподражаем, убедителен, бесконечно театрален и интересен. А я бы подчинился творческому диктату Михаила Федоровича, но едва ли достиг бы большего, чем более или менее удачное копирование.
Вообще роли, подобные Ричарду, должен репетировать либо один актер, либо два очень равных по творческим силам. При этом режиссеру следует трезво учитывать не только интересы спектакля, но также интересы обоих исполнителей, а это большей частью не получается.
Та, к великому сожалению, не осуществленная Астанговым работа едва ли дала бы мне возможность открыть в роли что-то свое. Ну а говорить о студенческом Ричарде, который был в моей биографии, совсем несерьезно. Это напоминало жалкий лепет без мысли, без темы. Правда, смелость, с которой я тогда взялся за Ричарда, не была чем-то исключительным. С «безумством храбрых» мы, школяры, брались за любые роли, осуществляя самостоятельные работы. Так мы учились плавать, и в этом безусловная ценность юношеской самонадеянности.
То есть все мои приближения к образу Ричарда. III носили, в общем, случайный характер. И когда после смерти Астангова работа над спектаклем была отложена, я принял это как должное. Не был я готов к ней и отошел от нее со спокойной совестью. Впоследствии, когда возникали разговоры о том, чтобы поставить и сыграть «Ричарда III», я также отказывался от этих попыток, трезво понимая, что одному, без сильного режиссера мне этот груз не потянуть.
За плечами каждого актера тянется вереница воспоминаний о несыгранных ролях и невозвратных постановках. Они откладывались или отменялись по решению руководства, из-за неудачно сложившихся обстоятельств, из-за необходимости играть другие роли и ставить другие спектакли. Порой в отсутствии заинтересованного режиссера не увидели свет, может быть, удивительные образы. Несыгранные роли, непоставленные спектакли – зарытый клад, который уже никогда не будет найден. Вот и Ричард мог бы стать для меня таким неосуществленным замыслом. Но, видимо, случай ждал своего часа.
В 1974 году Театр Вахтангова выехал на гастроли в Ереван. Там работал давний друг театра, ученик Рубена Николаевича Симонова, крупный армянский режиссер Рачия Никитович, Капланян. Он был хорошо известен в театральном мире, зарекомендовав себя мастером со своим стилем и особенным даром сценического мышления. В «1енрихе VI», например, – а Капланян вообще тяготел к Шекспиру – на пустой сцене у него после гибели очередного героя лишь появлялся могильный крест, и в конце спектакля сцена являла собой кладбище. Капланян был театрален в самом прекрасном значении этого слова. Его постановкам были свойственны выразительные, несущие символ мизансцены, контраст прекрасного и омерзительного, возвышенного и натуралистического. И вот в Ереване в один из свободных дней этот самобытный режиссер пригласил нас оценить фрагменты его нового спектакля «Ричард III». Мы каждый вечер играли и полностью посмотреть спектакль не могли, но то, что увидели, показалось очень интересным. Почти всю сцену занимал огромный трон, который превращался то в дворцовые переходы, то в место казни, то в неправдоподобно большой стол государственного совета, то в улицы Лондона. Это визуальное решение декорации, позволявшее мгновенно менять место действия, точно выражало главную тему спектакля – тиранию. Гигантский трон, и на нем маленький, как паучок, человек – очень емкая метафора!
Под впечатлением от увиденного мы завели разговор о том, что хорошо бы у нас, в Москве, поставить «Ричарда III». Тут интересы пересеклись: Капланян давно хотел поработать с вахтанговским коллективом, кроме того, уже вызрело решение для серьезной постановки, и были актеры, которые заинтересовались этой работой. К тому же наш главный режиссер Евгений Симонов должен был ехать в Польшу ставить «Антония и Клеопатру», и в его отсутствие театр нуждался в новом спектакле. Тогда же мы в принципе договорились: Капланян поставит у нас «Ричарда III», приняв за основу решение спектакля, идущего в Ереване.
' После этого события мне пришлось думать о Ричарде III уже не отвлеченно и вообще, а сознавая возможность подойти вплотную к такой грандиозной роли, о которой даже мечтать жутко.
Трудно передать в словах изменчивый, противоречивый ход размышлений актера, когда он работает над ролью. Постфактум ход этих мыслей можно складно и последовательно записать на бумаге, и будет в этом некое подобие географической карты. Вот на ней нарисована река – голубая, четкая линия, навевающая идиллические фантазии о первозданной природе, но, только оказавшись на настоящей речной стремнине, сумеешь понять, какая тебе грозит опасность. Работа актера похожа на плавание по незнакомой реке, когда не знаешь ни ее начала, ни ее конца, ни фарватера, ни того, что скрыто за поворотом. В сходной ситуации я оказался в октябре 1975 года после распределения ролей. Тогда помимо исполнения роли Ричарда Капланян предложил мне быть еще и сорежиссером спектакля. И мы вступили на этот крестный путь.
Так с чего же начать? Ричард III… Какой он? Каким его играть? Чем он интересен сегодня? Что за мир, в котором он жил? Каким был этот XV век?
Известный исследователь Шекспира Гервинус писал в 1877 году: «Для актера ни одна роль не представляет более обширной задачи. Привлекательность и высота этой задачи заключается вовсе не в том, что актер должен являться здесь попеременно то героем, то любовником, то государственным человеком, то шутом, то лицемером, то закоренелым злодеем, то кающимся грешником; не в том, что ему приходится переходить от напряженнейшей страсти к самому фамильярному тону разговора, от выражения полного доверия – то к сильной речи воина, то к хитрости дипломата, то к красноречию вкрадчивого любовника; не в том, что эта роль представляет богатейший материал для резких переходов, для тончайших оттенков игры, для выставления напоказ всего искусства мимики и дикции, а в том, что актеру необходимо здесь среди многоразличных тонов отыскать один основной руководящий тон, который связывает все это разнообразие в одно целое».
; Питер Брук отмечал: «Овладеть такой ролью, как роль Гамлета или Отелло, актеру удается не чаще одного или двух раз в столетие». Не ново, но читать подобное страшновато. А «Ричард III» после «Гамлета» – самая обширная, самая глубокая из пьес Шекспира.
Самозванец Ричард, узурпировавший трон… Из какого ада восстало такое чудовище? Почему оно вышло на политическую арену Средневековья? Значит, были исторические условия, в которых мог появиться такой человек. В исследовании «Общественная жизнь Англии XV века» говорится о действительно страшных приметах того времени: «Свобода личности была совершенно уничтожена благодаря ужасной государственной системе и постоянным произвольным арестам и заточениям граждан. Правосудие было уничтожено. Папа, король, епископ и дворянин соперничали в жадности, в похотливости, в бесчестности, в безжалостной жестокости. Именно это нравственное вырождение и бросает мрачную тень на эпоху войны Алой и Белой розы. Дикие битвы, беспощадные казни, бесстыдные измены представляются тем более ужасными, что цели, за которые дрались люди, были чисто эгоистические, что в самой борьбе замечалось полное отсутствие каких-либо прочных результатов. Эта моральная дезорганизация общества отразилась на людях. Все дела делались тайно, одно говорилось, а другое подразумевалось, так что не бывало ничего ясного и открыто доказанного, а вместо этого по привычке к скрытности, к тайне люди всегда ко всему относились с внутренним подозрением».
И вот этой наступающей анархией, всеобщим разложением нравов порожден Ричард III, характер исключительный, противоестественный, чудовищный. Даже не количеством совершенных насилий взращен он, а отрицанием всех связей, божеских и человеческих, всех естественных, родственных уз, откровенной циничностью беспредельного индивидуализма.
В озлобленном мире Ричард безусловно злодей, но и все окружающие его тоже злодеи. И немощный сластолюбец Эдвард, и бесцветный, незадачливый интриган Кларенс, чванная и алчная родня королевы, и беспринципный карьерист Бекингем, глупый и тусклый Хестингс, двуличный дипломат Стенли. Таков этот мир. Рисуя нам историю Ричарда, Шекспир, видимо, исходил из следующего положения: когда подорваны основы здоровой государственной жизни, когда справедливость попрана и страна погрузилась в хаос, высший успех выпадает на долю самого сильного, самого ловкого и самого бессовестной). Таков Ричард, провозглашающий свой символ веры: «Кулак – вот совесть. Меч – вот наше право».
Изучая в Исторической библиотеке материалы, связанные с эпохой этого английского короля, я будто погружался в мутные воды раздоров, междоусобиц, яростной борьбь) за власть наверху, заброшенности и растерянности народа, у которого всегда и везде «трещат чубы, когда паны дерутся». Нельзя было не увидеть, не узнать в английском «зеркале» и перипетий Смутного; времени на Руси, когда объявился самозванец 1ришка Отрепьев, Тушинский вор. И разве не в подобном хаосе революции семнадцатого года народ сбрасывал царя, а общество расползлось лоскутьями партий, движений, группировок и власть в стране подмяла под себя самая сильная, жестокая и хваткая партия большевиков?
Ричард III, король Англии, с легкой руки великого Шекспира веками олицетворял тиранов самого низкого пошиба: тиранов– узурпаторов, особо коварных, особо жестоких и неразборчивых в средствах для достижения целей. Надо ли говорить, какой современной нам фигурой вдохновлялись мы с Рачией Никитовичем? Невысокая фигура «отца всех народов» числилась среди наших «разборок» с Ричардом, ибо с ней неизменно связывалось наше представление о человеческой природе тирана, о молекулярном строении его «я»… Ричард властвовал над Англией около трех лет. У нас над страной «хозяин» стоял не три, а тридцать три года, и получилось это у него многократно страшней. Но при необходимости он также любил плести интриги и ломать комедии, как до и после него делают не слишком разборчивые в средствах правители. По их примеру наш Ричард тоже уходит «в отставку». У нас была такая замечательная по логике спектакля сцена, когда приспешники просят Ричарда на королевство. А он жеманится: «Как – я?! Я не могу, я слишком маленький!» И всем видно, что он лжет. И тут же он: «Ну, если уж вы хотите…»








