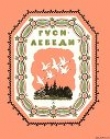Текст книги "Гуси-лебеди летят"
Автор книги: Михаил Стельмах
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 10 страниц)
РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
На лодочке и весле от нас отъехал май. Он прихватил с собой синие дожди, зеленый шум и соловьиное пение, и в деревню сквозь заборы заглянуло лето.
Так, словно сказку, говорит моя мать. Она говорит, что больше всего чудес на свете делается летом на рассвете, это именно тогда, когда мне так хочется спать. Вот и сейчас, надувшийся и заспанный, я стою посреди комнаты, не зная, где и что искать. А мать, уже мокрая от росы, пришла с огорода и мягко-мягко кладет мне руку на плечо, а глазами показывает на открытое окно и таинственно спрашивает:
– Мишенька, ты ничего не слышишь?
Дед, взглянув на мать, приводит улыбку в бороду и молчит. А я смотрю на сизый от росы огород, на косматые деревья сада, на клочки тумана, путающегося между их кронами и землей, на еле-еле очерченные крыши, прислушиваюсь ко всему, но слышу только утреннюю печаль росы.
– Не слышишь, как лето пошло нашим огородом? – удивляется мать.
– Нет, – говорю я с сожалением, но тут же представляю себе, как где-то неподалеку в цветной, наброшенной на плечи шали широко бредет туманом лето, и от меня сразу отлетает сон.
– Вот пойдем посмотрим хоть на его следы, – так же таинственно говорит мать, и мы выходим из жилища, мама улыбаясь, а я зевая. У самого порога с нами здоровается почти задымленная росой вишня. – Вот видишь, сегодня летечко коснулось руками ягод, и они начали краснеть.
Я смотрю на вишни, и у них действительно то тут, то там краснеют пухленькие щечки. А мать уже показывает, что на стеблях гороха появился еще сонный первый цвет, а на ранней груше рдеют грушки, те самые, которые сквозь ресницы присматриваются к земле. И все это чудо сделало лето за одну-единственную ночь и пошло себе дальше, чтобы на рассвете, когда я сплю, снова заглянуть к нам. Как бы мне подстеречь его?
– Доброе утро, тетя Анна! – около перелаза появляется попова служанка Марьяна, ее высокие удивленные брови, и красивые венчики ресниц, и утренние синие глаза, и влажные приоткрытые губы таят в себе столько юношеского задора и радости, что и мне, соньке, становится веселее.
– Доброе утро, непоседа, – улыбается мать. – Куда так рано чешешь?
– К вам. Можно?
– А почему нельзя?
Марьяна, мелькнув тяжелыми косами, по-мальчишески перепрыгивает плетень и сразу же оглядывается, не зацепилась ли юбкой. Нет, все обошлось. Она подбегает к матери, целуется и подает что-то, завернутое в полочку.
– Это что за напасть с самого утра на меня? – шутя, удивляется мать.
– Не напасть, а поповские из барского теста марципаны, – смеется Марьяна, блестя зубами.
– Ой смотри, девушка, перепадет тебе на бублики за эти марципаны. Ты же знаешь характер нашей попадьи: все шипит, как яичница на сковороде.
– Не бойтесь, а не обеднеет она. Правда, Миша? – напевно говорит девушка и заговорщически поднимает высокие удивленные брови.
– Да, правда, – охотно соглашаюсь, потому что Марьяна очень нравится мне и в полочке то вкусно пахнет.
– Какие у тебя цветы красивые, – присматривается мать к рукавам Марьяниной сорочки.
Девушка обрадовалась от похвалы и доверчиво сказала:
– Потому что так хочется чего-то хорошего в мире и для себя, и для людей, – и сразу же спохватилась, почему-то смутилась и с сожалением кивнул на меня: – Раненько вы его, малого, будите.
– Раненько, – как-то заговорщицки посмотрела мать на девушку, – потому что все хочется показать ему, как на рассвете по селу ходит лето.
– Разве что так, – покачала головой Марьяна и почему-то вздохнула. – Ты, Мишенька, до сих пор не видел лета?
– Я не видел, Марьяна.
– Ну еще увидишь: твое все впереди. Ты сегодня пасти в леса или на перелоги собираешься?
– Куда дедушка скажет.
– Валяй в леса. Знаешь, где Якимовский загон?
– Почему не знаю.
– Там возле загона попасешь лошадь, а в загородке нарвешь себе черешен.
– Да, нарвешь, когда они еще не созрели.
– Созрели.
– Не может быть: вчера сколько леса прошел – и везде одни зеленухи.
– Это были, Миша, видать, черные черешни, а белых, ранних, уже коснулось лето. Ты не видел, какие они в Якимовской загородке? Большие-большие, а щечки с одной стороны покрасневшие. Поедешь?
– Поехать – не фокус, – засомневался я. – Но не достанется мне за эти черешни?
– Не бойся: я вчера сказала дяде Акиму, чтобы он тебе позволил нарвать черешен, потому что подумала, что ты не откажешься от такого дела.
– Вот спасибо, Марьяна!
– Благодарностью не отбудешь: принесешь мне несколько лучших ягодок на сережки, – показала на ухо, засмеялась и тише обратилась к матери: – Чтобы вы знали, тетечка, какой мне сегодня сон приснился!
– Расскажи – буду знать.
Над синими девичьими глазами трогательно затрепетала ресницы:
– Снится мне, будто я в своем селе и в своей хате вымешиваю на рассвете тесто в кадке, а к моему окну подошел полный месяц и присматривается, что я делаю. В эту минутку в дом заходит моя тетка и спрашивает:
– Кому ты, Марьяна, месишь тесто в кадке?
– А я тихонько ей: «Этому месяцу ясному…» Что вы скажете на такое чудо?
Мать улыбнулась так, что радость и грусть затрепетала на ее губах и морщинах, шли от них:
– Скажу тебе, Марьяна, что скоро ты будешь месить дежу не попадье, а своему месяцу.
– О, такое придумаете, – смутилась, покраснела девушка, а в ямках ее заиграла радость.
– Пусть только ясно светит тебе твой месяц, – вздохнула мать.
Девушка припала к ней, что-то зашептала на ухо, а потом спохватилась:
– Побегу, потому что, может, проснулась моя попадья и уже кричит из постели: «Кохвию!».
– И где она его теперь достает?
– Изредка у перекупщиков, а то из сушеных желудей мелем. Господа и свиньи любят их, – засмеялась и, как ветер, вырвалась со двора.
– Метелица, и все. И где она в бога растет такая красота, и кого она наколдует себе? – улыбнулась ей вслед мать, а дальше загрустила: – Если бы ей случилась хорошая пара. А то, не дай бог, попадется невесть что и растопчет молодой век, как цветок на дороге.
Не знаю почему, но мать моя всегда соболезновала судьбам служанок, бедных девушек, особенно тех, что выходят замуж в чужую сторону. Поэтому молодость почти ежедневно веяла косами в нашем доме. Каких только песен ни перепела она с моей матерью, каких только тайн не рассказала ей. Даже в недоброй памяти тысяча девятьсот тридцать седьмом году, когда над моей тогда кудрявой головой нависло несчастье, мать, как могла, днем утешала меня своей и девичьей песней, а ночью при звездах плачем молила судьбу, чтобы она была справедливой к ее ребенку…
– Мама, так я сегодня поеду в Якимовскую загородку.
– А ты не заблудишься, сынок?
– Я же говорил, что знаю дорогу.
– И откуда это знание? – удивляется мать. – Я сама, кажись, не попала бы туда.
– Женщины почему-то плохо запоминают лесные урочища, – говорю немного свысока, а сам и не признаюсь, что не раз терял дорогу в лесах. Но я их так люблю, так сроднился с ними, что даже прошлые огорчения теперь вспоминаются с улыбкой.
А было у меня одно приключение, о котором до сих пор никому не говорил. Перед зелеными праздниками пришлось мне повести Обменную на ночь в леса. Зная нрав нашей клячи, я очень опасался, чтобы она куда-нибудь не забрела, не сделала потравы либо не прибилась в чью-то загородку. Тогда кто-то заберет ее – и ищи ветра в поле. Поэтому я додумался сделать вот так: длинную уздечку привязал себе к ноге, надвинул шапку на уши и лег спать. Обменная пасется, понемногу тянет меня за собой, а я то просыпаюсь, то снова засыпаю. И надо же было, чтобы она на рассвете почему-то прянула и сиганула в туман, волоча меня по земле. Пока я, ударившись о несколько пеньков, вскочил на ноги, из моих глаз, как из дымарей, разлетались искры и поджигали деревья. Наверное, только туман и роса спасли их от пожара. Дня два тогда гудели жернова в моей голове, но я держался, как и надлежало парню…
После завтрака я перебросил сумку через плечо и вывел из конюшни нашу вредную-превредную седую кобылу, которая держит в синих глазах настороженность, скрытность и тот коварный огонек, что умеет сразу вспыхнуть злобой. Это же надо додуматься, чтобы за свои деньги приобрести вот такую напасть!
Мы долго-долго копили на бедняцкого коня, а купили невесть что. Получилось оно странно и смешно. Когда в дедовом кошельке немного зазвенело деньжат, он, прихватив и меня, уехал с Трофимом Тимченко на ярмарку в те Багриновцы, где люди почему-то не любили букву «г». Вместо Григорий, груша, грабли, гром они говорили Риорий, руша, рабли, ром.
Ярмарка началась с встреч и целований с родными, свояками и знакомыми. А поскольку моего деда знали по всем близлежащим селам, ему не так просто было дойти до места, где торгуют лошадьми, – его сразу потянули в те незаконные «домики», где люди по-разному оставляли свои деньги: одни за них набирались веселья, а другие – печали. Дед как раз был из тех, что покупают веселье на душу, а румянцы на вид. Вскоре он сидел в теплой кумпании за столом и прямо на поржавевшие селедки выбивал из кремня искры, еще и выводил свою любимую:
Як продала дiвчина курку,
То купила козаковi люльку,
Люльку за курку купила,
Бо козака вiрно любила…
А дальше уже вся кумпания, позабыв о торге и несмотря на испуганного корчмаря, пела о той влюбленной девушке, которая приобрела казаку за юбку – губку, за гребень – кремень, за сало – кресало, а за душу – табака папушу[9]9
Папуша – связка, пачка табачных листьев.
[Закрыть].
– Люди добрые да красные, дай бог всем долгих лет и хорошего здоровья, но зачем вот вам петь? – причитал и хватался за перезревшие кудри прижимистый хозяин, опасаясь гостей из сельсовета или комбеда…
– Я и в рай не хочу, если там не будет песен. Ведь что для бедного человека самое дорогое? – пошатываясь, спросил корчмаря раскрасневшийся дед.
Тот хотя и дрожал, но шельмовато улыбнулся:
– Что самое дорогое, спрашиваете? Деньги и рюмка той, что непечалицей называется.
– Ну что ты мелешь, несчастный сребролюбец! – разгневался дедушка. – Самым дорогим для бедного человека есть земля, верная жена и песня. Вот слышал песню об этой девушке? Но что ты знаешь? Налить и продать! – и дед обращался к землячеству: – Вы понимаете, какой эта девушка была? Да во всем мире ищите, не найдете такой, чтобы так любила курильщика! Курцы, курцы, имеете пожизненный памятник себе!
Все с этим соглашались и начинали, новую песню. А тут еще и еще приходили люди, которым дед делал то телеги, то сани, то колеса, то соломорезку. От седого, как грусть, самогона у одних появлялся на лицах пот, а у других – слезы. И то, и другое вытиралось рукавами, а руки снова тянулись к щербатым глиняным рюмкам и вяленым вьюнам, которые теперь заменяли тарань.
Когда, наконец, дедушка и дядя Трофим спохватились, что им нужно покупать коня, ярмарка начала понемногу разъезжаться.
– Да когда же тот день промелькнул? – удивился дед.
– Не иначе, как кто-то взял и укоротил его нынче, – убежденно сказал дядя Трофим. – Есть же такие субчики, которым не только люди, а даже день мешает.
– Что есть, то есть, никуда их не денешь.
Дойдя до такой истины, дядя Трофим и дедушка, шатаясь, вышли из домика и на непослушных ногах отправились в лошадиные ряды. Первым встретился им остроглазый, черный, как дёготница, цыган. Он, попустив повод, провел мимо нас такого коня-блескунца, что все сияло и играло на нем. У деда сначала загорелись, а потом погрустнели глаза: конь был не по его деньгам. Но дяде Трофиму теперь все уже казалось возможным.
– Эй, чернобровый и черноглазый, сколько просишь за своего разбойника? – пошатываясь, крикнул цыгану.
Тот оглянулся, подвел к нам коня, который перебирал копытами землю.
– Сколько прошу, хозяин? – стали жалостными глаза у цыгана. – Ой, лучше не говорите, и не спрашивайте, и не травите душу, потому что это не конь, а мое сердце. Не станет коня – не станет моего сердца.
– Так зачем же ты его на ярмарку вывел? – взялось сочувствием дедово лицо.
– Не я его вывел – само горе вывело. Упирался бедный цыган руками и ногами, а беда преодолела и повела его в своих поводах…
– Послушайте этого оскорбленного обманщика, он еще и не такого нафурчит, – пьяненько засмеялся дядя Трофим. – Сколько же ты, ералашный, ломишь за свое сердце?
– Зачем кому-то показалось обворованное цыганское сердце, – опечалился продавец и ресницами, как мельницами, погасил хитринки в глазах. – А за коня прошу пятьдесят золотом или серебром.
– Ого! – только и смог сказать дед, потому что в его кошельке лежали одна золотая пятерка и шесть рублей серебром.
– А какую вы, господин самый щедрый, положите цену за этого красавца? – цыган картинно полуобернулся с конем, чтобы мы все увидели его лебединую шею, офицерскую кокарду на лбу и те глаза, что бархатились синим испуганным предвечерьем.
– Не будем мы класть цены, ищи, человече, более зажиточных купцов, – с грустью сказал дедушка.
Но цыгану, видно, хотелось поторговаться. Он форсисто повел глазами и плечом:
– А все же: сколько бы вы дали?
– Сколько? Десять рублей! – отчаянно рубанул дядя Трофим, рука у него сейчас была такая тяжелая, что всего его повела набок. Это удивило человека, он подозрительно посмотрел на кулак и только сказал: «Ты смотри».
А цыган, сразу разозлился, повернулся и уже через плечо бросил неосторожному покупателю:
– Всегда на ярмарке найдешь двух дураков: один дорого просит, другой дешево дает.
– Вот злоязычное семья, еще болтает! – дядя Трофим погрозил кулаком цыгану в спину и уже осторожно опустил его вниз.
Мы долго толкались промеж лошадьми, но чего-то стоящего за наши деньги нельзя было купить. Наконец, когда вечер начал падать на село, а хмель совсем разобрал деда и дядю Трофима, они остановились перед седой с прогнутым позвоночником клячей, ее держал за огрызок длинноногий и тоже подвыпивший, в вылезшей шапке крестьянин. На его длинные усы напирал красный, как стручок перца, нос, а из щек выбивался желтоватый перевитый прожилками румянец.
– Сколько этот рысак просит? – спросил дядя Трофим, заглядывая кляче в зубы.
Та яростно ощерилась и чуть не отхватила дяде палец.
– Видите, какой это рысак!? Огонь, а не конь! – повеселел длинноусый, пряча от покупателей уменьшившиеся от хмеля и лукавые глаза.
– Только пузатый этот огонь, как гитара. Так какую за него цену просите? – уже осторожнее подошел к кляче дядя Трофим.
– Все ваши деньги! – не думая, выпалил длинноногий.
– Как это все? – удивился дедушка. – Еще никогда не слышал такой странной цены.
– Так слушайте!
– Да он пьяный, и цена его пьяная, – еле повернул языком дядя Трофим.
– Я пьяный?! – возмутился мужчина. – Вы пьяные, как затычки в сивушных бочках.
– Никого здесь, добрый человек, нет пьяного, – примирительно сказал дедушка. – Мы все трезвые, и ноги наши, слава богу, держатся земли.
– Ну да, земли, – согласился длинноногий и хмельно потрогал землю ногой.
– Так сколько же за вашу лошадь?
– Все ваши деньги, все до копеечки.
– Может, у нас только и есть, что одни копейки, – засмеялся дедушка.
– Не морочьте головы. Я вижу, с кем имею дело, и мошонку в вашем кармане тоже вижу. – Он даже тихонько хмыкнул: – Ой, видит бог, ой, видит творец, украл мужик жита корец[10]10
Корец – ковш, устаревшая мера центнер.
[Закрыть].
Дед хотел было подхватить колядку, но вспомнил, что надо все-таки вести торг, и сказал:
– Если так, а не иначе, то оставь, добрый человек, один рубль на развод и магарыч.
– На развод? – задумался крестьянин и полез рукой к полысевшей шапке. – Это можно, потому что каждый человек должен что-то иметь на развод. Давайте руку и мошонку.
Дед, удивляясь такому необычному торгу, вынул мешок, развязал его, но почему-то на минуту засомневался и потихоньку пробормотал к дяде Трофиму:
– Что-то оно, слышишь, очень странно получается. Может, это не конь, а кобыла?
– Да что вы! Так перебрать? – чистосердечно возмутился дядя Трофим. – За кого же вы тогда меня держите. Я коня за версту по духу чую. Я на конях все зубы съел! Вы хвалите бога и всех апостолов, что такая даровщинка случилась.
Так за десять рублей мы разжились конем и поехали домой. А утром бабушка, первой наведавшись в конюшни, пришла в дом, трясясь от смеха:
– Демьян, ты после вчерашнего хоть немного проспался?
– Да вроде проспался, и в голове не гудит, – бодро ответил дед.
– Правда не гудит? – еще больше развеселилась бабушка. – Скажи, что ты вчера купил на ярмарке?
– Еще спрашиваешь? Коня! – гордо ответил дедушка.
– Коня? – припадая к косяку, чтобы не свалиться от смеха, переспросила бабушка. – А чего же он, твой конь, за одну-единственную ночь кобылой стал?
– Ты что несешь, старая!? – ошарашенно спросил дед. – Как же конь может стать кобылой?
– Пойди посмотри!
Мы все четверо во весь опор побежали в конюшни. Дедушка вывел оттуда вчерашнего коня, который сегодня, на трезвые глаза, почему-то стал кобылой.
– Что ты, Демьян, на это скажешь? – бабушка начала рукой вытирать слезы от смеха.
– Обменная! – только и произнес дедушка, и здесь уже начали хохотать мы втроем: бабушка, мама и я.
– А он же говорил, что все зубы съел на лошадях! Придет – утоплю! – грозно посмотрел дедушка в ту сторону, где жил дядя Трофим, и пристыжено пошел мастерить под навес.
Дядя Трофим после этого долго обходил наш двор. А потом, как-то в разные стороны поставив глаза, пришел в дом с хлебом под рукой и бутылкой в кармане.
– Ну, покажи свои зубы, как ты их съел на лошадях! – сразу подсек его дедушка.
– Здесь дело, говорил же тот, не в зубах. Добрый день… Здесь, видите, дело… – У дяди Трофима язык теперь так цеплялся за зубы, а слова так вели себя, что не удавалось что-то толком понять. Он долго, невнятно и хитроумно сваливал всю вину на горемычную бедняцкую судьбу, которой черт не выгребает червонцев, а только козничает.
– Да помолчи уж, Трофим – не вытерпела бабушка. – Таких разинь противно слушать: не говорит, а жвачку жует. Не судьбу и нечистого, а лишнюю рюмку вини. Через нее поглупели оба.
– И она немного виновата, разве я что? Я ничего такого не говорю, но судьба тоже свои коленки выбрасывает. Чего бы ей было не подойти к нам?
– Тогда не только судьбе, но и трезвому человеку нельзя было подойти к таким пьяницам! – засмеялась бабушка.
Улыбнулся и дядя Трофим, который до этого сидел как в рассоле.
Утепление же неудачника-покупателя началось с того, что мать бросилась к печи, а дед в глиняные с цветами рюмки разлив непечальницу. И уже вскоре он начал напевать о девушке, которая продала курицу, чтобы купить казаку трубку. А дядя Трофим еще долго оправдывался перед женщинами и все нападал на фортуну. Слова у него и сейчас тоже выбивались медленно, но веселее. Дядя Трофим не любил быстро ни говорить, ни работать. Даже когда в пруду как-то тонул наш староста, дядя Трофим не сразу взялся его спасать. Стоя на берегу и раздумывая, он неподвижно смотрел на утопающего. Скупой староста, видя, что смерть заглянула ему в глаза, умоляюще протянул:
– Спаси мою душу, Трофим… Сто рублей дам.
– А какими деньгами: серебром золотом или бумажными? – спросил дядя, зная характер старосты.
– Разными, Трофим, – выдавил скупердяй.
Дядя Трофим спас нашего свечкодуйя, но ни серебра-золота, ни бумажных денег от него не дождался, потому что тогда староста и так был введен в разорение: дядя вытащил его на берег без сапог. Вот если бы он еще и сапоги выхватил, тогда, может, и имел бы оплату от скупердяги. На это дядя Трофим заметил:
– Вот когда вам второй раз придется тонуть, не надевайте сапог…
К нашей кобыле сразу же прилипло прозвище Обменная, а мне пришлось пасти ее и приноравливаться к ней.
Уже солнце понемногу начало собирать росу, когда я доехал до Якимовской загородки. Она была обнесена веселыми свежеструганными жердями, за ними покато уходила под солнце высокая трава. Здесь алели крестики дикой гвоздики, красовался марьянник садовый, хвасталась белыми веночками ромашка и все с кем-то перемигивалась хрупкая метлица с длинными ресницами. А над травой возвышались беспорядочно разбросанные черешни, яблони, груши и косматые кислицы.
На другой половине ограждения стояли в убогих дедовских шапках старые дуплянки и с десяток ульев, а к ним прижимался свеженький курень. Я соскакиваю с лошади и вдруг замираю на заросшей травой дороге: под жердями с той стороны, на которую густолесье бросило тени, напевая, мелькнула женская фигура. Накинутый на ее плечи цветной платок, поднятые вверх руки и неторопливая походка напомнили мне утренние слова матери. Может, это и в самом деле не женщина, а само лето идет себе загородками, лесами и, напевая, наклоняется к земляничникам и грибным местам, поднимает руки к плодовым деревьям?
Женская фигура исчезает в лесу, а я начинаю присматриваться, не оставила ли она за собой какой-то след. У самой дороги показалась разбросанная кучка молоденьких шампиньонов, дальше кто-то распылил по траве землянику, а за изгородью на белой черешне сочно розовеют ягоды. Мне, может, еще долго пришлось бы рассуждать о том, кто прошел под лесом, но сбоку прозвучал легкий смех.
Я обернулся. У самой изгороди с лукошком в руке стояла черноволосая худенькая девочка лет восьми, глаза у нее карие, с каплями росы, румянцы темные, а губы оттопырились розовым потрескавшимся узелком и почему-то радуются себе. Так почему бы и мне не улыбнуться девушке? Я это охотно делаю, прищурив глаза, в которые насыпалось солнца.
– А я знаю, как тебя зовут, – доверчиво говорит девушка и двумя пальцами перебирает стеклянное с каплями солнца ожерелье.
– Не может такого быть.
– Вот и может такое быть, – показывает черноволосая свои редкие зубы.
– Откуда ты узнала?
– А зимой, помнишь?.. – прыснула она.
– Что зимой?
– Помнишь, как спускался на корыте с холма?..
Теперь мы начинаем смеяться оба, хотя мне не очень приятно вспоминать, чем закончился тот спуск. Но этого уже девочка не знает.
– Я тогда подумала: смелый ты!
– А чего же, – не знаю, что сказать, хотя и приятно становится от похвалы: нашелся-таки хоть один человек, который не осудил меня за тот спуск.
– Хочешь земляники? – протягивает мне полное лукошко, посередине скрепленное прутиком.
Кто бы не хотел полакомиться ягодами, но не подходит парню брать их у девочки, и я равнодушно говорю:
– Нет, не хочу.
– Бери, я еще наберу. Здесь ее много.
Тогда я сбиваю в лукошке верхушку и высыпаю ягоды в рот.
– Правда, вкусные?
– Вкусные. – Наконец пускаю самопасом в лес лошадь. – А как тебя зовут?
– Любой.
– И что ты здесь делаешь?
– За пасекой присматриваю.
– Сама?
– Сама-одна, – посеревшие губы девушки погрустнели, а бровки стали такими, как будто кто-то начал нанизывать их изнутри.
– А где же твои родители?
– Мать дома возятся, а отец пошли на закладку дома. Наверное, поздно придут за мной.
– А ты не видела, что за женщина недавно в лес пошла? – машу рукой на тот край загородки.
– В цветастом платке?
– В цветастом.
– Это моя тетя Василина, – сразу прояснилось лицо Любы. – Она так хорошо умеет петь и выводить. А дядя поедом ест ее за песни, чтобы не манила людей на голос.
– Вот как! – Опять отплыла от меня сказка, и стало жалко тетю Василину, которую угнетает вреднючий дядька. Лучше бы она была этим настоящим летом, что идет по земле и творит свои чудеса.
– Ты не хочешь посмотреть на наш курень? – трогает меня за рукав Люба.
– А что там есть?
– Ничего такого, но мне славно, а вечером уютно. Ты ягоды приехал рвать?
– Откуда ты знаешь? – удивляюсь я.
– Знаю, – таинственно говорит девушка. – Кто-то мне в лесу шепнул на это ухо.
– Кто же тебе шепнул на это ухо?
Мои слова смыли таинственность с лица Любы, и она, не выдержав игры, весело фыркнула:
– Марьяна сказала. Она вчера у нас рвала попу черешни и замолвила перед папом словечко за тебя. Правда, она славная?
– Очень славная, – соглашаюсь я.
– А видел, как она вышивает красиво?
– Видел.
– Она как-то у нас немного вышивала, и не девичью, а мальчуковую сорочку. Пожалуй, у нее уже есть молодой.
– И это может быть, – говорю я немного с сожалением, потому что жалко будет, если кто-то заберет Марьяну и я ее больше не увижу.
– А у нас дома есть козленок, – девушке все хочется рассказать мне. – Папа зимой нашел его с перебитой ножкой.
– А у нас автомобиль был.
– Автомобиль? – не верит девушка и широко смотрит на меня. – Может, не автомобиль, а чертопхайка?
– Нет, самый настоящий, на четырех колесах, автомобиль, – радуюсь, что мне есть чем удивить девушку.
Да и не только ее! Когда надо сбить спесь кому-то из хвастунишек, я всегда побеждаю их бывшим автомобилем, который был у нас целых два дня.
– Где же вы взяли самый настоящий автомобиль? – верит и не верит Люба моим словам.
– Пусть тебе отец об этом расскажет – он должен знать. – Говорю так, будто мне не хочется рассказывать о прошлогодней истории.
– Нет, нет, я хочу от тебя услышать, – заискрились глазки. – Это так интересно.
– Тогда слушай. В прошлом году, может, знаешь, по нашей дороге отступало на Польшу войско Пилсудского. Вот оно, убегая, и бросило подбитый автомобиль. Когда люди сказали об этом дедушке, то он побежал к нему, как молодой, а потом на волах привез эту машину к себе. Тогда было нам всем работы. Дедушка даже поесть не отходил от автомобиля, потому что никогда не имел дела с такой машинерией, а разобраться хотелось до конца.
– И не побоялся? – вскрикнула девушка.
– Чего же бояться?
– А может, там черт сидел, который тянет машину?
– Машину тянет не черт, а мотор.
– Кто его знает, засомневалась Люба. – У нас люди по-разному говорят. Ну, а дальше что?
– Помучился, повозился дедушка возле машины, и она ожила: зачихала, загудела, задрожали и уехала. Она может ехать вперед и назад. Тогда посадил меня дедушка возле себя на кожаную подушку с пружинами, и мы начали наведываться к близкой и дальней родне. Что уж интересно было – и не спрашивай: люди везде выбегают посмотреть на чудо, женщины страшатся и крестятся, детвора бегом за нами лупит и на дармовщину, как может, цепляется сзади, собаки бегут стаей, под колеса бросаются, куры и гуси разлетаются, только пух и перья сыплются, а мы с дедом так уж гордимся и так подпрыгиваем на барских сидениях, как будто всю жизнь не слезали с автомобилей.
– И хорошо было ехать?
– И хорошо, и мягко.
– Может, и я когда-то покатаюсь на такой машине, – мечтательно улыбнулась Люба.
– И это может быть, если не побоишься, – пренебрежительно сказал я.
– А куда же вы дели свой автомобиль?
– У нас его хотели на дармовщину какие-то шпикулянты за мыло выцыганить. Они и просили, и пугали деда, мол, знаете, что вам будет, когда Пилсудский вернется? Бабушка уже и согласилась была взять за автомобиль десяток длинных брусков солдатского мыла, а дедушка сказал, что мы еще можем белой глиной стирать белье. Тогда на торг подоспел староста. Ему не машина была нужна, хотел содрать кожу с подушек. Такое сумасшествие очень разозлило дедушку, и он сказал, что грех драть шкуру с человека, а кожу с машины. А староста сказал, что он больше разбирается в грехах, чем тот, кто порезал на дрова фигуры апостолов. После этого дедушка ушел на совет, как ему быть, к дяде Себастьяну, а дальше сдал машину в уезд. И за это мы имеем благодарность от самой Революции.
– А у нашего деда Революция хорошего коня забрала, а взамен плохого дала.
– Потому что так надо было, – говорю я словами дяди Себастьяна, и девушка соглашается со мной, а дальше вспоминает, что мне пора рвать ягоды.
– Хочешь я тебя к самой лучшей черешне поведу? Ее тетя Василина зовет «песней».
– Почему же она ее так зовет?
– Потому что эти черешни очень хорошие, и на них дольше всего держится роса, как на тетиных песнях слезы.
Мы оба грустнеем, молча перелезаем через изгородь и травами, что бархатятся и бархатятся, идем к той черешне, которая дольше всего держит росы. Она, высокая и кудрявая, только несколько шагов отошла от леса и колышет в себе солнце, на ее ветвях красуются не отдельные ягоды, а целые веночки. Вот несколько таких веночков я принесу Марьяне вместо сережек.
– Лезь, – говорит мне Люба.
– Может, и тебя подсадить?
– Не надо, я буду землянику собирать. Насушим ее на зиму, так и простуда будет не страшна.
Девушка согнулась, выискивая в траве землянику, а я полез на черешню. Рвать ягоды на таком дереве – любота: потянешь веночек к себе – и в руке смеются рисованными щечками отборные черешни… Я и поныне, вспоминая деревья своего детства, думаю, что мало, ой как мало наши садоводы и селекционеры исследовали богатые сокровища природы и народной селекции…
Спустя какое-то время ко мне долетела песня про цвет-расцвет и о той любви, которую разбили враги. А когда отпечалилась песня, кто-то под корни деревьям, а дальше и на травы бросил такого веселья, что у меня и на черешне заплясали ноги. Я поднялся вверх, чтобы разглядеть, что делается внизу. В лесу, напевая себе, на солнечном кружочке извивалась в танце маленькая девичья фигура, ей, видно, никак не хотелось отходить от солнечного круга, подсвечивающего веселые босые ножки, и Люба кружилась и кружилась на нем, пока не упала на землю.
– Вот мы так собираем землянику на зиму!? – крикнул я с самой верхушки.
Девочка, как ошпаренная, вскочила на ноги, еще раз крутнулась вокруг себя, показала мне язык, засмеялась и крикнула:
– Не будь шкваркой!
– А ты не болтай!
– О, нашел болтунью! – засмеялась Люба. – Иди-ка лучше сюда.
– Зачем?
– Поможешь раздуть огонь.
– А зачем он тебе?
– Надо!
Я слез с черешни и пошел к шалашу. Недалеко от него на лесной пропаленной заплатке чернели угли и огарки. Люба, уже припав к земле, так дула на них, что из глаз текли слезы, но ее старания были напрасными.
– Подожди, девка, не вороши весь пепел. Вот мы поищем живой уголек. – Я палочкой расшевелил погасший костер и нашел, на радость Любе, уголек, на краю которого еще держалась точка огня. К нему мы приложили сухой берест, подули попеременно, берест затрещал, задымил и загорелся. Теперь уж нетрудно было разжечь костер.
– Вот мы и кулеша наварим, – Люба побежала в курень, вынесла оттуда котелок, таганок и мешочек с пшеном, в котором еще роскошествовал кусок старого сала.
– И ты умеешь кулеш варить? – удивился я.
– Да почему не умею, вот увидишь, какой будет вкусный, когда толченным салом заправлю…
И действительно, кулеш ее удался на славу. Усевшись на землю, мы ели его прямо из котелка, я нахваливал кухарку, а она стыдливо и радостно отмахивалась смуглой рукой, в которой держала зачерствевший житняк.
– И что тут такого: кулеш как кулеш! Вот борщ сварить – это дело более трудное.
– А ты умеешь?
– Со щавеля умею, а со свеклой и фасолью еще нет… А ты когда-нибудь белую трясогузку видел?
– Голубую видел, а белую – нет.
– А барсука?
– Тоже нет.
– А я видела несколько раз, нора его недалеко, и он вечерами высовывается из нее. Вылезет, постоит, послушает что делается вокруг, а потом начинает охотиться. Осенью он приходит в наш загон лакомиться яблоками.