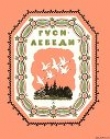Текст книги "Гуси-лебеди летят"
Автор книги: Михаил Стельмах
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц)
– Так ведь сказала, что тыквенные.
– Они заболели или как, что надо отогревать? – осторожно выспрашиваю, чтобы не попасть в силки.
– Скажешь тоже. Для того вынашиваю, чтобы в них раньше проснулась жизнь и чтобы тыквы были большими. Ты же видел, что у нас тыквы, как подсвинки, лежат?
– Видел.
– То-то и оно: отогревание очень пособляет.
Но меня не так заинтересовало отогревание, как семена. Вот если бы мать потеряла пояс, тогда имел бы Юхрим что щелкать, а я читать. И закружились мои мысли вокруг пояса, как ночные мотыльки возле огня. Я знал, что это крутится та же бестолочь, которая не выходит «вон оттуда», но уже ничего не мог с собой поделать.
И может, долго бы я мудрил с тем поясом, если бы неожиданно не повезло мне: сегодня мать начала доставать из кладовки, с сундука, из ящиков, из-под потолка и даже из-за божницы свои узелки. В них лежало все то, что дальше взойдет, зацветет, начнет красоваться и перевьется по всему огороду: огурцы, фасоль белая, пестрая и фиолетовая, бесчешуйный горох, турецкие бобы, черное просо на развод, кукуруза желтая и красная, капуста, свекла, мак, морковь, петрушка, лук, чеснок, нут, подсолнечник, ипомея, ноготки, бархатцы, гвоздика и еще всякая всячина.
Мать радостно перебирала свое добро, хвалилась его силой и уже видела себя в огороде среди лета, когда ноги веселит роса, а глаза и руки – разное зелье. Я тоже в мыслях забирался в горох или наклонял к себе поющие маковки, но это не мешало мне больше всего присматриваться к узелкам с тыквенными семенами. Они были немалые, и немного можно было бы из них отобрать. Чтобы не очень стараться самому, я попросил немного его у матери, но она, поскупившись, дала мне только одну щепотку:
– Больше нельзя, Михайлик, потому что это семена!
В ее устах и душе «семена» было святым словом. И хоть не раз она роптали на свою мужицкую судьбу с ее вечными спутниками – лишениями и нищетой, однако ничего так не любила, как землю. Мать верила: земля все знает, что говорит или думает человек, она может сердиться и быть хорошей, и в одиночестве тихонько разговаривала с нею, доверяя свои радости, боли и посылая просьбы, чтобы она родила на долю всякого: и работящего, и ледащего.
Когда на огороде появлялась первая завязь огурца или зацветал повернувшийся к солнцу подсолнух, мать брала меня, малого, за руку и вела посмотреть на это чудо, и тогда в голубоватых ее глазах собиралось столько радости, словно она была казначеем всей земли. Она первая в мире научила меня любить росы, легкий утренний туман, пьянящий любисток, мяту, маковый цвет, осеннюю рябину и калину, она первой показала, как плачет от радости дерево, когда приходит весна, и как в расцветшем подсолнечнике ночует опьяневший шмель. От нее первой я услышал про Калинов мост, к которому до сих пор тянусь мыслями и сердцем…
Забыв меня, мать начинает потихоньку разговаривать с семенами, одно восхваляя, а другое жалея или даже порицая.
– Ой, горох, горох, что же ты прошлым летом допустил к себе червей? – упрекает она отборным горошинам. – Смотри в этом году не делай такого. А ты, боб, почему почернел, что за печаль тебя поедом ест?..
Со двора входит дедушка, он смотрит, что делается на столе, и улыбается:
– Началось бабье колдовство.
– Отец, разве можно такое говорить? – как будто страшится мать.
Ей и до сих пор в диковинку, что дедушка не так держится земли, как своего ремесла.
– Нельзя, нельзя, – сразу же соглашается свекор.
В это время на улице гремит телега и около наших ворот останавливаются невзрачные кони. Дедушка присматривается к крестьянину, слезающему с телеги, и добродушно смеется:
– И мы, если подумать, люди не простые: к нам тоже министры заезжают!
– Какие министры? – сразу встрепенулся я, надеясь услышать что-то интересное.
Дедушка тычет пальцем в окно:
– Видишь вон дядьку в лаптях, что отворяет ворота?
– Вижу.
– Это и есть министр.
– Такое скажете! – смеюсь я.
– Ты не смейся – самого настоящего министра видишь, – уверяет дедушка.
– Говорите! Разве я не читал и не видел в журнале «Нива», какими были министры?
– А о таких не читал, и в журналах их не печатали.
Дед выходит из дома, а за ним выбегаю и я, ведь не каждый день к нам приезжают министры, если дедушка не придумывает.
Незнакомый крестьянин с умными глазами сердечно здоровается с дедом, интересуется его здоровьем, а дальше речь идет о погоде и озимых, о неизвестных мне людях, о разрухе, голоде на Юге, политике, бандитах и загранице, которая все несытым глазом смотрит на нас. Нет, с какой стороны ни присмотрись, не похож дядя Стратон на министра. Наконец он спрашивает деда, не даст ли тот толк его деревянному плугу.
– Деревянному? – переспросил дедушка.
– А где же железным разживешься? – нахмурился дядя Стратон. – Пошло теперь все железо на смерть человеческую, а на жизнь ничего не осталось.
– Это правда, – вздыхает дедушка. – Где только не лежат наши дети с железом в груди…
– Трех братьев имел и ни одного не дождался с войны. Самый старший в Франции погиб. Но печаль печалью, а пахать-сеять надо.
Мы подходим к телеге, на которой лежит самодельный плуг. И корпус его, и грядиль, и передний скат плуга – все сделано из дерева. Я впервые видел такой странный плуг.
– Жидкая рожь, – по-своему говорит дедушка. Все, что не нравится ему, он зовет жидким или бескорневым. – Разве в вашем селе нет хорошего мастера?
– Такого, как вы, нет. Дай кому-то, так он из дерева наделает щепок, потому-то и приехал к вам.
– Придется пособить человеку, – немного пренебрежительно машет рукой на плуг дедушка. – Лемех и резец найдутся у тебя?
– Лемеха нет, а резец, может, с австрийского штыка сделать? Он из хорошей стали варился.
– Пусть их нечистые на том свете в смоле варят, – кого-то проклинает дедушка. А я знаю, что это касается империалистов и милитаристов, только не знаю, какая между ними разница.
Когда дед пошел в мастерскую искать что-то на лемех, я тихонько сказал дяде Стратону:
– А дедушка, когда вы приехали, хотел посмеяться надо мной… – и замолкаю.
– Как же он хотел посмеяться? – догадался спросить у меня дядя Стратон.
– А вы не будете сердиться, если скажу?
– Да, пожалуй, не буду.
– Он говорил, что вы были министром.
– Таки был министром, – улыбнулся человек и посмотрел на свои лапти.
Я пристально смотрю на него, но не похоже, чтобы надо мной смеялись.
– И где же вы были министром? В Санкт-Петербурге?
– Да нет, немного ближе, – щурится дядя Стратон.
– Тогда в Киеве?
– Нет, еще ближе, – играют глаза и все двенадцать золотистых пятнышек, весело разместившихся на зеницах.
– Тогда в Виннице? – совсем разочарованно смотрю на дядю Стратона.
– Еще ближе: в своем селе!
– И что это за мода пошла у взрослых – обманывать маленьких, – говорю я обиженно и, махнув рукой, поворачиваюсь к хате. Но на мое плечо ложится жесткая рука дяди Стратона.
– Подожди, дитя недоверчивое, никто и не думал тебя обманывать. Я сущую правду говорю тебе, парень. Это по столицам жили барские министры, а мы были мужицкими.
– И вы были с ними заодно?
– Нет, мы были против них.
– А во что же вы одевались?
– В то, что имели: одни в кожухи, другие – в сермяги, третьи – в свитки, четвертые – в поддевки. Кто имел сапоги – носил сапоги, а кто и в лаптях ходил.
«Сколько света, столько и чудес!» – сказала бы на это моя мать.
– И за кого вы были? – интересуюсь я дальше.
– За свою крестьянско-бедняцкую республику.
– Она большая была?..
– Три села и два хуторка. Но немцы, австрияки и гетманцы имели с нами хлопоты: мы никого не пускали к себе, пока нас не разбили. А когда разбили, то леса стали нашей республикой.
– А теперь вы, дядя Стратон, уже не министр?
– Нет, теперь я комбедчик, – весело смеется дядя Стратон.
Таки, видать, он ничуть не горюет, что лишился своего министерского звания, не так, как некоторые сейчас.
С дядей Стратоном мы прощаемся уже друзьями, он приглашает меня приехать с дедом в их село. Там до сих пор стоит дом, где собирались все мужицкие министры, а их премьер-министр теперь председательствует – аж в уездном потребсоюзе.
Едва дядя Стратон уехал домой, к нам пришел староста. Дедушка говорит, что он толстый, как гусь осенью, а походку имеет утиную. Вспомнив это, я сразу веселею, а староста, шевеля развесистыми губами, подозрительно смотрит на меня. Дальше, смиренно вздыхая, он сразу начинает жаловаться на тонкое дело – политику. Церковный староста считает себя незаурядным политиком, потому что заглядывал в газету, которую выписывает поп, и даже выхватил из нее десяток не понятных ни ему, ни людям слов и лепит их, где надо и где не надо. От международностей он переходит на керосин и соль, которых не купишь сейчас.
– То ли при большевиках парадоксально море пересохло, то ли эту соль Антанта по тезисам к буржуазии вывезла? – тюкает и тюкает свое.
Но и дедушка тоже деликатно тюкнул его:
– А вы так сделайте по тезисам: волы – в воз и парадоксально к морю. Там все узнаете, еще и соли домой привезете.
Старосте не нравится, что дедушка перехватывает его ученость, и начинает говорить без нее:
– Поедешь по шерсть, а вернешься стриженым, потому что такое время: нигде нет никакого порядка. Да как он может быть, когда теперь не то что соли – даже народа не стало.
– Да опомнитесь, человече! Зачем вы такие печали высыпаете среди бела дня? – начал дед стыдить старосту. – Где же это, по-вашему, делся народ?
– Спросите об этом у большевиков. Это когда-то все были люди, а теперь стали – кулаки, середняки и нищета.
– А при помазаннике божьем не видели нищеты? Или тогда даже козы в золоте ходили?
– Козы тогда не ходили в золоте, – отводит насмешку староста, – но что было моим, то было моим, а теперь никто не разберет, где мое, где твое, а где наше. Он уже Себастьян комбедчикам нарезал Ильцовщину, то не будет ли ему, как изменится власть, нарезки на одном месте?
– Все может быть, – соглашается дедушка. – Иногда даже за длинный язык бывает сякая-такая нарезка на другом месте.
– Да я не против, чтобы нарезали Ильцовщину – это помещичья земля, – хитрит староста. – А вот как предковую начнут резать…
– Далеко вперед вы пустили кур… с каким-то делом или с политикой пришли ко мне?
Староста хмурится, вертит головой и вздыхает:
– Да надо сделать круг колес, только такая у меня бедность…
– Так почему вы в комбед не запишитесь? Там понемногу помогают беднякам, – смеется дедушка, а лицо старосты берется сизоватым румянцем.
В это время на пороге появилась мать. Она окинула взглядом двор и пошла к соседям. А мне только этого и надо: я сразу юрк в дом разыскивать тыквенные семена. Они, дожидаясь своего часа, лежали на дымоходе. Посмотрев в окна, я развернул оба узелка и в тревоге посмотрел на отборные, обведенные ободком зерна, что дышали прозрачной и легкой чешуей.
И почему теперь не осенняя пора, когда тыквы бьют прямо об землю, а потом из их золотистых пазух выбирают скользкое семя? Кто бы тогда заметил те четыре стакана, которые надо занести Юхриму? А вот как сейчас?.. Узелки же большие. Может, как-то все и обойдется? Я знаю, что за такие мысли меня стоит отпороть, но не могу преодолеть искушения.
Соскочив на пол, взял со шкафа для посуды граненый стакан и, холодея, начал на печи намерять семена – два стакана в один карман, два – в другой. Они мне показалось вначале жгучими и тяжелыми, как камни. Дальше осталось накрест завязать узелки и положить точнехонько так, как они лежали. Когда я снова опускаюсь на пол, с божницы на меня строго смотрит и грозит пальцем седой бог-отец – единственный свидетель моего грехопадения.
Со страхом и невеселой радостью, которая пробивалась сквозь все тревоги, я выскочил на весеннюю улицу, где каждая лужица держала в себе кусок солнца. Оно сейчас во все стороны мерками рассыпало тепло, раструшивало лучи, и в нем так веселели голубоватые домики, будто кто-то приглашал их на танец. Под заборами уже вылезала крапива и дурман, а над заборами набухала и смотрелась глеем вишневая почка. Думая о своем, я выхожу на другую улицу и в это время сбоку слышу неласковый мужской голос:
– Бог подаст, добрая женщина. Бог! Он богаче нас.
Эти слова приглушает рычание собаки и тяжелый звон цепи. Я оглядываюсь на двор, обнесенный глухим высоким частоколом, где затих голос мужчины, чтобы его продолжал собачий лай. Сквозь него я слышу еще с сеней:
– Откуда же они?
– Да будто бы из Херсона, – равнодушно ответил первый голос. – Бродят всякие, а ты подавай и подавай, как не ломтик, то картофель.
– Когда уже это разорение закончится?
Со двора испуганно выходит в лохмотьях, в растоптанной обуви еще молодая женщина с глубокими глазами, ее взгляд ищет земли, а разгонистые брови летят вверх. Сбоку к ней жмется босоногий без картуза мальчишка, их исстрадавшиеся, истощенные лица припали теменью дальних дорог и голода. Женщина останавливается напротив меня, потрескавшимися пальцами поправляет платок, а в ее черных глазах закипают темные слезы…
Я до сих пор помню того, кто пожалел ее материнству, ее ребенку кусок насущного хлеба. Это был богатый и богомольный человек, через руки которого проходили голодом пригнанные катеринки, петрики, золотые империалы и серебряные рубли с большими головами мелкого царя. Я до сих пор помню тучную фигуру этого богача. Он имел святообразную голову и бороду, у него всегда хорошо родили поля, луга, лесные делянки – и только под перелогом лежала одна душа. Только потому, что он уже умер, не называю его имени…
Женщина, скрестив руки на груди, робко оглянулась, ища двор, который бы не ощерился на нее собаками, а ребенок недоверчиво, исподлобья смотрели на меня. На его тонкой шее покачивалась тяжеловатая голова, оканчивающаяся взбитыми хмелевидными кудрями. И тут я вспомнил о своих семечках. Вынул горсть и подал малышу. Он обеими ручонками схватил зерна, а потом посмотрел на мать. Та кивнула головой и вздохнула точнехонько так, как иногда в недобрый час вздыхала моя мать. Потом я высыпал в подол сорочки мальчика семян с одного кармана и взялся за другой. Но женщина остановила меня.
– Спасибо, дитя, не надо больше, ой, не надо, – склонила ко мне скорбные глаза, разгонистые брови, и я на своей щеке ощутил прикосновение ее губ и слез. – Пусть тебе, дитя, всегда, всегда хорошо будет промеж людьми.
Меня так поразили ее слезы и слова, я тоже чуть не заплакал от горя…
А может, это не женщина, а моя глубокоглазая крестьянская судьба тогда прислонилась ко мне!?.
Она еще раз обвела меня своим скорбным взглядом и пошла с ребенком прямо на мою улицу. Между вишняками раз и второй раз мелькнул ее платок – и уже нет ни женщины, ни ее глубоких глаз, ни ребенка с хмелинами кудрей. А я, как из сна, выхожу из человеческого страдания и долго смотрю ему вслед.
Со двора богача выходит длиннющая черная свинья, на ее шее покачивается деревянная колодка. И на ней, и на морде, и на копытах свиньи густеет истолченный картофель.
«А ты подавай и подавай, как не ломтик, то картофель», – снова заскрипел голос богача, и я с отвращением ушел от высоченного частокола и глухих ворот…
А вот куда мне дальше деваться? Вернуться домой или идти к Юхриму Бабенко. Может, раскошелится он и за два стакана семечек даст почитать книгу? Догнал или не догнал, а попытаться можно.
И я уже бегу с улочки в улочку, а навстречу мне ветерок бросает зеленые ивовые прутья и солнечное снование, что шевелится в ветвях.
Юхрима я застаю на второй половине дома. Сейчас он уже не в галифе, а в обычных потертых штанах сидит на скамье и указательным пальцем правой руки выбивает не то стон, не то рычание из балалайки, еще и помогает ей ногами и пением:
Отчего ты карапет,
Оттого, что денег нет.
Отчего же денег нет?
Потому, что карапет.
Около Юхрима на столе стоит большая, как горшок, чернильница, из нее торчит толстая с обгрызенным концом ручка, а в сбоку от них лежит несколько исписанных листов бумаги. Наверное, Юхрим и сейчас «строчит» какой-то материал, а чтобы лучше строчилось, он еще и музыкой забавляется.
Увидев меня, старый холостяк отбросил волосы набок, обнажил набухшую жилку на лбу и засмеялся:
– Вот и тыквенные семечки, соображаю, сами по всем параграфам пришли в дом! Угадал, малец?
«Чего ему так понравилось звать меня мальцом?»
Юхрим видит, что я молчу, переспрашивает:
– Угадал?
– Немного угадали, – пробормотал я.
– Почему же немного? – удивляется парень.
– Потому что так получилось.
– Что у тебя получилось? Не четыре стакана, как выше сказано было? – Округлились глаза Юхрима.
– Только два.
– Тогда ты тоже немного не угадал: из этого пива, натурально, не будет дива! – нахмурился Юхрим, мотнул головой и снова начал мучить балалайку.
– А может, вы остальное до осени подождете? – слово в слово повторяю мамины слова, когда она сгибается перед торговцем из городка.
– Ишь, какой он умный! Осенью я сам понятия найду, где брать семечки, – безжалостно отрезает старый холостяк, не глядя на меня.
Так что мне остается делать? Или слушать боль и визг струн, или «будьте здоровы» и через порог? Я надеваю картузик, поворачиваюсь и щелкаю щеколдой.
– Подожди, малец! Дай посмотрю, что у тебя за семечки! – вдруг так орет Юхрим, словно я оглох от его музыки. Он подходит ко мне, запускает руку в карман, бросает семечек в рот. Он только хрустнул, и уже одна скорлупа поползла с окантованной губы на подбородок Юхрима. – Ничего, щелкать, натурально, можно. Так я, где уж мое ни пропадало, дам тебе за них почитать сказки. А «Приключения Тома Сойера» возьмешь, когда разбогатеешь. По рукам?
– Так давайте свою! – сразу веселею я.
Юхрим подает удлиненную ладонь, я бью своей по ней и приговариваю:
– За «Приключения Тома Сойера» – два стакана теперь и четыре осенью.
– Не будь цыганским ребенком, – прекращает торг Юхрим. – Каждая книга имеет в свое время свою цену.
– А может, вы мне дадите «Приключения» хоть на один день?
– И не проси, и не моли! – уперся Юхрим, как кол в ограждение. – Берешь, натурально, сказки?
– Беру, натурально, – еще раз ляп по руке парня.
А он вытряхивает из моего кармана семена, потом из окованного железом ящика достает книгу еще и великодушно приговаривает:
– Бери и знай по всем пунктам мою доброту. За сколько ты прочитаешь сказки?
– Дня за четыре.
– Тогда в воскресенье и приноси. Не забудешь, что в воскресенье?
– А разве вы в воскресенье не пойдете на гулянку?
– С утра до обеда, натурально, буду дома. Помни: не принесешь вовремя, будет бедным твое официальное место, – становится злее его вид, словно я уже успел задержать книгу…
Опасаясь попасться на материны глаза (а что, если она бросилась к семенам и теперь только и ждет меня?), я отправился в долинку к Штуковому пруду, где вода раскатисто играла в жмурки с солнцем, облаками, тенями и ветерком. На ней иногда сбрасывалась рыба и раскручивала круги до самой кладки, которая одним концом держалась на изъезженном колесе, а вторым – на берегу. Сейчас никто не стирал шмотки, поэтому я вытащил кладку, удобнее уложил ее на песочке и взялся за чтение. Снизу меня охватывал мир сказки, а сверху – сказки весны. И так мне хорошо в их объятиях, что я не заметил, как солнце медленно перешло на вторую половину неба.
Только тогда я со страхом подумал о доме и, дабы избежать ругани и нареканий, прикинул, что стоит поискать в долинке щавеля на борщ. Смотри, за это еще и похвалят тебя, если… И вновь тыквенные семена начали лезть в голову. Когда неспокойна совесть, то ничем ее не обманешь…
Набив полный карман молоденького щавеля, я уже немного безопаснее пошел домой. Вот и наш дом. Что только ждет в нем мою бедовую голову? Сейчас я не очень стараюсь с разгона перескочить плетень, а застреваю на нем, высматривая, что делается во дворе, огородике и в саду. Между яблонями снует бабушка и ее тень. Лицо бабушкино сейчас такое, словно она молится. Это потому, что она очень любит сад, ухаживает и радеет над ним, каждая в нем прищепа крепко перевязана лентами, оторванными от рукавов ее сорочек. А под навесом, прислонившись к дереву, что-то мастерит дед, фуражка упала с его головы, и поэтому ветерок, как хочет, играет старыми поредевшими волосами. Но вот дед замечает меня, сначала удивляется, а дальше фыркает:
– Вот и пропажа объявилась! А мы думали, что тебя где-то шкуродеры схватили.
– И зачем такое невообразимое было думать? – веселею, потому что не похоже на то, чтобы гремело и сверкало надо мной.
– Где же ты на целый день запропастился? Разве так можно, дитя? Я выглядывал, выглядывал тебя, а дальше и сокрушаться начал.
– Э?
– Вот тебе и «э». Хотя бы, обалдуй, кому сказал куда идешь. А я тебе что-то изготовил! – дедушка кривит свои большие косматые брови и уже изрядно улыбается.
– И что же вы изготовили? – заранее начинаю радоваться.
– А что ты просил?
– Ветряк.
– И что я сказал тебе?
– Говорили, что попросишь, то и сделаю, ведь у меня такими внуками поле не засеяно, – точнехонько повторяю дедовы слова, ибо они понравились мне.
– Ишь, как запомнил! – смеется дедушка, потом снимает козырек новехонького улья и вынимает оттуда настоящий ветряк. Но какой! По его кровле расправил крылья и гордо поднял голову молодой лебедь. Казалось, он вот-вот оторвется от кровли и взлетит в небо.
– Ой, как славно! – вырвалось у меня.
– Славно, говоришь? – радостно переспрашивает дедушка.
– Очень хорошо.
– Для тебя же старался, – отдает мне игрушку дедушка. – А теперь беги в дом.
– А как мама? – спрашиваю и с опаской посматриваю на окна.
– Да, как всегда: сначала сердилась, а потом забеспокоилась и бегала к соседям спрашивать о тебе. Иди.
Я тихонько отворяю входную дверь, снаружи пахнущую рябиной и жмыхом, а изнутри – хлебом и калачиками, что стоят у нас на всех окнах. За столом возле узелков я снова вижу склонившееся лицо мамы. Она всматривается в какое семя и что-то шепотом говорит ему, наверное, просит, чтобы хорошо взошло и уродило. А ближе к матери лежат узелки с тыквенными семенами. У меня сразу похолодело внутри и насторожились уши. Я уже хотел было отправиться назад, но в это время мать увидела меня.
– Наконец, – сказала она с упреком. – Ох, дети, дети… – поднимает над голубизной глаз черные ресницы, от которых тени падают почти на виски.
– А я, мама, щавеля в долине насобирал! На целый борщ будет!.. – сразу хочу на что-то другое обратить материны мысли и выворачиваю на скамью все, что есть в кармане.
Но неудача: вместе со щавелем из кармана вылетели два тыквенных семечка и упали на пол, как серебряные деньги. Я испуганно посмотрел на мать, и не увидел гнева на ее лице. Она ровно, немного грустно, спросила меня:
– Михаил, ты семечки из этих узелков давал мальчику из голодного края?
– Из этих, – потупился я, подпирая спиной дверь. Мать повела губами, с которых не сходила грусть, и долго-долго молчала. Лучше бы она начала кричать, сердиться, грозить расправой, тогда я имел бы какое-то право убежать из дому. А так кто знает, что делать?
– Вот и хорошо, сынок, что давал, – наконец слышу ее голос. Она, раздумывая, дальше уже говорит не мне, себе: – Потому что кто пособит на свете бедному человеку, кто даст ему кусок хлеба или ложку борща? Никто, только такой же нищий.
У меня от ее слов дрогнуло все внутри.
– Мама, а откуда вы о мальчике знаете?
– Была у нас та женщина со своим ребенком. Я накормила их, горемычных, дала хлебушка в дорогу. А как эта женщина хвалила того мальчика, который дал ее Ивасику семян. Я догадалась, что это ты, озорник, но ничего не сказала ей… Ох, Михаил, Михаил, и что с тебя только будет?..
– Может, что-то таки будет, вы не очень крепко печальтесь мной, – говорю так, как слышал от взрослых, Подхожу к матери, приклоняюсь к ней, а она вздыхает и гладит рукой мою неразумную голову…