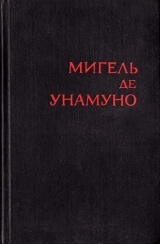
Текст книги "Любовь и педагогика"
Автор книги: Мигель де Унамуно
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 10 страниц)
X
Любовь Аполодоро действительно прошла стадию конкретизации. Случилось это в доме учителя рисования, где Аполодоро вместе с другими юношами оттачивал свой талант.
Дон Эпифанио, добрый по натуре человек, из которого, по мнению многих, мог бы получиться великий художник, привязался к юноше. Поправляя ему рисунок, он обычно говорит:
– Главное – это жить, Аполо, надо жить, а все остальное – дребедень.
Дон Авито не в восторге от странных идей дона Эпифанио, или, как он их называет, антиидей, но, в конце-то концов, идеи рисованию не помеха. И Авито идет на компромисс. Еще один компромисс – куда ни шло.
Как-то раз, то ли направляясь в студию, то ли выходя из нее через квартиру дона Эпифанио, Аполодоро увидел в полутьме коридора призрак: девичью фигуру, которая не шла, а бесшумно плыла по воздуху, едва касаясь пола. В другой раз он увидел через полуоткрытую дверь в глубине комнаты, возле крытого балкона, ту же фигуру, склоненную над шитьем в мягком свете, пробивавшемся сквозь занавески, словно перед ним была картина, написанная неискушенной рукой, не образ во плоти, а скорее символ этого царства уюта и полумрака, нежная фиалка домашнего очага. Неяркий свет мягко оттенял линии ее профиля, четкого, как на свинцово-стеклянной мозаике, ее полуоткрытые уста как будто беззвучно молились, а грудь мерно вздымалась и опускалась над шитьем. Это видение зачаровало Аполодоро.
Но вот Кларита открывает ему дверь, расцветает невольной улыбкой, а глаза у нее такие озорные, такие выразительные, искренние, многозначительные, в них столько воспитательной и дидактической силы! Они – живое приглашение к жизни, непрерывный урок искренности и любви! Коснеющим языком бормочет Аполодоро: «Добрый день!», а она от его смущения заливается краской.
– Заходите, Аполодоро, заходите!
«"Заходите, заходите!" – какая божественная музыка в этих ее словах! Какая талантливая девушка, как она развита, как во всем разбирается, как до всего доходит чутьем, как одарена, как она цельна, трансцендентна, циклична! О, «заходите, заходите!» – в этих словах все. В них – наука чистейшей воды. Наука? Больше: наука наук! И того больше! А что же еще?» На пороге Аполодоро спотыкается, щеку его задевает девичий локон, побег виноградной лозы, и щеку словно обжигает, а оставшись один, он проводит пальцами по щеке, целует пальцы и даже их лижет.
Но откуда в нем такая смелость, решимость, не рекомендуемая педагогикой, не свойственная гению? У него изменяется состав крови, он сбрасывает со своей души старую оболочку и появляется в новом обличье – он мужчина. Сердце его переходит на галоп, и от этого галопа кровь ударяет ему в голову, и называется этот удар любовью. Да, бывают приступы, колики, обострения любви, охватывающие все существо человека, когда любимый образ – единственная зацепка в жизни. Да, «надо жить, жить, а все остальное – дребедень», – говорит отец той, что стала для него жизнью. Отныне Аполодоро уже не так одинок в своем тайном саду блаженства. Перед ним открылся мир.
– Обрати особое внимание на законы наследственности, – говорит дон Авито.
– Да, папа, я их зубрю.
– Изучи поглубже.
– Что за люди, матерь божья! – стонет Материя.
Аполодоро начеку, он ждет удобного момента, вроде того что представился ему недавно, тогда Кларита исчезла, но ее улыбка наполнила дом атмосферой любви. То ли улыбка ее – воплощение духа всего дома, то ли весь дом – воплощение ее улыбки, поди разбери! Сама барышня, должно быть, догадывается, в чем дело, Ибо, когда она встречает Аполодоро, взгляд ее становится глубже, а рот чуточку открывается.
А что же дон Эпифанио? Ему ситуация, видимо, ясна: разве не другим тоном произносит он теперь свои неспешные сентенции? И какая в них глубина! Какой он талантливый человек! Сумел произвести на свет такую дочь! Неосознанный талант – это и есть гений. Куда уж тут дону Фульхенсио! Книге афоризмов, опусу «Ars magna» и всей сверхчеловеческой ритмической философии противостоит Кларита! «Ох уж эти теории!» – как смиренно заявляет ее отец, дон Эпифанио.
И вот момент наступил. Как стучит сердце! Аполодоро боится, что Кларита услышит его стук, пробует сдержать его, успокоить. А у Кдариты сердце замирает в ожидании чего-то, что должно последовать за этим торжественным молчанием.
– Кларита… Кларита… пожалуйста… прочтите это.
И, сунув ей в руки письмо, Аполодоро входит в студию.
– Что с тобой, парень? – спрашивает дон Эпифанио. – Задержался – видно, бежал? Совсем запыхался. Бегать не надо, шагом дойдешь быстрей… Ну, ладно, закончи эту ногу, тень клади не так резко.
На следующий день Аполодоро кажется, что вешалка в коридоре, картины, весь дом – все испаряется вокруг нее, а тело и дух юноши, все его существо являет собой один нетерпеливый вопрос.
– Ну, что же вы мне ответите?
– Я скажу… да!
Вот когда он чувствует себя гением!
– Спасибо, Кларита, спасибо!
– Это вам спасибо!
– Вам?
– А что?
– Тебе! – изрекает сияющий Аполодоро и решительно входит.
Входит в жизнь. Любовные приступы у него пройдут, превратятся в постоянную, непрерывную и неизлечимую сладкую боль.
У Клариты теперь есть жених, как у большинства ее подружек, теперь и она узнает, что такое быть невестой, какие речи и разговоры ведутся с женихом. У нее есть жених, она взрослая.
Амур, будучи сам мальчиком, подсказал Аполодоро детскую хитрость: подружиться с Эмилио, братом Клариты, и таким путем обрести прочные позиции в ее доме. Дон Эпифанио вроде быничего не заподозрил, но за обедом сказал сыну:
– Ты дружи с Аполо, дружи!
– Он какой-то странный.
– Э, каждый таков, каким его сделали, у всякого своя блажь.
– Ты бы послушал, что ему позавчера его отец говорил!
– У того все философия! Ты что, Кларита, больше не хочешь?
– Не хочется.
– Как знаешь, твое дело, но ведь без еды…
– А то как-то он мне. рассказывал, – продолжает Эмилио, – откуда мы взялись и что с нами дальше будет, да я как-то не понял…
– Ха! Откуда-нибудь да взялись. Брось ты эту чепуху!
– И уж чего он только не читает!
– Что ж, коль охота тратить время, которое бог нам дает, чтоб мы добывали хлеб свой…
Так Аполодоро становится вхож в дом Клариты и под предлогом дружбы с Эмилио подолгу задерживается там; дон Эпифанио, наверное, думает: «Что с ним поделаешь!»; дон Авито спрашивает себя: «Где пропадает мой парень?», а Марина не говорит ничего.
А вечера, о, эти зимние вечера! Огонь очага окрашивает все вокруг в красные тона: меха для наддува, каминные щипцы; Кларита, сидящая у огня, подбирает юбки, чтобы не обгорели, и показывает маленькие ножки; красные отблески пламенеют на ее щеках, нежных, как половинки оранжерейного абрикоса, спелого и сладкого, с тонкой прозрачной кожицей. А глаза, о, ее глаза1 Они созданы для того, чтобы смотреть спокойно и безмятежно. Ах, какой зверек! Какой грациозный домашний зверек! Ленивая кошечка, тихая, ласковая, уютно мурлыкающая… А когда заговорит – что за милые глупости, одна другой милей! Особенно когда жениху и невесте удается сказать друг другу два-три слова наедине, в прихожей.
– Сегодня я тебя повидала, Аполодоро.
«Сегодня она меня повидала! Повидала меня сегодня! Она. добра как ангел! Сегодня она меня повидала, смотрела на меня своими ясными глазами; я видел в них себя маленьким-маленьким, вверх ногами, свернувшимся калачиком в круглых зрачках ее невинно-чистых глаз!» Возвращаясь домой, он твердит себе: «Я был недостаточно нежен, не сказал ей того, что собирался сказать… Но я вернусь… вернусь и скажу… завтра же… завтра!» И это завтра наступает каждый день, и в невнятном денете любви наливается все самое нежное, невыразимое.
Что касается Эмилио, то он смотрит на сестру с покровительственным видом, как бы говоря: «Знаю я твой секрет!», но уже начинает подумывать, ладно ли все это как-то несерьезно, неофициально, надо бы намекнуть родителям, а то что это за манера шушукаться в передней да на лестнице. И какие глупые эти влюбленные! Слюнтяи, больше ничего!
«Но что это? Что происходит с мальчиком? – размышляет дон Авито. – Он стал совсем другим. Нет лп у него какой-нибудь психической травмы, серьезного нарушения кенестезии? Может, у него переход к половой зрелости, а может, глисты? Или, чего доброго, мономания? А вдруг это зарождение гениальности, метадраматический момент, мгновение свободы, и вот-вот он скажет свою отсебятину? Или у него процесс конкретизации любви?» А персональный бес знай свое: «Ты пал, пал, а раз ты пал, теперь падет он, и снова падет, и все на свете люди падут».
Ночью, лежа в постели, Аполодоро чувствует, как тело его пухнет, увеличивается в объеме, заполняет собой все его жизненное пространство, и в то же время духовные его горизонты отдаляются, его окутывает атмосфера неопределенности. В нем пробуждается голос Человечества: в глубинах его сознания прадеды и пращуры, давно отошедшие в небытие, напевают сладкие колыбельные, обращенные к далеким, не рожденным еще правнукам. В любви открывается ему вечность, мир обретает для него смысл, сердце нашло тропинку, и теперь не нужно бродить наугад по горам и долам. Шум жизни начинает складываться для него в стройную мелодию, он уже постиг, что, если оперировать синтетическими суждениями и априорными формами Канта, то можно сказать, что единственным априорным синтетическим суждением, внутренней силой, организующей внешний хаос, является любовь. Она затрагивает вещественную сторону реального мира, делает ее доступной для духовного восприятия; мир обретает объем, плотность, прочность, наполняется реальным содержанием. Это единственное, что не нужно доказывать, что ясно само собой, вернее, что доказательству и не подлежит. Мир, в котором мы живем, уже не театр, что бы там ни говорил дон Фульхенсио, на сцену ворвался ветер бесконечности, бескрайней и таинственной реальности, окружающей театр.
А какой свет! Какой свет зажегся сразу в сердце! Как он осветил весь дом! Дом? «Бедный отец! – шепчет персональный бес Аполодоро, показывая юноше его дом в другом свете. – Бедная мать!» Почему это? Почему сегодня его бедная полусонная мать, обняв и поцеловав сына залилась слезами: «Луис! Мой Луис, Луис ты мой, Луис!..» Это был какой-то необычный, непонятный и беспричинный поцелуй, так что у Аполодоро тоже навернулись на глаза слезы.
– Отец идет! – в испуге воскликнула Материя, заслышав шаги.
Тут вошел дон Авито и сказал:
– Говорят, какой-то заводской инженер открыл деление угла на три части…
В этот вечер Аполодоро с удивлением обнаруживает, что молитвы, которым в детстве обучала его мать, витают над ним и время от времени касаются мягкими крылами его губ. Когда он мысленно восклицает: «Бедный отец!», с языка у него срывается: «Отче наш…»
Думает он и о своей матери, всей душой жалеет ее. А внутренним слухом своей совести воспринимает он тихий-тихий, почти беззвучный шепот персонального беса: «Разве ты не заметил, как похожа Кларита на твою мать?»
XI
Сколько меланхолической грусти несет с собой любовь! Аполодоро воспринимает теперь жизнь как процесс растворения в небытии, ему хочется уснуть навсегда в объятьях Клариты.
Юноша идет прогуляться на берег реки; серебристые тополя роняют свои пушистые семена, живые снежинки. На берегу столпились люди, смотрят на реку. По течению плывет, качаясь на волнах, утопленник. Он будто спит, укачан легкой волной. На него опускается летучее тополиное семечко.
«Живой человек идет ко дну, мертвый – всплывает, – думает Аполодоро, и тотчас в нем пробуждается отцовская кровь и он вводит свою мысль в рамки закона Архимеда: – Сейчас он легче воды, его удельный вес меньше единицы, а живой он был тяжелее воды, и его удельный вес превышал единицу… Следовательно, жизнь утяжеляет, а смерть облегчает… Спи! Спи…
Спи, засыпай, моя крошка,
бука придет,
кто не поспит хоть немножко —
с собой унесет.
Бедная мама! «Я же говорил тебе, чтоб ты не пела ребенку такой ерунды, Марина! Ведь никакого буки нет, зачем этот обман?» Это текст, отцовский текст, но матери принадлежит музыка, которая прорывается своей песней: «Жизнь… сон… смерть… смерть… сон… жизнь… сон… сон… смерть… сон… смерть…»
А что, если бы это летучее семечко, которое опустилось на нега, проросло бы и мертвое тело плавало бы по океану подобно плавучему острову, на котором растут деревья? Всеобщее круговращение… omne vivum ex ovo… ex nihilo nihil fit… [27]27
Все живое – из яйца… из ничего ничто и получится (лат.)
[Закрыть]жизненный цикл… превращение материи в энергию… закон сохранения энергии…
Спи, засыпай, моя крошка,
бука придет…
Непознаваемое… Недоступное…»
– Совсем неэстетичное зрелище.
Аполодоро оборачивается и с удивлением видит перед собой Федерико. Едва сдерживает досаду, ему всегда как-то не по себе в обществе Федерико: тот хотя и улыбается, но улыбка его неживая, это маска.
– Как вы сюда попали, Федерико? Вы – и за городом!
– Что ж такого! Наносил визит кое-кому. А кроме того, не мешает иногда побывать за городом, чтобы лучше оценить неповторимые прелести самого города, единственного приличного места обитания разумного существа, ибо деревня хороша для животных, которые лишь по названию люди.
Аполодоро старается отвлечься от алого галстука Федерико, кричащего и пышного, так и выпирающего из воротничка.
– Какой-нибудь меланхолик, – произносит Аполодоро, как бы разговаривая сам с собой. – Возможно, мономания… или мания преследования…
– Нет, – возражает Федерико, – он из тех, кто испугался смерти.
– Как это так?
– Он предал себя смерти, несомненно, потому, что ненавидел ее; так некоторые мужчины отдают себя во власть женщины…
– Всё парадоксы!
– Пожалуй. Убивает себя только тот, кто ненавидит смерть; влюбленные в нее меланхолики живут, чтобы наслаждаться ее ожиданием; стало быть, чем дольше они проживут, тем больше испытают наслаждения, ведь меланхолик – это, в первую очередь, жертва чувственности, он… Гром небесный! Да это же преступление!
– Преступление? – оборачивается Аполодоро.
Мимо проходит молодой человек под руку с девушкой, ее глаза, устремленные на спутника, будто освещают все вокруг. Она лениво опирается на его руку.
– Какая была красивая девушка! – восклицает Федерико.
– Она и сейчас хороша.
– Нет, она утратила девственную прелесть нераспустившегося бутона, этот негодяй ее оплодотворил… Взгляните на ее талию! Ну, разве он не преступник? Таких надо наказывать…
– Но раз он ее муж…
– Все равно это преступление. Следовало бы восстановить храмы весталок, чтоб непрерывно курились благовония у алтаря Афродиты… О, варвар!
– Но, может быть, он превосходный человек…
– Всякий, кто становится обладателем, хозяином красивой женщины, скотина. Красавица должна быть noli me tangere, [28]28
Не тронь меня (лат.).
[Закрыть]или, как выражается плебс, глядеть гляди, а руками не трогай; красота предназначена только для глаз.
– Раньше вы были другого мнения…
– Вы имеете в виду то, что я говорил три дня назад? Это верно. Идеи живут не вечно, как галстуки, то есть их носят, пока они не истреплются или не выйдут из моды.
Аполодоро снова не может оторвать взгляд от вызывающе яркого галстука собеседника.
– Я тут на днях познакомился с вашим отцом, доном Авито. Интересный человек… Можно вас поздравить…
Аполодоро чувствует в горле что-то вроде клубка, так ему хочется сорвать галстук с Федерико и бросать в реку.
– Его педагогические концепции ничем не хуже концепций его антагонистов… Педагогика не вступила еще по-настоящему в стадию экспериментального изучения хотя, насколько я понимаю, ваш отец предпринял попытку такого рода…
Аполодоро молчит, тогда Федерико ни с того ни с сего выпаливает:
– Так, значит, мы любим Клариту?
– «Мы» любим? – переспрашивает Аполодоро, почувствовав, что тот сделал ударение на слове «мы».
– Да, именно так.
– Но ведь «мы»…
– Множественное число первого лица, или, как говорят, множественное число от «я», хотя я никак не возьму в толк, почему это множественное число от «я», а не от «ты», ведь сейчас я имею в виду вас, стало быть, в этом «мы» есть не только «я», но и «ты».
– Но ведь каждый из нас – «я».
– И каждый – «ты».
– Несомненно.
– Следовательно, если, с одной стороны, вы – это «я», и я – другое «я», то каждый из нас – «я» и «ты» одновременно. Правильно сказал философ, что все на свете – одно и то же. Вот и получается, что мы оба любим Клариту.
– Любим?
– Ну да, любим: вы и я!
– И вы тоже?
– И я тоже.
– Вы?
– Да, я, друг мой Карраскаль, и дело тут совершенно простое и ясное: вы ее любите, я ее люблю, она любима нами обожми, ей предстоит выбрать одного…
– Но…
– Вот именно, друг мой, я тут не признаю за вами права первого завоевателя или претендента на завоевание девушки: я, как и вы, надеюсь обладать Кларитой. Обычная конкуренция.
– Дело в том…
– Дело в том, что вы с ней не заключили еще никакого соглашения, и, хотя у вас наладились уже какие-то отношения, я не вижу, почему бы мне не попытаться разорвать их.
– Хорошего же вы о ней мнения!
– Послушайте, я считаю, что вы сослужили мне службу, подготовили почву, привили ей вкус к женихам, вы были моим предтечей…
– И вы были бы в состоянии обезобразить ее, если б до этого дошло? – восклицает Аполодоро, осененный внезапной мыслью.
– Еще бы! Обязанность уважать невинность красивых девушек, как и многие другие запреты, мы возлагаем только на своих ближних, но не на себя…
«Но почему я его не бью? – вопрошает себя Аполодоро. – Я обязан его ударить… И отчего?… отчего?… Отец говорит, что нет ни почему, ни отчего, а есть только как… Но как я его ударю?»
– Значит, мы договорились, друг мой Аполодоро, что мы оба ее любим и ей надо будет выбрать одного из нас…
«Да за кого он меня принимает?»
– Ладно, пусть решает она сама…
– Игра у нас пойдет в открытую и без подвоха. Кстати, если она предпочтет меня, а вас оставит, то вам, разумеется, не будет оснований переживать и принимать эту историю близко к сердцу, потому что невеста, которая вот так оставляет жениха только потому, что подвернулся другой… Постойте, о чем вы задумались, дружище Карраскаль?
– О, простите! Так вы говорили…
– Ну, послушайте, старина, отец научил вас стольким вещам, мог бы и воспитать получше!
– Воспитать?
– Да, воспитать. Вы не знаете, что такое хорошее (воспитание?
– В генетической классификации наук оно отсутствует.
– Ну и шутник же вы!
– Шутник? Я не знаю, что это такое.
– И вы притязаете на Клариту?
«Ну почему я его не бью? Отчего не бью? Как это я его не бью?»
Тем временем они приходят в город.
– Значит, мы сошлись на том, что передадим нашу тяжбу в ее руки и пусть она ее разрешит, верно? Как настоящие друзья! До встречи!
Какая слабость! Какая непростительная слабость! Аполодоро охватывает желание растаять, прекратить существование вместе со всей премудростью, накопленной в его мозгу! «А когда я умру и мозг мой в могиле подвергнется распаду, куда денутся мои знания? Какую форму они примут? Ведь в мире ничто не исчезает, а лишь преобразуется… Эквивалентность сил… Закон сохранения энергии… Ах Кларита, моя Кларита! И что это за жизнь, пресвятая дева, что за мир! И для чего, к чему все это? Ох этот Федерико, этот Федерико!.. Может, он хотел просто посмеяться надо мной? Или сделает, как сказал, и станет домогаться руки Клариты? Но она не бросит меня, не может бросить, не должна бросить, не захочет бросить… Любит ли она меня? Существует ли способ узнать, любит женщина или нет? Любит ли женщина вообще? Любит ли меня Кларита? О, этот Федерико, этот Федерико…»
– Луис, сынок мой…
– Что, мама?
– Я ее видела, Луис, познакомилась с ней, познакомилась… Она очень мила.
– Мила?
– Да, Луис, мила. Папа идет, Аполодоро!
И Аполодоро уходит в свой угол работать не то над большой повестью, не то над небольшим романом, сентиментальным и поэтическим, который он теперь не выпускает из рук, ибо, несмотря на запреты отца, его охватил великий зуд творчества, он хочет во что бы то ни стало пробиться в литераторы, он не жаждет славы мыслителя, философа, социолога, он будет поэтом, поэтом в прозе, и вот он описывает первую любовную тоску, шлифует и полирует свое произведение, дабы стало оно нежным и деликатным для слуха, старательно отрабатывает психологические выводы, с этой целью производит анализ собственных чувств, и теперь ходит на любовные свидания, ставя перед собой каждый раз определенную художественную задачу. Его любовь отныне подчинена творчеству, он создал театр внутри самого себя, наблюдает за собой, анализирует и разбирает по косточкам свою любовь.
«Потому что… ну, скажем прямо, разве мне не скучно с Кларитой? Что она может сказать, кроме глупостей? разве есть у бедняжечки хоть какой-то разум? Хоть раз она произнесла что-нибудь разумное и не банальное. Я ведь люблю ее по инерции, по привычке, я жертва собственной любви. Все это я понимаю, но, когда я рядом с ней, я глупею и рассуждать уже не могу. Красива ли она? Пожалуй, нет, таких много!.. А все-таки она красивей всех! Впрочем, может быть, я привык к ее лицу?»







