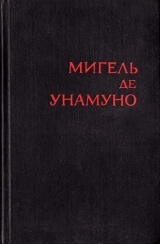
Текст книги "Любовь и педагогика"
Автор книги: Мигель де Унамуно
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц)
IV
Когда душа Аполодоро под воздействием надаурикулярного массажа приближалась к стадии обретения психической хорды, в наш город переехал на жительство идейный вдохновитель Карраскаля, бездонный кладезь премудрости, философ дон Фульхенсио.
Дон Фульхенсио Энтрамбосмарес – человек, накопивший годы и растративший иллюзии, у него рассеянный взгляд, который как будто устремлен в бесконечность, но виной тому прежде всего близорукость; движения его неторопливы, а когда он говорит, то заботится о том, чтобы подчеркнуть все, что ценят в нем его почитатели, и поэтому говорит сплошным курсивом. Свою супругу он никогда никому не представляет, ибо стыдится, что состоит в браке и в особенности что состоит в браке с женщиной. Одежда его искусно залатана одинаковыми заплатами, и сам он поясняет: «Это единственный способ добиться индивидуальности в одежде: заплаты на ягодицах и коленях – мои заплаты, они говорят, что я – это – я и никто другой».
В его рабочем кабинете, рядом с роялем, установлен скелет человека во фраке и цилиндре, при галстуке, с перстнем на кости пальца и зонтом в руке, а над ним надпись: «Homo insipiens», [11]11
Человек неразумный – перефразировка латинского термина homo sapiens (человек разумный), принятого в биология для обозначения человека как вида.
[Закрыть]рядом – скелет гориллы без всякой одежды и другая надпись: «Simia sapiens», [12]12
Обезьяна разумная (лат.)
[Закрыть]a еще выше – общая надпись: «Quantum mutatus ab illo». [13]13
Велика разница (лат.).
[Закрыть]По всей квартире развешаны плакаты с различными афоризмами, например! «Правда – роскошь, она слишком дорого обходится», «Если бы не было людей их стоило бы выдумать», «Думать о жизни – все равно что переживать мысль», «Цель человека – наука».
В афоризмах дон Фульхенсио и в самом деле силен что он и продемонстрирует миру смертных в своем экзотерическом опусе «Книга афоризмов, или таблеток мудрости». А другую свою книгу под заголовком «Ars magna combinatoria», [14]14
Великое искусство комбинаторики (лат.)
[Закрыть]эзотерическое произведение, которое будет написано по-латыни пли на воляпюке, оп сохранит для счастливых грядущих поколений. Он постоянно работает над этой книгой, но твердо решил никому ее не показывать, а запереть в герметический ларец из иридия или молибдена и распорядиться в завещании, чтобы ларец похоронили вместе с его телом, а уж там судьба решит, сколько веков должно пройти, прежде чем в один прекрасный день среди истлевших костей обнаружат ларец представители тех поколений, которые будут достойны такого подарка.
Наедине с собой философ рассуждает следующим образом: «Чтобы я трудился для этой публики, которая осталась слепа и глуха к моим глубочайшим и гениальным открытиям?! Для этой публики, что так медлительна и в признании кого бы то ни было, и в забвении того, кого однажды признала? Да это все равно что идти по сыпучим пескам, вывихнуть душу, ударив изо всех сил в пустоту. Имеется сто писателей, каждый издает по сто экземпляров каждого из своих произведений, и они обмениваются ими как приветствием или злословием в адрес друг друга. Тот, кто не пишет – не читает, кто пишет – тоже не читает, разве что ему подарят что-нибудь, что надо прочесть. Так как никто из них не получает единодушной поддержки многочисленных просвещенных читателей, не верит ни в себя, ни в других – ведь чтобы поверить в себя, нам нужно, чтобы другие в нас поверили, – так вот, из-за этого неверия в собственный успех у публики, неверия, характерного для наших писателей, они презирают друг друга, вернее, думают, что презирают». Перебрав про себя эти аргументы, философ возвращается к своему опусу «Ars magna combinatoria», призванному поразить грядущие века. Труд этот, собственно, не по философии, как замечает сам дон Фульхенсио, а по комбинаторике, доведенной до высшего уровня. Гениальное творение, плод геркулесовых усилий, покоится, до свидетельству его создателя, на четырех основных понятиях, два из которых – реального порядка, другие два – идеального. Реальные понятия – жизнь и смерть; идеальные – право и долг, причем это не метафизические абстрактные понятия типа Аристотелевых пли Кантовых категорий, они насыщены потенциальным содержанием. Отправляясь от этих четырех понятий, сочетая их друг с другом всевозможными способами сначала в бинарные сочетания, затем – в тернарные, кватернарные и так далее, автор постепенно размотает клубок вечного Парадокса Бесконечности. В рамках бинарных сочетаний, которые он называет просто комбинациями, дон Фульхенсио изучает право на жизнь, на смерть, на само право и на долг; долг жизни, смерти, права, самого долга; смерть права, долга, самой смерти и жизни; жизнь права, долга, смерти, самой жизни. Какой источник для размышлений – комбинации «право на право», «долг долга», «смерть смерти» и «жизнь жизни»! Г. Ибсен предугадал появление теории дона Фульхенсио, вложив в уста епископа из драмы «Королевское дерево» («Kongs Aemnerne») следующие слова: «Да по какому праву прав Хокон, а не вы? («Men med hvad Ret fik Hákon Retten ikke I?»). Как только дон Фульхенсио покончит с бинарными сочетаниями, он приступит к тернарным, иначе называемым контернациями, к таким, например, как «жизнь смерти права», «право на жизнь смерти», «долг права на долг» и (о, чудо парадокса!) «право на право на право» или «смерть смерти смерти»! Кроме Г. Ибсена, эту теорию предчувствовал Р. Йеринг, [15]15
Р. Йеринг– Рудольф фон Йеринг (1818–1892), немецкий историк права, автор книг «Дух римского права», «Борьба вокруг права» и др. Унамуно неоднократно упоминает работы Йеринга.
[Закрыть]когда говорил, что никто не имеет права отрицать права других; перекликаются с ней также те, кто ратует за право на высшую меру наказания, то есть на смерть. Контернаций шестьдесят четыре, а затем идут двести пятьдесят шесть конкватернаций, за которыми следуют одна тысяча двадцать четыре конквинации, после чего… Какие перспективы открываются человечеству! Оно никогда не прекратит своего существования, будет жить вечно, ибо даже бесконечное движение времени не исчерпает бесконечного ряда сочетаний.
Метод координации, безусловно, лежит в истоках любой философии, потому что он возбуждает мысль. Если кто-то сказал, что любовь есть голод вида, выверни эту фразу наизнанку и скажи, что голод есть любовь индивидуума. Еще Паскаль, как истый философ, перелицевал поговорку «привычка – вторая натура», и получил: «На, тура – первая привычка». Ты слышишь о свободе совести? Возьми и сопоставь ее с совестью свободы. Тебе предлагают решить квадратуру круга – подумай о скруглении квадрата.
Ночью, когда голова дона Фульхенсио покоится на подушке, а рядом мирно почивает донья Эдельмира, его жена, он только начнет думать о координациях, как на него уже опускается сон, настолько глубоки и весомы его мысли. С полным основанием называет он свое учение философией сверхчеловеческого ритма.
К здравому смыслу он питает священную ненависть, odium philosophicum, [16]16
Философская ненависть (лат.)
[Закрыть]о нем он выражается так: «Что? Здравый смысл? На кухню его!» А когда до ушей его доходит нелепое измышление о том, что, мол, в голове у него сверчки стрекочут, да всяк на свой лад, он цитирует небольшой стихотворный фрагмент, который сочинил для собственного развлечения:
Любезные сверчки, без вашей песни
вся пища в котелке моем была бы пресной.
Пойте как попало,
мне и горя мало.
Я знаю, котелки у самых башковитых
заправлены тупейшим здравым смыслом,
немыми тараканами набиты,
и мысль в них протухла и закисла.
Скажу вам не для смеха:
звучит в них только эхо.
Таков дон Фульхенсио, которого дон Авито избрал себе руководителем в деле воспитания гения.
Когда дону Фульхенсио докладывают о приходе Карраскаля, он выходит в шлепанцах, кладет руку на плечо гостю и восклицает:
– Мир вам и наука, друг мой Авито! Рад вас видеть!..
– Вы великодушны ко мне, как всегда, дон Фульхенсио… Я немного взмок; до вас так далеко… Теряешь много времени на то, чтобы преодолеть пространство…
– Почти столько же, сколько преодолеваешь пространства, чтобы убить время… Ну, как ваша роль?
Дон Авито немного смущен глубокой проницательностью философа и, прочтя у входа в кабинет надпись «Цель человека – наука», оборачивается к своему учителю и робко спрашивает:
– А цель науки?
– Составить каталог вселенной!
– Для чего?
– Чтобы вернуть ее господу богу в полном порядке, с рационально выполненной инвентаризацией всего сущего…
– Богу… богу… – лепечет Карраскаль.
– Да, богу, именно богу! – повторяет дон Фульхенсио с загадочной улыбкой.
– Так вы теперь верите в бога? – в панике спрашивает ученик.
– Пока он верит в меня. – Тут философ, епископским жестом подняв десницу, просит: – Одну минуту, Авито.
Дон Фульхенсио поджимает губы и обращает очи долу – верный знак рождения афоризма, затем берет четвертушку бумаги и что-то пишет, то ли кусочек молитвы «Отче наш», то ли выводит каракули без какого бы то ни было смысла. Меж тем внутренний голос шепчет Карраскалю: «Ты пал… снова пал… падаешь и будешь падать сто раз… Перед тобой шарлатан, в душе этот человек смеется над тобой…» Авито, возмущенный такой небывалой наглостью, говорит своему персональному бесу: «Замолчи, нахал! Молчи! Что ты понимаешь, глупец!»
– Прошу вас дальше, Авито.
– Дальше? Но я же еще ничего не сказал.
– Начала не бывает, есть только продолжение.
Карраскаль, озадаченный подобной глубиной мысли, выкладывает всю как есть историю своей женитьбы и свой проект воспитания сына. Дон Фульхенсио слушает его молча, только два раза останавливает его жестом, чтобы записать афоризм или еще что-нибудь, а может, и вообще ничего. Закончив доклад, Карраскаль пожирает глазами своего учителя, ощущая за спиной simia sapiens и глядя на плакат над головой философа: «Если бы не было людей, их стоило бы выдумать». С полминуты дон Фульхенсио сидит склонив голову, потом поднимает взгляд и произносит:
– Важную роль выбрали вы для вашего сына в человеческой трагикомедии; утвердит ли его в ней Верховный Режиссер пьесы?
Карраскаль в ответ только моргает глазами.
– Ведь жизнь ваша – это трагикомедия, друг мой. Авито. Каждый из нас играет свою роль; мы думаем, что действуем сами, а на самом деле нас дергают за ниточка и мы только играем пьесу, читаем роль, заученную там, в потемках подсознания, в нашем смутном предбытии; нас ведет Суфлер, все события подстраивает Великий Машинист едены…
– А что такое предбытие? – несмело спрашивает Карраскаль.
– Да, разумеется, об этом мы в свое время побеседуем; подобно тому как умереть – это минус родиться, родиться – это минус умереть… По закону перестановки. А в этом театре самое потрясающее герой…
– Герой?
– Да, герой, который принимает свою роль всерьез, становится одержим ею и не думает о галерке, не замечает публики, играет, как будто все – настоящее, в натуре, и Вот в сцене дуэли убивает своего соперника по-настоящему… Убить по-настоящему – значит убить навсегда, приведя в ужас галерку, а в любовной сцене, представьте себе… на этот счет я умолкаю…
Философ делает паузу, чтобы записать афоризм, и продолжает:
– Имеются там хористы, статисты, исполнители первых и вторых ролей, резонеры. Я, Фульхенсио Энтрамбосмарес, сознаю, что у меня роль философа, которую дал мне Автор, философа эксцентричного в глазах других комедиантов, и я стараюсь играть эту роль как следует. Некоторые полагают, что комедия потом повторяется на других подмостках или что мы бродячие межзвездные комедианты и ту же пьесу повторим на других планетах; но есть и такие – я в их числе, – кто считает, что из этого театра мы уйдем спать домой. И бывает, заметьте себе, Авито, что кто-нибудь нет-нет да и вставит в комедию отсебятину.
На мгновение дон Фульхенсио умолкает; Карраскаль молча силится понять его мысль, а философ бросает мечущий искры взгляд на гротескного homo insipiens в цилиндре и продолжает:
– Отсебятина, о, эта отсебятина! Благодаря ей мы выживем, те, кто выживет! В жизни каждого человека бывает всего лишь один, один-единственный момент свободы, настоящей свободы, раз в жизни человек бывает, свободен по-настоящему, и от этого момента, этого мгновения, которое, как и всякое другое мгновение, если прошло, уже не вернется, от этого метадраматического момента, этого непостижимого часа целиком зависит наша судьба. Но, прежде всего, вы знаете, Авито, что такое отсебятина?
– Нет, – отвечает Карраскаль, а сам думает о своей женитьбе, о непостижимом часе визита к Леонсии, когда он встретил Марину, об этом метадраматическом моменте, в который блестящие черные глаза его суженой, ныне жены, сказали ему то, чего никто не знает и никогда не узнает, об этом мгновении свободы… Свободы? Может, любви? Дает любовь свободу пли отнимает? А свобода – дает или отнимает любовь? Внутренний голос бубнит свое: «Ты пал и снова падешь».
– Так вот, отсебятиной, друг мой Карраскаль, называют то, что актеры вставляют в заученные реплики от себя, добавляют нечто, чего нет в пьесе. Отсебятина! Надо караулить свой час, готовиться к нему, не пропустить его и, когда он настанет, включить отсебятину, малую или большую, в свою реплику, а потом продолжать представление. Отсебятина поможет нам выжить, ибо ее нам нашептывает тот же Великий Суфлер.
Дон Фульхенсио делает перерыв и записывает афоризм: «Даже отсебятина входит в роль», после чего продолжает:
– Подготовить сына к метадраматическому моменту – это и есть ваша педагогическая задача. Ломброзо… [17]17
ЛомброзоЧезаре (1836–1909) – известный итальянский антрополог и психиатр. Здесь имеется в виду его работа «Гений и безумие» (1864), в которой гениальность связывается с отклонениями от психической нормы.
[Закрыть]
Услышав это имя, Авито оглядывается, но, встретив взгляд пустых глазниц скелета simia sapiens, снова устремляет взор на философа, который продолжает:
– Что бы там ни говорил о гении Ломброзо, этот поборник здравого смысла в философии, но гений – тот, чью отсебятину вынужден принять Верховный Драматург. Речь идет, стало быть, о том, чтобы заставить Верховного Автора включить нашу отсебятину в текст роли, ибо из роли она и возникла. Если выразиться екзотерически, гений – это тот, кто правит рукопись Верховного Автора, а так как Автор, этот существует, живет а движется только в нас, ради нас и для нас, комедиантов, те гений – это сам Автор, воплощенный в комедианте и вносящий поправки в комедию устами последнего…
Карраскаль размышляет; слова дона Фульхенсио взбудоражили его душу, образовали в его сознании водоворот, подобный воронке, образуемой в глубокой рытвине вода, ми разлившейся реки.
– Так значит… – говорит он, словно бы пробуждаясь ото сна.
– Караулить метадраматический момент, готовиться к нему! – подтверждает дон Фульхенсио.
Для Авито это уж слишком, в его науку такие вещи не входят. Философия эта настолько высока, что может быть выражена только в параболах.
– Я приведу его к вам, дон Фульхенсио…
– Ни в коем случае! – поспешно восклицает философ, у которого детей нет. – Ни я не должен его видеть, ни он меня, пока не придет час. Надо, чтобы чья-то рука, пусть хотя бы человеческая, тайно и незаметно направляла его путь; мы с вами обо всем будем договариваться между собой, а когда я сочту, что он созрел, вы приведете его ко мне, пусть выслушает мои откровения, дабы во всеоружии встретить момент свободы…
– А если этот момент наступит раньше?
– Нет, я прекрасно знаю, в каком возрасте он наступает.
Еще некоторое время они уделяют составлению плана воспитания мальчика; главный принцип сводится к тому, что ребенок должен все увидеть; все попробовать, всем насытиться и побывать в любой обстановке. «Пусть он включается, пусть включается в поиск своей отсебятины», – твердит философ. Но все должно быть научно обосновано, истолковано и прокомментировано. Природа – природа с большой буквы, разумеется, – огромная открытая книга, на полях которой человек должен делать замечания и разъяснения, отчеркивая красным карандашом наиболее примечательные места. «Больше красного карандаша, не жалейте красного карандаша, а поскольку в действительности примечать надо все, то самое разумное – отчеркнуть красным карандашом всю книгу», – говорит дон Фульхенсио, ведь он свои произведения целиком печатает курсивом.
Сходятся на том, что дон Авито будет записывать все достойное упоминания из поступков и речей будущего гения, чтобы затем обсудить этот материал вместе с философом, сделать выводы и действовать дальше, сообразуясь с ними.
Карраокаль отправляется восвояси и в коридоре встречает доныо Эдельмиру. Это высокая женщина, неторопливая, монументальная, уже немолодая, с мягкими чертами лица и румянцем на щеках; носит парик. Они церемонно раскланиваются, и Карраскаль уходит.
– Фульхенсио, это был дон Авито Карраскаль?
– Да, а что?
– Нет, ничего; он, кажется, славный человек.
Философ берет свою дородную половину за подбородок и говорит:
– Послушай, Мира, не будь злюкой.
– Это ты злюка, Фульхенсио.
– Мы оба злюки, Мира.
– Ну, ты как хочешь, а я так думаю, что мы очень даже хорошие…
– Может, ты и права, – задумчиво соглашается философ и добавляет: – Черт побери, а ты у меня все еще лакомый кусочек, несмотря на твои…
– Тс-с-с, Фульхенсио, у стен бывают уши… и глаза…
«Ты пал, пал и падешь сто раз, – говорит внутренний голос Карраскалю на обратном пути, – этот человек, Авито, этот человек… этот человек…» Но, войдя в дом и увидев знакомое колесо на кирпиче, посвященном науке, Карраскаль успокаивается.
V
Как всякое начало предполагает конец, так и конца не бывает без начала, на каковом этапе все еще и пребывает Аполодоро. Понемногу отвыкает от груди – к печали и одновременно к радости Марины. Отец велит кормить сына в такой-то час столько-то минут, взвешивает еду, а затем и самого ребенка, и так три раза в день. Прежде всего гигиена и физическое воспитание; сейчас задача – сделать из него здоровую особь, надо набить его бобами: фосфор, побольше фосфора.
Мальчик пробует ходить. Для ускорения дела отец тренирует его в большой комнате, устланной мягким ковром, где в распоряжение ребенка предоставляются стулья и другие предметы, за которые можно держаться одной рукой, а в другую дается палка, чтобы он использовал ее как трость. Если Марина порывается бежать на помощь малышу, видя, как тот закачался и вытянул вперед ручки, она слышит.
– Стой, не надо, пусть падает, ниже пола не полетит.
– Ну, что это за мир, пресвятая дева! – восклицает мать и возвращается в свой сон.
Когда поблизости никого нет, Марина берет ребенка па руки и учит: «Скажи «мама», сынок, скажи "мама"». – Недаурикулярные массажи сделали свое дело: Аполодоро начал говорить, и отец регистрирует его первое слово, первое самовыражение личности. Это слово – «гого», Гого! В нем высокая тайна! Быть может, оно кабалистическая формула, в которой закодирована индивидуальность нового гения… Ибо, если графология и другие науки, изучающие загадочные психофизиологические соотношения, имеют под собой реальную почву, что вполне допустимо, то почему бы не выявить связь между первым словом, произнесенным человеком, и его личностью? Гого! Авито немедленно отправляется к дону Фульхенсио. Звонкий гутуральный согласный в сочетании с гласным, занимающим среднее положение в ряду фонем (а – о – у), причем сочетание повторяется… Го-го, го-го, го-го! Интересно, какая связь между этим таинственным го-гои будущим метадраматическим моментом?
Дон Фульхенсио вспоминает об опыте, который проделал, по свидетельству Геродота, египетский фараон Псаметих с целью установить, какой из языков самый древний. Он отдал двух новорожденных пастуху, чтобы тот воспитал их в уединении, так что они не слышали бы человеческой речи, и вот через два года пастух обратил внимание, что дети повторяют слово becos, a это по-фригийски «хлеб», – стало быть, самым древним языком оказался фригийский, а не египетский. Исследование, проведенное доном Фульхенсио, позволило выяснить, что слово «гого» принадлежит баскскому языку, где оно имеет значение «желание, хотение, настроение, намерение», в переносном смысле, возможно, и «воля».
– Ребенок чего-то хочет, но свое желание выражает по-баскски…
Затем Аполодоро начинает выговаривать: «папа», «мама», «па», «аба», «тити», «чича», а в один прекрасный день огорошивает отца загадочными словами, которые произносит, ни к кому не обращаясь, как бы разговаривая сам с собой: «пучучули», «пачучила», «титамими», «татапупа», «пачучили».
«Я его не понимаю, никак не могу понять, – говорит себе Авито на пути к дому философа, – А вдруг это кабалистические символы! Я ведь пал… пал. В нем материнская кровь… И этот человек… – Но тут Авито спохватывается и сквозь зубы произносит: – Замолчи! Замолчи!»
Ребенок меж тем забавляется словотворчеством, лепит слова из чего попало, выдумывает и тем утверждает свою изначальную самобытность, от которой впоследствии придется отказаться во имя общения с другими людьми; а пока что он дает волю чудесной творческой силе, которой наделены дети, играет миром, как заправский поэт, создавая бессмысленные слова: «пучучули», «пачучила», «титамими»… Бессмысленные? А не так ли зарождается язык? Ведь сначала было слово, а смысл пришел потом.
Дон Авито внимательно наблюдает за одинокими играми маленького гения, этими первыми попытками что-то сделать, этой пробой душевных сил, этим рысканьем в дремучем лесу в поисках своего пути. Авито замечает, какой получается дидактический эффект, когда оп показывает сыну блоху сначала для осмотра невооруженным глазом, а потом – под микроскопом. Стол покрыт клеенкой, на которой изображены основные открытия и портреты изобретателей. Монгольфье ребенок называет папой – видимо, находит в нем сходство с отцом.
Пока отец уединяется с философом, мать уединяется с сыном и тискает в объятиях грезу своих снов, осыпает поцелуями.
– Мама, скажи «милый».
– Милый! Милый ты мой! Дорогой мой! Принц наследный! Солнца мое! Милый! Милый! Луис, Луисито, Луи сито, мой Луис!..
По ее просьбе мальчика при крещении нарекли Луисом по деду с материнской стороны, отцу Марины, а не каким-то там странным Аполодоро, так что Луис – его тайное, тщательно скрываемое, только им двоим известное имя.
– Луис, ах, Луис мой, Луис, Луисито…
И мать покрывает сына поцелуями.
Прижав губы к его губкам, покачивает головой, отрывается, смотрит на него, восклицает: «Луис, мой Луисито!» и снова целует.
– Скажи, мама, ты меня любишь?
– Очень, очень, очень, Луисито, очень-очень, радость моя, солнце мое ясное, Луис!
– Ты меня очень любишь, мама?
– Очень… очень… очень… Луис, свет очей моих!
– А как очень?
– Больше всех на свете!
– Больше, чем папу?
Лицо Марины омрачается: если бы Авито знал…
Устыдившись своего тайного прегрешения и почувствовав трепет перед незримым явлением рока, она встает и, оставив сына, снова предается снам.
В другой раз, прижимая сына к груди, она восклицает свое «мой, мой, мой Луис, Луисито, радость моя солнце мое, Луис!», а мальчик смотрит на нее спокойно и серьезно, как смотрит на небо во время прогулки. При этих тайных встречах мать говорит ему о боге, о божьей матери, о Христе, об ангелах и святых, о рае и аде, учит его молитвам. А потом предупреждает: «Ничего этого не говори папе, Луисито. Ты понял, милый?» И, заслышав шаги мужа, добавляет: «Аполодоро!»
Но вот Аполодоро осеняет себя крестом на глазах у отца, и у Марины сердце начинает тревожно стучать в груди, но происходит нежданное, нечто, выходящее за пределы ее сонной логики.
– Я это подозревал, Марина, я так и полагал и не стану тебя бранить, я уже беседовал об этом с доном Фульхенсио. Эмбрион в своем развитии проходит все стадии, которые прошел его биологический вид, онтогенетический процесс повторяет филогенетический: сначала это инфузория, затем почти рыба, низшее млекопитающее… Человечество прошло стадию фетишизма, так пусть и каждый человек через нее пройдет. Впоследствии я позабочусь о том, чтобы вывести его из этой стадии и трансформировать его теперешние фетиши в абстрактные идеи. Говори ему про буку, а потом сама увидишь, во что этот бука у него превратится…
Снова Марина возвращается в сон с его особой логикой.
Больше чем влияния матери опасается Авито воздействия на ребенка нянек с их сказками про ведьм и народными поверьями. Но почему же он считает сказки и народные поверья более опасными, чем религиозные традиции, которыми пичкает его мать? «Смотри, Авито, – говорит внутренний голос, – тем, что ты больше опасаешься разговоров о буке, чем бесед о боге, меньше боишься веры в ангелов, чем в колдунов, ты ведь тем самым создаешь благоприятные условия для одного за счет другого… Смотри, Авито, смотри хорошенько». Тут в душе Авито шевелятся воспоминания детства, того детства, о котором он никогда не говорит, и он приказывает бесу: «Замолчи, замолчи, замолчи, наглец!»
Обретя речь, малютка Аполодоро начинает культивировать свое воображение, выдумывая разные смешные нелепости, делает быстрые успехи по части использования этого божьего дара, насмехается над логикой. В нем пробуждается святое чувство юмора, он испытывает наслаждение от любой несуразности, от какой угодно чепухи. Смеется, запрокидывая головку, от всего своего детского сердца, когда скажет бессмыслицу, порвет логическую связь понятий, железный обруч традиционных ассоциаций; он. получает удовольствие в сфере несоответствий, несочетаемого.
Как-то он поразил отца, продекламировав прибаутки, которые он перенял от няни или от других детей:
Наша Эделия —
К столу да с постели;
сосут конфетки
одни малолетки;
кто мне под пару,
не курит сигару;
поутру рано
монашкой я стану;
все кармелитки
ретивы да прытки;
умру со дня на день,
спаси Христа ради;
цирюльник Энрико,
ты кровь мне пусти-ка;
болит печенка,
пропаду я, девчонка;
наверху, на горке,
миндаль растет горький,
а внизу, в долинах,
зреют апельсины;
пес себе лает,
малыш засыпает.
А потом как-то еще:
Чундала-красотка
бродила немало,
пила, пила воду,
травку все жевала
и теперь животик
себе нагуляла.
Когда Карраскаль, не на шутку встревоженный, рассказывает об этом дону Фульхенсио, философ хмурится склонив задумчиво голову набок, он раздосадован тем что Авито, облокотившись на стол, сдвинул с места ветхие письменные принадлежности. Мыслитель восстанавливает порядок, ибо каждому предмету у него отведено свое место: чернильнице, карандашам, ножницам, часам, спичечнице, перьям, – наконец восклицает:
– Он стремится сойти с подмостков, нарушить непреложный для нашей трагикомедии закон правдоподобия!
– Что же делать?
– Что делать? Оставить его в покое, пусть полетает, ему так или иначе придется вернуться на землю, ступить на твердую почву, чтобы поклевать зерна, которого в небе нет. Наш духовный хлеб – только логика.
Пока дон Фульхенсио, по обыкновению, делает паузу, чтобы записать последний афоризм (большинство их приходит ему в голову, когда он говорит; он из тех философов, что думают вслух), дон Авито думает: «Оставить в покое! И так во всем и всегда! Странная педагогика! Что бы это значило?»
– Оставить в покое?
– Вот именно. Вы когда-нибудь были ребенком, Карраскаль?
Авито медлит с ответом.
– Во всяком случае, я этого не помню… Я, разумеется, понимаю, что был ребенком, потому что иначе быть не могло, но я знаю это благодаря дедукции, а также со слов тех, кто говорил мне о моем детстве, я верю им, но, по правде говоря, сам я не помню детства, как не помню собственного рождения…
– Вот-вот, в этом-то и дело, Авито, в. этом все и дело! Вы не помните, как были ребенком, в вас не сидит ребенок, вы им не были, а хотите быть педагогом! Хорош педагог, который не помнит детства, не представляет себе ясно, что это такое! Вот так педагог! Только через наше собственное детство можем мы приблизиться к детям! Стало быть,
Наверху, на горке,
миндаль растет горький,
а, внизу, в долинах,
зреют апельсины?
Да, конечно, смысла тут нет, это верно… Но отсебятина тоже не имеет смысла, потому что ее нет в тексте роли. А что прикажете ему петь? Дважды два – четыре, дважды три – шесть, дважды четыре – восемь?… Это, что ли? Придет еще, придет его время, настанет суровая пора логики. А сейчас оставьте его в покое, предоставьте самому себе…
«Оставьте в покое, – размышляет Авито, шагая по улице, – предоставьте самому себе… Ну, ладно, я его оставлю в покое, но прежде поговорю с ним кое о чем, пусть даже и не поймет. Отчего это никому так и не удалось сочинить хоть какую-нибудь хороводную песню с логичным и поучительным содержанием, которая привилась бы детям? Почему детям нравится бессмыслица?»
Дома сын рассказывает нелепую побасенку, и Авито задает ему вопрос:
– Ну, скажи мне, Аполодоро, ты в это веришь?
Ребенок пожимает плечами. Странный вопрос, верит ли он в это! Откуда мальчику знать, что такое верить в то, что ты говоришь?
– Так что же, веришь или нет? Ты веришь, что все это правда?
Правда? Мальчик снова пожимает плечами. А что, если будущий гений еще не видит стены между реальностью и вымыслом? Может, и в самом деле он выдумывает разные вещи и верит в них, как это утверждает дон Фульхенсио? Чего доброго, это начало отсебятины!
И вот как-то раз, выслушав замечание няньки по поводу какой-то шалости, Аполодоро заявляет:
– Тебе это, наверное, приснилось!
Материя снова в интересном положении, а Форма – в замешательстве: подобное осложнение не входило пи в какие расчеты. Форма проклинает инстинкт, ибо не знает, помешает это новое существо воспитанию гения или, наоборот, будет способствовать оному. А если появится второй гений?
– Смотри-ка, папа, – восклицает однажды Аполодоро, – какая мама теперь у нас толстая!
Бедная Марина заливается краской, а отец поясняет сыну:
– Видишь ли, Аполодоро, отсюда, из этой толщины, получится для тебя братишка или сестренка…
– Отсюда? – восклицает мальчик. – Вот потеха!
– Авито! – умоляющим голосом произносит сонная Материя.
– Да, отсюда. Никаких сказок о том, что младенцев привозят из Парижа, и другого подобного вздора; всегда – правду, только правду. Будь ты постарше, сынок я объяснил бы тебе, как из оплодотворенной яйцеклетки развивается зародыш.
Донельзя сконфуженная Материя роняет слезы.
Когда Карраскаль с удовлетворением рассказывает об этом эпизоде дону Фульхенсио, его снова ждет сюрприз.
– Мальчонка не лишен наблюдательности, – замечает философ, – но я не понимаю, зачем вам было говорить ему такое напрямик, а не придумать что-нибудь…
– Ложь?! – таращит глаза Карраскаль.
– Да, ложь… на некоторое время.
– На время, но все-таки ложь!
– Ах, вы все еще цепляетесь за правду, Карраскаль? Да есть ли на свете что-нибудь лживее правды?! Разве она нас не обманывает? Разве правда жизни не обманывает наши самые пылкие надежды?
«Да ведь он… да ведь он… – говорит сам с собой сбитый с толку Карраскаль на пути к дому. Несовершенство реального мира – каменная стена на пути к осуществлению его замыслов, у него просто руки опускаются. – Да ведь этот человек…» Но, вспомнив фразу: «Вы все еще цепляетесь за правду, Карраскаль?», Авито соглашается: «Да, он прав!»
«А что, если Аполодоро пойдет в мать? В состоянии ли педагогика переработать такое сырье? Не сделал ли я глупость, поддавшись чувству… чувству… – отец гения поперхнулся одиозным понятием, – чувству (признайся, Авито!) любви?» Произнеся это слово и шикнув на беса с его неизменным «Вот видишь? Ты пал, ты падаешь и падешь еще сто раз», Карраскаль продолжает рассуждать: «Любовь! Первородный грех, родимое пятно моего гения, о, какой глубокий смысл заложен в концепции первородного греха! Не удастся мне вырастить из сына гения: я слишком поверил в могущество педагогики л недооценил наследственность, вот эта наследственность теперь мне и мстит… Педагогика есть процесс адаптации, любовь – врожденный инстинкт, а наследственность и адаптация всегда будут противоборствовать друг другу, это борьба прогресса и традиции… Однако разве не существует традиции прогресса и прогресса традиции, по теории дона Фульхенсио? Разве нет педагогики любви, любовной педагогики и любви к педагогике, педагогической любви, а стало быть, также педагогической педагогики и любовной любви? Чего только не познаешь в общении с этим человеком! Какой человек! Мне надлежит преодолеть в моем сыне всю инертность, которая досталась ему от матери; смотри правде в глаза, Авито: ведь вся неизбывная заурядность твоей жены… Искусство может многое, но Природа должна ему все же помогать… Видно, я поступил как жалкий раб инстинкта, пожертвовав сыном во имя любви, вместо того чтобы принести любовь в жертву сыну… Пока мы женимся по любви, человечество будет пребывать в нынешнем плачевном состоянии, потому что любовь и разум исключают друг друга… Нельзя быть одновременно отцом и учителем, никто не может быть учителем собственных детей, как никто не может быть отцом своим ученикам; учителя должны придерживаться безбрачия – вернее, быть бесполыми, а отцами пусть будут те, кто для этого больше всего пригоден; да-да, должны быть такие люди, чьим единственным занятием было бы производство на свет детей, которых потом воспитывали бы другие, а их задачей оставалась бы добыча педагогического сырья, воспитабельной массы. Надо бы ввести специализацию функций… Любовь… любовь! Но, послушай, Авито, любил ли ты Марину хоть когда-нибудь? Любил ли ты ее, и что это значит – любить?»







