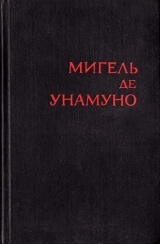
Текст книги "Любовь и педагогика"
Автор книги: Мигель де Унамуно
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 10 страниц)
XII
Не расстроена ли чем-нибудь Кларита? С ней творятся что-то странное. Отвечает не на то, о чем Аполодоро ее спрашивает, а на то, что он, по ее мнению, должен был у нее спросить. Правда, эта черта присуща всем женщинам, но с ней это впервые. Однако заговорить о Федерико нельзя, нельзя даже выказать ни малейшего подозрения на этот счет. К тому же дон Эпифанио в последнее время чем-то вроде недоволен. Что ж, удвоим нежность!
– Ты моя педагогика, моя живая педагогика, ты моя, – и он подходит к ней поближе.
– Почему ты называешь меня таким отвратительным именем?
– О, ты права, Клара, Кларита, моя милая…
Она молчит. «Черт бы побрал этого Федерико…» – думает Аполодоро, но тут вдруг Кларита выпаливает:
– Ты ходишь к мессе, Аполодоро?
– Если ты этого хочешь, Кларита…
Сразу же на горизонте его совести подобно грозовым тучам возникают образы дона Авито и дона Фульхенсио.
– Если я хочу, если хочу… Нет, ты скажи, ходишь или нет?
– Пока не хожу, но буду ходить.
А сам в это время думает: «Мне бы только отвадить от нее Федерико…»
– Ты читаешь молитвы по утрам и перед сном?
– Буду читать.
– А твоя мать…
– В доме она пустое место…
– Так поди исповедайся дону Мартину; если ты иудей, ты мне не пара.
– Но я…
– Не хочу иудея!
– Хорошо, Кларита, но послушай…
– Пойдешь ты к дону Мартину?
– Чтобы он обратил меня к вере?
– Пойдешь ты к дону Мартину?
– Да зачем тебе это?
– Пойдешь ты к дону Мартину?
«До чего иррациональны женщины!» – думает Аполодоро, а вслух произносит:
– Ну ладно, пойду.
– Значит, пойдешь к дону Мартину?
– Да, дорогая, да, пойду к нему.
– Ну вот, теперь я тебя люблю.
– Теперь меня любишь? Теперь любишь меня? Скажи, меня любишь, меня? Не опускай глаза, ну, Кларита, пожалуйста, скажи: ты меня любишь?
– Ты сам знаешь…
– Нет, ты мне скажи: любишь меня?
– Да как ты не понимаешь, что об этом не спрашивают!
– Еще как спрашивают! Ну, я ж тебе обещал пойти к этому дону Мартину! Скажи: ты меня любишь?
– Ну, хорошо, хорошо…
«"Ну, хорошо, хорошо…" Всего-навсего «хорошо», а перед ним еще «ну». Это все Федерико, не иначе Федерико».
Как только Аполодоро уходит, Кларита, не мудрствуя лукаво, принимается сочинять ответ Федерико. При этом она рассуждает так: «Этот молодой человек недурен и ставит' вопрос прямо, он хочет, чтобы я порвала с Аполодоро и взяла в женихи его. Бедняжка Аполодоро! Он такой добрый, такой несчастный! И так меня любит! А я? Люблю ли я его? Но что значит любить? Что за штука эта любовь? Нет, нехорошо так поступать, я же приняла его предложение… Хотя почему нехорошо? Они-то нас бросают, если приглянется другая, а чем мы хуже их? Только вот приглянулся ли мне этот другой? Папа, кажется, недолюбливает Аполодоро, считает его чудаковатым… Но он такой добрый, такой несчастный, так любит меня! Федерико поэлегантней, половчей, не такой странный… Да ну их, в конце концов, пусть разбираются сами! Я скажу Федерико и да, и нет, что я связана словом и не связана, не стану обнадеживать, но и лишать надежды не буду. Пускай подерутся, посмотрим, кто кого; скорей всего, Федерико одолеет… Он больше похож на мужчину». И она отвечает Федерико неопределенно, так, чтобы он не потерял надежды.
А бедный Аполодоро хочет стать чем-то, он хочет этого из-за нее и ради нее, потому-то он и трудится так усердно над своим романчиком. Проведя несколько часов в мучительных раздумьях, встает из-за стола в отчаянии: «Никогда из меня ничего не получится!» В коридоре видит безмолвно вздыхающую тень матери, которая проходит мимо, а в глазах ее – безучастие хронической летаргии.
«Сегодня вечером я пойду к ней и спровоцирую сцепу, на которой я застрял… Нет никакого сомнения в том, что невеста, кроме всего прочего, – великолепный объект для литературного эксперимента. Менагути прав, большая любовь подвигает на великие поэтические дела; банальная любовь ведет к производству детей, героическая любовь – к созданию поэм, картин, симфоний. Итак – сегодня вечером».
Наступает вечер, и в парадной дома Клариты Аполодоро ощущает прилив смелости: впереди у него высокая художественная цель, а сзади его подталкивает тень Федерико. Кровь ударяет ему в голову, стучит в висках, и он с ходу хватает Клариту в объятия; та не сопротивляется. «Она покорилась мне, я победитель, герой, мужчина!»
– Ты меня любишь?
– Сам знаешь, но пусти… пусти…
А он прижимает ее к груди и срывающимся голосом продолжает:
– «Сам знаешь» – не ответ. Скажи, любишь меня?
Она роняет «да».
– «Да» – и больше ничего?
– Ну, а что же ты хочешь, чтоб я тебе сказала? Только пусти меня, пусти…
Аполодоро смотрит ей в глаза, но она закрывает их, чтоб не выдали секрета. Он целует ее, она дрожит, он прижимает губы к ее глазу, и тут она испуганно восклицает:
– Папа идет!
Они отскакивают друг от друга.
Бедняжка, бедняжка! Как он меня любит! Неужели он действительно поверил, что идет отец?!
Меж тем Аполодоро думает: «Опыт не получился, но дал результата; это все не то, что мне нужно, придется повторить».
Когда дон Эпифанио на самом деле появляется, он зовет дочь на два слова, та выходит, едва переводя дух, и отец говорит ей:
– Послушай, дочь моя, в общем, это твое дело, только знай, что пора уже поставить точку. Тебе решать, конечно, но я хочу сказать, что в твоем возрасте все это уже не игрушки, а если ты думаешь иначе, так ты ошибаешься. Подумай серьезно. Оба неплохие ребята, но кто-то из них лучше. Этот со странностями… Выбирай сама, это твое дело. Но только решай сейчас, не тяни, дальше так продолжаться не может. Реши разом и играй в открытую.
– Но, понимаешь…
– Ты сама понимаешь, что тебе надо решать. Иначе пойдут разговоры…
Огорошив дочь такой речью, дон Эпифанио уходит.
Девушка заливается слезами, ей очень стыдно. Неужели она действительно вертушка, кокетка? Тут входит мать и успокаивает рыдающую Клариту.
– Ну-ну, дурочка, хватит реветь, не стоит. Давай-ка лучше решай! У всех у нас были такие минуты. Из-за твоего отца я отказала студенту горного института, и ничего не случилось ни со мной, ни с ним. Этот сын дона Авито…
– Но, мама…
– Да-да, я все понимаю, это все естественно. Только ты вникни в суть дела…
– Но ведь я…
– Да ну, пустяки! Вовсе ты его не любишь, ты ошибаешься. Любовь… любовь… все мы, конечно, любим своих ближних. А он ведь тоже твой ближний, его тоже надо любить; но вот что касается любви, так ты знай, что настоящая-то любовь приходит, когда не год и не два поживешь замужем, когда ты ее уже и ждать перестанешь.
Кларита плачет, закрыв лицо руками, плачет от стыда, а пожалуй, и сама не знает отчего. Наконец открывает лицо и говорит: «Хорошо!» И решает назначить первое свидание Федерико в тот же день.
Вечером того же дня к дону Эпифанио заходит дон Авито. Он вручает хозяину плату за последний месяц.
– И уведомляю вас, дон Эпифанио, что мой сын не сможет больше брать у вас уроки.
– Хорошо.
– К вашим урокам у меня претензий нет.
– Рад это слышать.
– Совсем никаких претензий к вашей методике преподавания, но, видите ли, любезный дон Эпифанио, у меня свои планы относительно моего сына.
– Разумеется!
– И вы, конечно, понимаете, раз уж у меня свои планы…
– Понятно.
– Может быть, у вас…
– О нет, у меня-то какие могут быть планы?
– Ну, насчет вашей дочери…
– Она сама решает.
– Но ведь…
– Это их дело.
– Однако в мои планы…
– Да какие там планы! Как ни крути, все дороги ведут в Рим…
«Да он придурковат», – заключает дон Авито и встает:
– Что ж, хорошо, я знаю, что мне делать…
– Очень рад, сеньор Карраскаль, очень рад.
– Всего наилучшего.
– Ваш покорный слуга.
Идя по улице, дон Авито размышляет: «Нет у меня характера… Одни теории, ничего более… Ничего у меня не получается… Марина… Марина… Ох уж эта Марина… Проклятая наследственность!» И, сам не зная как, дон Авито, словно притягиваемый бездной, оказывается у дома дона Фульхенсио.
– Да не мешайте вы ему ради бога, друг мой Карраскаль, дайте ему испытать, что такое любовь. Поскольку любовь подобна зерну и не дает научных плодов, пока она жива, дождитесь ее смерти. Не пережив разочарований, нельзя познать мир; вашему сыну нужна смерть жизни, он имеет право на смерть жизни. Какой у него аппетит?
– Все хуже и хуже.
– Добрый знак!
На пути домой дон Авито, как всегда, рассуждает! «Но этот человек… этот человек… Он меня обманывает… Он меня обманул… О, наука, наука!» Дома он запирается у себя в кабинете и углубляется в трактат по физиологии.
Романчик Аполодоро напечатан в каком-то журнале я встречен всеобщим равнодушием, если не считать дона Авито, который, ничего вокруг не замечая, продолжает терзаться сомнениями. «Я ошибся, ошибся, – твердит он себе. – Ничего из этого не получится, мне не хватило силы воли, чтобы выполнить до конца предписания педагогики, или, может быть, педагогика не воспитала во мне силу воли. А все Марина… Марина…» Но потом он оправляется от шока, перечитывает произведение сына и находит в нем какие-то достоинства. «Да, несомненно, в нем что-то есть, можно еще сделать из него если не гения, то что-то вроде этого, а впрочем, почему бы и не гения? Гений – это терпение, его становление – процесс длительный. Да прошла ли пора литературных гениев? Подождем».
Кларита, уже почти решившая бросить Аполодоро ради Федерико (она попросила у родителей и у нового жениха отсрочку), начала читать романчик, но он нагнал на нее такую убийственную скуку, что до конца одолеть его она не смогла, однако поняла, что послужила для этого опуса литературным сырьем, на что отозвалась так: «Ох уж этот Аполодоро, этот Аполодоро… Бедняжечка!»
Аполодоро тяжело переживает неудачу, вернее, полный крах: ни нападок, ни критики, всего лишь вынужденная похвала Менагути, который похвалил то, что Аполодоро позаимствовал у него. Юноше кажется, что после Публикации романчика во взглядах друзей и знакомых прибавилось иронии, – наверняка в душе все потешаются над ним. А Кларита, что день ото дня холоднее с ним, сдержаннее, не сказала о романчике ни слова, хотя его читала.
Любит ли он Клариту? Любил ли хоть когда-нибудь по-настоящему? Надо сказать, что теперь, когда он использовал ее как сырье для романчика, любовь его порядком выдохлась.
Однако самую глубокую рану ему наносит дон Фульхенсио, Которого Аполодоро посетил после долгого перерыва.
– Отлично, Аполодоро, отлично, ты получил по заслугам. Крах, полный крах. Нуль. Захотел стать писателем? Вот и получил. Ты думаешь, я не понимаю, что твоей главной заботой была форма, фактура, стиль? Это все от Менагути. Добрую половину там занимает твоя невеста, но и ее ты видишь глазами Менагути. Даже на собственную невесту не сумел ты взглянуть своими глазами. Поделом тебе, поделом. Ну, что теперь твой стиль, что твоя форма, а?
– Искусство – это прежде всего форма.
– Форма? Форма, говоришь? Суметь только… суметь… Глупости! Дело заключается в том, чтобы, как говорится, высоко мыслить и глубоко чувствовать, а ты, извини меня…
– Но это мешает…
– Я понимаю, можешь не продолжать, да, это мешает, мешает. Ты хотел сказать, что возвышенная мысль или глубокое чувство теряют свое качество, если о них красиво сказано, не так ли?
– Я считаю, что удачная форма усиливает эти качества.
– Ты ошибаешься, Аполодоро, ошибаешься. Будучи красиво выражены, мысли и чувства теряют возвышенность и глубину именно из-за того, что превращаются в красивые слова и звучат в устах адептов здравого смысла, которые не имеют обыкновения ни возвышаться, ни углубляться, не желают продумать или прочувствовать что бы то ни было, а берут все в готовом виде. Ты захотел стать классиком… Да какой в этом прок? Все классическое мерзко, все изощренное мерзко. Если Шекспира скрестить с Расином, получится бессмыслица. Вообще, искусство – это низшая сфера, нечто второстепенное, достойное презрения, именно презрения. Искусство ради искусства? Чушь! Назидательное искусство? Такая же чушь! Лучше перевернуть нутро или закрутить мозги десятку себе подобных, пусть даже самым неизящным способом, чем снискать восторг и аплодисменты десятка миллионов слабоумных. Что ж, иди, иди в писатели, туда тебе и дорога!
Покинув дом философа, Аполодоро повторяет про себя: «Это просто невыносимо! Крах! Полный крах! Никто не принимает меня всерьез, все надо мной потешаются, хотя и не показывают виду. Кларита меня не любит, этот Федерико… этот Федерико… А тут еще Менагути со своим искусством… Искусство! Может, прав этот человек, и оно действительно чушь?»
XIII
Кларита мечтала, что из-за нее будет дуэль, но все получилось проще. На первом же свидании, оставшись с девушкой наедине, Федерико хватает ее в объятия и впивается в ее губы, а та чуть не падает в обморок, сердце ее вот-вот выскочит из груди, и про себя Кларита восклицает: «Вот это мужчина! Бедненький Аполодоро!» Федерико не привык отказывать себе в каких бы то ни было побуждениях плоти, но, слава богу, на людях он прячется под иронической маской.
– Отныне и впредь ты моя, только моя, понимаешь?
– Да.
– И вот что, напиши тому мямле письмо под мою диктовку.
– Но я…
– Не беспокойся, я знаю, как ему следует написать.
– Ну, хорошо, я напишу…
– Вот и отлично!
И вот в один дождливый вечер Аполодоро получает роковое письмо; сжимая его в кармане, выходит на улицу вдохнуть свежего воздуха, идет куда глаза глядят, а в голове его гулко стучит кровь. Он не пережил до конца неудачу с повестью, ему кажется, что прохожие смотрят на него и в душе смеются. Тут он встречает лохматого Менагути, святотатственного поэта, жреца Девы Красоты.
– Что с тобой, приятель? Ты уже друзей не узнаешь?
– А, извини!
– Извини-то извини, да что с тобой стряслось? В чем дело?
– Да так, ничего…
– Ничего? Так-таки ничего, nihil? От меня не скроешь, в психологическом анализе я силен… У тебя такие глаза, и весь твой вид…
– Ну ладно, скажу. Федерико отбил у меня невесту.
– Федерико Варгас?
– Он самый.
– И ты говоришь, что это ничего, пустячок, nihil? Как же ты позволил этому нищему духом сманить у тебя девушку? Неужели ты это так и оставишь?
– А что я могу сделать?
– Что? Сразу видать, что родитель твой напичкал тебя одной наукой, этими помоями, что вкупе с религией составляют главную причину нашего упадка. Я вот только что вычитал у Руссо: «Ученые и богачи лишь на то пригодны, чтобы друг друга разлагать». О, свобода, святая свобода! Virgo Liberias! [29]29
Дева Свобода (лат.).
[Закрыть]Для тех, разумеется, кто ее заслуживает, нас очень мало. О, красота! Святая красота! Alma venustas! [30]30
Благодатная красота (лат.).
[Закрыть]Ты раб, Аполодоро.
– Но что же я могу с ним сделать?
– Как это что? Да убить его!
– Убить? Ты понимаешь, что ты говоришь?
– Убить его или умереть самому. Схватиться с ним не на жизнь, а на смерть на глазах у Елены.
– Ее зовут Клара, Ильдебрандо.
– Я знаю, что говорю: именно поставить на карту ваши жизни пред очами Елены, женщины. Nam fuit ante Helenam cunnus deterrima belli causa, sed ignotis perierunt mortibus illi. [31]31
Еще до Елены женские ляжки служили причиной войн, но те, кто пал в этих войнах, славы не стяжали (лат.).
[Закрыть]Я говорю тебе это по-латыни, чтобы не поранить твой слух, не приученный к прекрасной простоте язычества. Рискни жизнью на турнире во славу Елены, а если ты этого не сделаешь, ты раб!
При этих словах Менагути тряхнул гривой.
– И посылай прошение об отставке у жизни…brutto poter, che ascoso, a commun danno impera, [32]32
…злой силе, что тайно правит миром на пагубу всем живущим (ит.).
[Закрыть]как сказал Леопарди, или на имя Высшего Существа, как называют его те, кто претендует на более близкое с ним знакомство.
– Но ты учти, что…
– Ничего я не буду учитывать. Иди сейчас же и вызови его, иначе ты не мужчина. Вызови его, вызови! И не заговаривай со мной раньше, чем вычеркнешь его из книги жизни, или он вычеркнет тебя. Итак, иди к нему с вызовом!
С этими словами поэт отворачивается от несчастного и идет своей дорогой.
Огорошенный Аполодоро смотрит ему вслед, а в ушах его эхом откликается: «Вызови его!» И он вспоминает, как в детстве присутствовал при знаменитой стычке между Пепе и Нарсисо: мальчишки сделали круг, противники смотрели друг на друга и ждали («Пусть он только заденет меня!»), а сторонники того и другого кричали; «Дай ему! Эй, трус! Он тебя одной левой! Задень его, вызови! Дерни его за ухо, вызови!» Вызови! Тут тебе и теория, и педагогика! Убей или умри! Умри… умри… И Аполодоро сталкивается носом к носу с Федерико.
– Вот тебе на! Это вы?
– Да, нам нужно поговорить.
– Когда вам угодно, где угодно и как угодно. Хотите, прямо сейчас пройдемся и поговорим?
– Дело в том, что… – начинает Аполодоро, смущенный такой непринужденностью.
– Наверное, насчет Клариты?
– Да, нам с этим надо решить.
– Решить? Да она уже это сделала.
– Один из нас лишний.
– В данном случае – вы.
– Но… нам придется драться…
Выговорив это, Аполодоро удивляется: «Неужели это я сказал, я?»
– Но, послушайте, милый мой, не выставляйте себя дураком. Кто вам вбил это в голову? Наверняка этот осел Менагути!
– Вы что же, полагаете, что я нуждаюсь в ком-то, кто вбивал бы мне в голову все на свете?!
– Тш-ш, не так громко, зачем поднимать крик?
– Так вы меня считаете марионеткой? Со мной такие вещи…
– Да тише, говорят вам, уймитесь, а то я заткну вам рот платком.
– Значит, по-вашему, я круглый дурак?!
– Стоп! Не будьте ребенком и не валяйте дурака. Ваш отец совсем задурил вам голову своей педагогикой. По правде говоря, после всей вашей зубрежки, да еще после того как вы вылезли курам на смех с вашей повестушкой, вы не можете претендовать на любовь такой девушки, как Кларита. Учитесь жить, пейте липовый чаи и побольше думайте сами. А теперь прощайте, мне некогда.
Федерико входит в парадную одного из домов, и Аполодоро снова остается в одиночестве. Слезы застилают ему глаза, все вокруг мутнеет, интерес к жизни начинает у пего испаряться, несчастный горестно плачет: «Да, я подам в отставку, уйду… убью себя… О, отец, отец!»
Все против него, все над ним насмехаются. Ему стыдно перед знакомыми, которые украдкой на него поглядывают и про себя, как видно, говорят: «Вот идет сын дона Авито, из которого делают гения. Бедняжка!» Проклятый мир, в котором все построено на лжи и несправедливости, начинает вызывать у Аполодоро несварение желудка, повышает кислотность, что ведет к ипохондрии и заражению крови, а кровь заражает мозг. И вот уже в один прекрасный день кто-то из друзей Аполодоро отваживается спросить: «Как поживает твоя экс-нареченная?» Экс-нареченная! Назвать так Клариту!
Молодой человек решает обратить свою месть против дона Фульхенсио, этого змея-искусителя, человека злонамеренного и над всем насмехающегося. К тому же в доме философа он увидит донью Эдельмиру: какие у нее все-таки роскошные формы! Какая она еще румяная и сдобная! А какой парик!
И вот он в доме дона Фульхенсио. На этот раз философ, как ни странно, серьезен.
– Здравствуй, Аполодоро. Что привело тебя ко мне? Где ты пропадал? У тебя озабоченный вид. Что случилось?
– Что со мной могло случиться, дон Фульхенсио? Только то, что вы с моим отцом сделали меня несчастным, очень несчастным; я хочу умереть!
И Аполодоро ударяется в слезы, как ребенок.
– Ну-ну, мальчик мой, ну что ты, Аполодоро, успокойся, успокойся же… Наверняка пустяк какой-нибудь. Да не будь ты таким!..
– Не будь таким… не будь таким… А какой же я еще, если не такой, каким вы меня сделали?
– Но скажи мне, что у тебя за беда? Ты все еще переживаешь фиаско с твоей повестью? Да, я говорил с тобой резко, но прими во внимание…
– Нет, дело не в этом.
– А-а, понял! Так от тебя ушла невеста?
Помолчав, философ заключает:
– Но это не имеет никакого значения.
– Не имеет значения… не имеет значения… Как бы не так! Это для вас не имеет значения. А надо мной все смеются, все!
– Это тебе кажется!
– И все меня презирают…
– Ну, будь же благоразумен, доверься мне, открой мне свое сердце, Аполодоро, облегчи свою душу, расскажи мне обо всем.
Дон Фульхенсио идет к двери кабинета, запирает ее на ключ, и начинается настоящая исповедь, которая состоит из восклицаний, прерываемых слезами и рыданиями. Когда она заканчивается, философ встает, прохаживается, глядя в пол, по комнате, потом подвигает свой стул поближе к гостю и в полумраке от наступивших сумерек говорит ему тихо, чуть не на ухо:
– Ты знаешь, Аполодоро, что такое геростратство?
– Нет, да и зачем мне это нужно…
– Еще как нужно, и не только тебе, нам всем это нужно знать. Геростратство – болезнь нашего века, я сам им страдаю, и тебя мы хотели им заразить.
– Так что же оно такое?
– Вот видишь, выходит – нужно! Знаешь, кто такой был Герострат? Это был человек, который сжег храм в Эфесе единственно ради того, чтобы обессмертить свое имя; мы точно так же сжигаем свое счастье, чтобы наше имя, пустой звук, дошло до потомков. До потомков! Да, Аполодоро, – философ берет молодого человека за руку, – мы не верим уже в бессмертие души, смерть пугает нас, пугает нас всех, каждому леденит сердце перспектива замогильного небытия, вечной пустоты. Мы сознаем всю безнадежную мрачность зловещей процессии теней, шествующих из ничего в ничто, и путь этот для нас словно сон, Аполодоро, словно сон, даже иллюзия сна, и однажды вечером ты уснешь, чтобы не проснуться никогда-никогда, и у тебя нет утешения, что ты познаешь потусторонний мир. Те, кто утверждает, что им на это наплевать, либо лжецы, либо дураки, заскорузлые сердца, жалкие люди, которые фактически не живут, ибо жить, друг мой, значит стремиться к бессмертию. В свое время погибнет весь наш мир и с ним – вся его история; вечному забвению будет предано имя Герострата, и никто не будет знать, кто такие были Гомер, Наполеон, Христос… Проживи несколько дней, несколько лет, веков, тысяч веков – конец один. А раз мы не верим в бессмертие души, мы мечтаем о том, чтобы имя наше не умерло вместе с нашим телом, чтобы о нас помнили, чтоб мы продолжали жать в памяти людей. Жалкая жизнь!
Слезы Аполодоро уже высохли, он с трепетом внемлет словам философа.
– Кто я такой? Я человек, который сознает, что живот, приказывает себе жить, а не живет себе как живется, который хочет жить, Аполодоро, жить, жить. У меня – воля к жизни, а не покорность ей; не покоряюсь я и смерти, потому что хочу жить. Не покоряюсь смерти, не поддаюсь ей… но я умру!
В последнем слове звучат слезы.
– И вот я, Аполодоро, прячу свою боль и стараюсь привлечь к себе внимание эксцентричностью. День и ночь размышляю я о вечности, этой ненасытной пустоте, а у меня нет детей, Аполодоро, нет детей… нет детей…
Речь его прерывают рыдания. Юноша и старик льют слезы, заключив друг друга в объятия.
– О, сколько фантазии! Сколько грез! Грез о смерти жизни и о жизни смерти! Есть ли у нас право на жизнь? Или долг умереть? Стать богами! Богами! Бессмертными богами! О, эта смерть! Гляди!
И философ показывает Аполодоро лист бумаги, на котором написаны имена ученых, философов, мыслителей, и после каждого имени – цифры: Кант, 80; Ньютон, 85; Гегель, 61; Юм, 65; Руссо, 66; Шопенгауэр, 72; Спиноза, 45; Декарт, 54; Лейбниц, 70 и многие другие, также с цифрами.
– Знаешь, что это такое? Это число прожитых каждым из них лет, возраст, в котором умирали эти великие мыслители; я вывожу среднее арифметическое, чтобы примерно определить срок своей жизни. А видишь стопку бумаг в другом ящике? Это планы моих будущих трудов. Я сказал себе: «Пока я не выполню их, я не умру». Но как жаль, что я не могу верить в собственное бессмертие! Почему бы мне не быть первым человеком, который не умрет? Разве смерть – метафизическая необходимость? И вот я придумал шутку: кто твердо и до конца верит в свое бессмертие и ни на мгновение не усомнится в этом, тот никогда не умрет. Но горе ему, если он даже в муках агонии возымеет хоть тень сомнения в том, что ему не суждено умереть! Горе ему, если он подумает: «А что, если я умру?» Ибо тогда он пропал, ему конец. Так я играл, выдумывая подобные шутки, о этим ужасным призраком. Ты знаешь, что ничего не пропадает…
– Закон сохранения энергии… переход энергии из одной формы в другую… – бормочет Аполодоро.
– Ничто не исчезает: ни материя, ни энергия, ни движение, ни форма. Все отпечатки, произведенные в нашем мозгу, регистрируются в нем, пусть мы о них и не вспоминаем, не обращаем внимания на факт их приобретения, – они остаются, как на стене остаются следы мимолетных теней. Нет только достаточно сильного реактива для их проявления. Все, что поступает в нас через наши органы чувств, остается в нас, в бездонном море подсознательного, в котором живет весь мир и все прошлое, в том числе наши отцы, деды, прадеды и так далее до бесконечности…
– Как же так?
– Ну, дай мне помечтать. Разве не наследуем мы у родителей черты лица, все органы, расу, биологический вид? Разумеется, наследуем; стало быть, мы несем в себе собственного отца, только его отдельные черты, его самые индивидуальные особенности тонут в бездне подсознания… Таким образом, когда среди внуков наших внуков появляется человек-интеллект, который весь – сознание (сознание охватывает весь его организм), он осознает каждую клеточку и ее смысл, – вот тогда в нем возрождаются его родители, родители его родителей, мы все возродимся в наших потомках…
– Как это красиво! – вырывается у Аполодоро.
– Красиво, да. Но разве красивое истинно? Л как же быть тем, у кого нет детей? Я все время мучаюсь этой проблемой. Мы, бездетные, воспроизводим себя в своих трудах, они – наши детища, в каждом из них полностью отражен наш дух, и тот, кто такое произведение воспримет, воспримет нас целиком. И как знать, быть может, когда я умру и тело мое разложится, какая-нибудь из моих клеточек превратится в амебу и как таковая начнет размножаться и размножать мое сознание. Ибо сознание мое все во мне, Аполодоро, в каждой из моих клеточек, в этом вся тайна естества человеческого… Но… самое верное все же – иметь детей… иметь детей… Производи детей, Аполодоро, производи детей. Это так красиво! Разве нет?
– О, какие мечты, дон Фульхенсио!
– Да, мечты. Я читаю Вейсмана, [33]33
ВейсманАвгуст (1834–1914) – немецкий биолог, изучал проблемы наследственности. В работе «Протоплазма» (1892) выдвинул идею бессмертной порождающей протоплазмы, передающей от поколения к поколению наследственные качества.
[Закрыть]и мне хочется верить, что мы – воплощение божественных идей, и мне нужен бог, Аполодоро, до зарезу нужен бог, чтобы сделаться бессмертным… Жить, жить, жить…
– Умереть… уснуть! Уснуть… и может, грезить!
– Откуда родилось искусство? Из жажды бессмертия. Она же воздвигла пирамиды и сфинкса, дремлющего у их подножия. Говорят, искусство родилось из игр. Игра! Игра есть усилие, попытка выйти из сферы логики, потому что логика приводит к мысли о смерти. Меня называют материалистом. Да, я материалист, ибо хочу материального бессмертия, хочу сохранить свою форму и субстанцию. Хочу, чтобы жил я, я, я, я, я… Но… производи детей, Аполодоро, производи детей!
Под это заклинание, венчающее печальную речь философа, в душе Аполодоро вспыхивает страстное желание стать отцом, производить детей, он вспоминает Клариту и тяжко вздыхает. Прощаясь, роняет слезы па плечо дона Фульхенсио. На обратном пути Аполодоро думает: «Я недоношенный гений; а кто не соответствует должности, обязан подать в отставку… Подам, подам в отставку, убью себя. Бедный дон Фульхенсио! Я покончу с собой, иначе что же я скажу Менагути? Но сначала надо обеспечить себе это самое бессмертие, а вдруг оно и па самом деле существует! Как знать, кому это известно? Мама верит в другое бессмертие, ждет и страдает, терпит отца… верит в другое… Вот этот прохожий тоже как-то странно на меня смотрит, видно, читал мою повесть или знает про историю с Кларитой; знает, наверное, меня или моего отца и в душе смеется надо мной, как и все остальные. Нет, в отставку, в отставку!»







