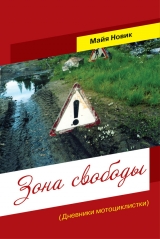
Текст книги "«Зона свободы» (дневники мотоциклистки)"
Автор книги: Майя Новик
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Тюнинг! (1999–2000 годы, межсезонье)
К осени стало понятно, что моя мечта весело гонять на мотоцикле, знать его как свои пять пальцев и ничего не бояться, не осуществляется. «Урал» был тяжелым, я не могла выкатить его из гаража, не могла развернуть руками, а если он начинал падать, то остановить его было невозможно, оставалось лишь отскакивать в сторону и стараться, чтобы не осталось синяков. Все время что-нибудь барахлило: сбивалось зажигание, подгорали контакты, нужно было каждые сто километров проверять масло, постоянно выкручивать и проверять свечи… Барахлил замок зажигания, замыкало проводку, горели предохранители… Самое интересное, что иногда я без труда определяла причину поломки. Не то, чтобы я очень понимала, в чем дело, скорее, угадывала. Однажды что-то случилось с проводкой, и все лампочки на мотоцикле стали мигать. Это случилось в Иркутске, и мне пришлось возвращаться домой без света, а повороты показывать руками. На следующий день я нашла свой мотоцикл в гараже у Дениса: Алексей пригнал его туда, чтобы отремонтировать. Ребята уже разобрали полмотоцикла, чтобы добраться до проводки.
Я критическим взглядом посмотрела на них и заявила, что они занимаются ерундой.
– Вот тут, – я ткнула пальцем в задний фонарь, – вся проблема именно тут. Тут и надо разбирать.
Алексей задумчиво посмотрел на меня, подумал, кивнул и разобрал фонарь.
Оказалось, не было «массы». Они с уважением посмотрели на меня, и стали ставить назад все, что успели снять. Наверное, думали, что я умная.
Впрочем, не всегда проблемы с мотоциклом заканчивались так быстро. Не раз и не два мы вынуждены были откатывать «Урал» подальше со стоянки, чтобы вдалеке от чужих глаз потихоньку разобраться, ну почему, почему эта синяя тварь не заводиться? Я надеялась, что со временем мы все поймем, отрегулируем мотоцикл, как надо, и все будет хорошо, но не тут-то было! Он выказывал свой норов, и вел себя непредсказуемо: то он заводился, стоило один раз топнуть по стартеру, то наотрез отказывался работать. К осени мышцы на моей правой ноге начали напоминать мускулатуру бобслеиста – я слишком часто «тренировалась», нажимая на кик. К концу сезона я поняла, что мне нужен мотоцикл полегче.
– Ты в самом деле хочешь его продать? – удивленно спросил Алексей.
Я хотела.
– Нет, ты подумай хорошенько, я не против, но ведь тебе нужно на чем-нибудь ездить.
Я хотела ездить на «Яве».
– А этот куда денем?
Я хотела продать его монголам, которые этим летом развили в Иркутской области активную деятельность, они платили хорошую цену за одиночные мотоциклы – за «Уралы»,
«Ижи» и «Восходы». На мотоциклах они гоняли по степи, охотились на сурков, шкурки которых продавали нашим шапочникам. Они скупили все мотоциклы в Иркутске, в Ангарске, и во всей ближайшей округе, и цены выросли. Я тоже не дремала – дала объявление о продаже «Урала», о покупке «Явы», с кем-то активно перезванивалась, спорила о цене, договаривалась о встрече… Наконец, я нашла подходящую «Яву», но в тот самый момент, когда нужно было сказать окончательное «да» или «нет», я вдруг посмотрела на серенький невзрачный мотоцикл и засомневалась. Я отозвала Алексея в сторону.
– Слушай, мне все кажется, что мы что-то не то делаем. Она почему-то мне не нравиться. Не знаю, почему. Какая-то она высокая, неказистая, и этот жуткий двигатель… К тому же трещина на картере, варить надо. Зимой снова придется все перебирать, переделывать… А свой я уже знаю и, по крайней мере, я на нем езжу.
– Значит, не берем?
– Нет.
– Слава Богу! Мне вообще «Ява» не нравиться. Что это за мотоцикл? Трещит, дымит…
А двигатель похож на… на отвисшие… ну, некрасивый двигатель! Надежней чем «Урал», не спорю. Но все же – «Урал» – это «Урал». Лучше давай я его переделаю, как надо, чтобы вилка работала, чтобы подвески фунциклировали. Я даже знаю, как надо сделать. Хорошо?
– Хорошо…
Осенью мы сняли грязненькую, маленькую и очень шумную однокомнатную квартирку.
Соседи сверху каждую ночь что-то сколачивали. Я шутила, что там, наверное, живут вампиры, которые по ночам изготавливают гробы для своих собратьев, а рядом жила шумная семейка с двумя пацанами-оглоедами, которые крутили музыку с утра и до прихода мамаши. Мамаша изводила нас своей стиральной машинкой, которая выла и рычала, словно голодный серый волк, и билась в стенку, словно пьяный муж в дверь.
Стирать мамаша начинала часов в одиннадцать вечера и заканчивала далеко заполночь, а после этого начинала ссориться с мужем. Я втайне надеялась, что когда-нибудь это закончится мордобоем, но дальше битых тарелок и громких воплей дело не шло. К утру просыпался кто-нибудь из детей, начинал плакать, и ссора постепенно прекращалась, чтобы начаться следующим вечером.
Для мотоциклов мы сняли гараж, в нем не было полов, в центре был забитый мусором подвал, а все углы оказались завалены досками и хламом: съеденными молью валенками, тюками верхонок, старыми насосами, лысой автомобильной резиной, пустыми бутылками и канистрами. Все это было покрыто слежавшимся слоем жирной пыли. Мы засучили рукава и навели порядок сперва в квартирке, а потом и в гараже, где мы выложили из досок пол, который застелили большим куском линолеума. Теперь можно было жить.
А жили мы бедно, – большая часть нашего бюджета уходила на оплату счетов, моих гонораров хватало только на еду, а ведь нужно было откладывать на лето, одеваться, и на запчасти для мотоциклов деньги тоже были нужны. Алексей оказался очень спокойным, уравновешенным и по житейски мудрым, и то, что мы не могли себе позволить купить, он просто делал своими руками. Так он сделал громадную двуспальную кровать, на которой можно было спать хоть вдоль, хоть поперек, ремонтировал немудреную мебель и помогал мне изворачиваться с покупками, экономя, где только было можно. Он был удивительно доброжелательным к другим людям, и мне многому пришлось у него учиться, он был по-хорошему, по-деревенски нетороплив, и все делал медленно, тщательно и на совесть. Я же всегда суетилась, нервничала, и даже такое, казалось бы, простое дело, как застелить постель, казалось мне ненужным, неважным и малозначительным – лишь бы подушек навалить. Он же любому делу, каким бы мелким оно не было, отдавался целиком и полностью: тщательно расправлял одеяла, выправлял уголки, подравнивал покрывало, раскладывал подушки.
С такой же тщательностью он делал абсолютно все: рассчитывал новые детали, ремонтировал мотоциклы или мыл посуду.
Он как-то по особенному относился к людям, и они отвечали ему взаимностью – теплотой и дружелюбием. А еще он всегда стоял двумя своими крепкими маленькими ногами на земле. Это я то и дело норовила вспорхнуть куда-то ввысь. Когда я становилась чересчур мечтательной, он безжалостно сдергивал меня с небес на землю одним вопросом:
– Ну, и где ты возьмешь для этого деньги?
– Уже и помечтать нельзя! – огрызалась я.
Мои мечты все же были полезными для нас, – я придумывала, куда мы поедем на следующий сезон, а он соображал, как сделать так, чтобы это стало реальностью.
Еще толком не научившись ездить нам мотоцикле, я заявила, что пойду вокруг Байкала с новосибирскими мототуристами, которые объявили о своем грандиозном походе еще зимой.
– Успокойся! – одернул меня Алексей. – Ездить научись, а потом иди в поход…
Угробишь мотоцикл, и все.
И я согласилась. А что мне оставалось делать? Ведь он был прав.
Моя мама, рассматривая фотографии, на которых были запечатлены все знакомые байкеры, сказала:
– Эх, Алька! Самого красивого мужика себе оторвала!
Честно говоря, я никого не отрывала, у меня осталось ощущение, что я сдалась после длительной осады. До встречи с Алексеем я была уверена: положиться можно только на себя, но Алексей разом спутал все карты, самим своим существованием словно доказывая, что мужчины, на которых можно положиться, есть. И теперь, после встречи с ним, я бралась со всей уверенностью утверждать, что феминистка – это просто та женщина, которая так и не встретила своего мужчину. Иначе от её феминизма не осталось бы ничего. Ничегошеньки! Можно злиться, кричать и уверять, что это не так, но от этого ничего не измениться. Ева была создана из ребра Адамова. Точка.
Он был идеален и в физическом отношении. У него было тело древнегреческого атлета. Он никогда не занимался спортом, – все было дано ему от природы. Я часто ловила себя на мысли – будь он на двадцать сантиметров выше, мне не видать бы его как своих ушей. Им невозможно было не любоваться – когда он спал, я смотрела на него: широкая грудь, плоский мускулистый живот с крохотной впадинкой пупка, раскинутые в стороны руки, узкие бедра, мускулистые ноги. В такие минуты мне казалось, что он может все на свете, и он напоминал мне то героя, то богатыря.
Но он просыпался, сонно чмокал губами, и я видела рядом с собой своего в доску парня, который просто хотел любить и быть любимым, которому нравилось подурачиться, подраться подушками, а еще он любил соленые огурцы с картошкой.
Этой зимой мы настолько углубились в переделку «Урала», что мне порой казалось – это никогда не закончиться. Где-то в районе городского интерната у незнакомых пацанов мы за смешную цену купили гнутую вилку от кроссового мотоцикла. Что это был за мотоцикл, так никто и не узнал. Через местных автогонщиков я вышла на токаря-умельца, который сказал, что он сумеет выправить вилку, а потом, в соответствии с чертежом Алексея, обрезать её. Два месяца я ходила за ним по пятам, прежде чем он выполнил свое обещание. Денег он с меня не взял, потому что в прошлом сам был заядлым мотогоном.
Вечерами Алексей вычерчивал траверсы для вилки. Так я обнаружила в нем еще одну удивительную и постоянно восхищающую меня черту, которой у меня не было, да и не могло быть по определению, ведь я была женщиной. Он мог посмотреть на запчасть и сразу же определить, откуда она, он в уме совершенно четко представлял, как будет выглядеть деталь, которой еще нет, какими будут её сочленения, и какие подшипники необходимо вставить, чтобы все это работало. На этой почве Алексей подружился с моей мамой, и когда мы приходили в гости, они вдвоем садились за большой письменный стол в комнате, включали настольную лампу, обкладывались со всех сторон справочниками по машиностроению и материаловедению и высчитывали градусы, диаметры и допуски. Я со школьных времен ненавидела черчение, и поэтому в круг избранных допущена не была.
А потом он разрезал раму моего мотоцикла. Я умоляла его не делать этого – ведь, по моим представлениям мотоцикл должен был быть большим. Чем больше, тем лучше.
Но Алексей улыбался и говорил, что это не так:
– Зачем он тебе нужен, большой? Ты и так его роняешь! Я сделаю тебе маленький, хорошенький мотоцикл. А раму нужно резать, чтобы вилка была под наклоном, и колесо выкатилось вперед. Ты сама все увидишь!
Но пока я ничего не видела. Я таскала тяжелую разрезанную раму по окраине Ангарска, и искала сварщика с «полуавтоматом». А потом нужно было хромировать «стаканчики» к приборам и фару от трактора «Беларусь», и я снова бегала, таская в сумке запчасти.
На Новый год Алексей подарил мне белорусский шлем. Шлем был открытым, черного цвета, с тонированным стеклом, которое опускалось и поднималось, словно забрало древнего рыцаря. А на день рождения я получила то, что хотела больше всего на свете – «рогатый» ураловский заводской руль: он сиял хромом, а я сияла от радости. После этого подарка мне пришлось ехать в Иркутск за тросиками от мотороллера «Муравей», которые подходили по длине, но разве это могло испортить впечатления от подарка? А еще он купил мне бесконтактное зажигание – после его установки проблемы с запуском двигателя исчезли.
Мы намучились, собирая мотоцикл – в самый последний момент сборки оказывалось, что какая-то крохотная деталька теперь не подходит, и её нужно переделывать, что нужно что-то удлинять, а что-то укорачивать, что-то перетачивать. Мы все делали в первый раз, и меня не удивляло, что нас преследуют неудачи. Пусть недостатки выявятся в гараже, чем где-нибудь на трассе. И все-таки мы немного «накосячили», как выразился Алексей. На переднее колесо мы решили установить хромированное крыло от японского мотоцикла, которое нам уступил запасливый Денис. Алексей изготовил специальные кронштейны, а потом сносил куда-то вилку, и ему приварили кронштейны к вилке. Да как! На совесть! От высокой температуры металл в районе шва повело, и вилка перестала работать. Пришлось применить развертку, потом промывать вилку, удаляя алюминиевую стружку. Вилка снова заработала, но уже хуже.
Первые же испытания показали – при сильном сжатии направляющую закусывало, и вилка складывалась и не работала.
– Зато как я обточил сам шов! – оправдывался Алексей, – Смотри, как заводской!
Переделывать было некогда, по улицам с ревом мотоциклов катилась весна, теплый день обгонял другой, еще более теплый день, и нам стало невмоготу. Этот нестерпимый зуд можно было снять только одним способом – сесть на мотоциклы.
Остальное доделаем на ходу. Как я выяснила намного позже, этот принцип был ошибочным, потому что никто и никогда не будет переделывать мотоцикл в середине сезона. Ведь сезон и так короткий – всего-то четыре месяца! Так что если в начале весны в мотоцикле есть недостаток, исправлять надо сразу, потом будет некогда!
Когда мы собрали мотоцикл, я сразу поняла, чего так долго добивался Алексей.
Мотоцикл стал короче, выше, ажурное тоненькое колесо от какого-то старого «Ижа» выкатилось вперед, мотоцикл сиял лаковой синей поверхностью бака и голубовато отсверкивал всеми хромированными и полированными деталями. Он прекрасно ложился в поворот, заводился «с полпинка», и, главное, подвески работали намного лучше.
Правда, он чуть-чуть потерял в скорости, и мне было трудно управлять на первой передаче, тут надо было привыкать. Так я стала счастливой владелицей единственного на весь Ангарск тюнингованного «Урала». Я была счастлива, не больше и не меньше.
Срамная (2002 год, 28 июня)
Ближе к утру по тенту палатки начинает барабанить дождь.
– Лёш… – мне не хочется даже шевелиться, не то что вылазить из палатки, все тело продолжает спать, мысли текут медленно, как здешний тягучий туман. – Дождь…
Он не хуже меня понимает, что это значит. Если Срамная поднимется, нам не выбраться. Только пешком, без мотоциклов. Но мотоциклы мы ни за что не бросим.
Разве что их у нас вырвут силой.
– Я понял… – еще сонно отвечает он и выбирается наружу – будить всех.
Через тридцать минут вещи собраны, мотоциклы прогреты. Время – четыре сорок пять утра. Наш маленький караван форсирует реку и движется дальше, на север.
Потом мы берем приступом еще одну реку, а потом еще… Через час ломается мотоцикл Мецкевича, – кажется, вышло из строя зажигание. Это картина Репина: семеро ждут одного. Это ведь не я, его, оказывается, можно и подождать. И мы ждем, ждем, ждем… Черт! Если бы он не варил кашу, а лучше смотрел за мотоциклом, этого не случилось бы. Но он плохой механик. Он слишком скуп, чтобы быть хорошим механиком. Кругом заросли ивы, со своего места я вижу только кусты, ближайший поворот дороги, и все. Я никак не могу понять, почему нельзя отправить кого-нибудь вперед на разведку. Если жалко бензина, можно было бы сходить пешком, я согласна пойти, но только не одна. Вдруг, за этим поворотом снова река? Тогда можно было бы переправиться через неё, пока Мецкевич ремонтируется.
Но я молчу. После вчерашнего мне уже все равно. Мы теряем час, и двигаемся вперед только для того, чтобы сразу остановиться, – через триста метров брод. Да что ж ты делаешь, Будаев, ну, неужели ты совсем ничего не понимаешь? Неужели нельзя всё хоть как-то организовать? Я в молчаливом бешенстве. Мы с Алексеем снова штурмуем реку. Отчего-то следом никто не переправляется. Снова заминка. На этот раз виновник задержки Женька Королев, – у него замкнуло проводку, и сгорели все предохранители. Меня оставляют одну. Плевать. Я заваливаюсь на тент коляски и засыпаю. Если бы мне кто сказал, что я смогу уснуть вот так, на дороге, в неизвестном месте, в проволглой одежде, лежа на неудобном мотоцикле, не поверила бы, но я сплю и даже вижу сон…
Через полчаса появляется Юрка. Он, посвистывая, с независимым видом осматривает окрестности и залазит спать в заросли стланника-кедрача. Скальник здесь покрыт толстым слоем беловатого сухого ягеля, сквозь который пробиваются махровые, короткие ветки кедра. Они похожи на ершики, – матово-зеленая, длинная, мягкая на ощупь хвоя покрыта каплями росы, на каждой ветке – по неспелой, душистой, смолистой, чешуйчатой лиловой шишке. Если чешуйку отломить, то становится видна соблазнительная, кремово-желтая, как сливки, начинка, в сырой пористости которой прячутся совсем еще крохотные молочные орешки. Они нежного, бледно-золотистого цвета, а пахнут так, что с голодухи становится дурно. На вкус они и вязкие, и нежные одновременно, рот моментально наполняется слюной, в животе урчит. Чтобы утолить голод, нужно, наверно, съесть не один и даже не два десятка шишек.
Прозрачная, пахучая, яркая, как мед, смола намертво склеивает пальцы, прилипает к одежде, к волосам, шишки наполовину пустые, иногда уже обгрызенные белками.
Наесться ими невозможно. Юрка заваливается в самую середину стланника и через мгновение полностью скрывается с глаз. Вот это маскировка! Шишка выпадает из моей руки, и я снова засыпаю.
– Нечего тут валяться! – слышу я голос Алексея. – Скипяти чаю.
Я поднимаюсь, Алексей тащит со склона горы небольшую валежину. Да, как говорит Алексей, «надо внести свою лепту». Я шарю в кустах и вытаскиваю на дорогу охапку хворосту. Складываю шалашик и разжигаю костер. Когда все переправляются на эту сторону, каждому достается по кружке крепкого чаю, сдобренного приторно-сладкой сгущенкой.
Когда сознание обострено до предела, происходят странные вещи. Можете мне верить, а можете посмеяться, но в тот самый момент, когда все двинулись дальше, я слышу странный звук, словно где-то рядом взлетает реактивный самолет. Этот звук даже словно бьет в лицо, ветерком проносится по ближайшим кустам и уходит куда-то ввысь. Я недоуменно оглядываюсь. И вдруг где-то высоко на склоне горы я вижу Его.
Что-то большое, черное стоит и смотрит на нас. Оно похоже одновременно и на вставшего на задние лапы медведя, и на обгорелый остов громадного, очень толстого дерева. Я до сих пор не уверена, что вообще видела что-то. Рассмотреть как следует мешали ветки ивы. Быть может, это было только мое воображение. В этот момент мотоцикл дергается, я хватаюсь за ремешок, оглядываюсь и успеваю заметить, как листва разросшейся ивы полностью скрывает от меня склон горы.
Когда мы объезжаем иву, обзор загораживают заросли смородины.
Во время очередной остановки я спрашиваю Будаева, слышал ли он что-нибудь, но он только отрицательно качает головой.
– Не-а, не слышал.
– Я слышал! – говорит подошедший Юрка, – звук такой странный, как будто что-то большое рядом проехало. А больше никто не слышал, я уже спрашивал.
Значит, не померещилось?
Мы едем и едем, и едем. А вот в далекие края или не так далеко, я не знаю. Это от меня не зависит. Нам то и дело встречаются пирамидки. Они очень старые, облезшие, от некоторых остался лишь остов. Кто похоронен здесь? Или это – просто память о ком-то? Снова остановка. Я осматриваюсь, – справа кусты, что за ними – не видно, а слева начинается и уходит вверх крутой склон темной, поросшей лесом горы. Лиственница, лиственница и еще раз лиственница. Разная по высоте, одинаково черная, одинаково жесткая и одинаково мрачная. Это – не дерево, это – словно воплотившиеся души сгинувших здесь до войны людей. Это – немой крик, пробившийся сквозь струпья вечной мерзлоты. На неё даже смотреть – больно.
Словно вырвавшиеся сквозь зеленую траву забвения измозоленные, черные руки тех, кто строил, но так и не достроил эту проклятую дорогу. Зачем они сгинули? За что?
За какую идею, за какого человека? Быть может, кто-то стал счастливее после их смерти? Нет. Страна получила уголь и железо для борьбы с врагом? Нет. Вся дорога, всё, что было построено на трупах этих людей, их трудами, их жизнями, всё – и мосты, и насыпи, всё смыто бурными, нетерпеливыми паводками трудных северных рек.
Всё – зря. Всё – прахом. Теперь по остаткам дороги дальнобойщики возят картошку и стройматериалы, – напрямик дешевле. Да еще едем мы…
– Все, это – Срамная! Слазь! – коротко говорит подошедший Алексей.
– Что будем делать? – спрашиваю я, после того, как они совещаются.
Я выхожу вперед и вижу широкую, заполненную огромными валунами ложбину. На меня обрушивается рев реки, – она накатывает откуда-то справа, сверху. Она вгрызается в каменистую землю всей своей колючей массой. Она рыдает, убегая прочь и перебирая четки каменных бусин. Она похожа на индийскую богиню Кали, – кажется, у той было ожерелье из человеческих голов. Она раздваивается, растроивается, неистово, как голодный вурдалак, обгладывает скудную землю между корней берез и осин, растущих на чудом уцелевших островках. Её русло – всего двадцать километров в длину, она прибывает стремительно, и горе тому дальнобойщику, который замешкался и не успел преодолеть два, – всего-то два! – два километра несуществующей дороги, идущей по её страшному, изрытому ложу.

– Что мы будем делать? – меня начинает колотить дрожь, я четко помню, что написано в маршрутной книжке, в графе «специальные указания»: «Если на Срамной есть вода, ждать дальнобойщиков и переезжать с ними».
Река унесла много жизней. Очень много. Её называют не только Срамной, еще её называют Стремной. Я не могу остановиться, не могу унять дрожь, потому что мне впервые за весь маршрут становится по-настоящему страшно. Нам не пройти здесь, не пройти, я это знаю точно. Рев реки отражается от крутого, осыпающегося обрыва, эхом отдается у меня в голове, я даже не слышу, что мне отвечает Алексей, хотя он стоит рядом.
Он наклоняется ко мне.
– Мы будем штурмовать.
У меня холодеют руки.
– Это невозможно. Алеша! Лёш… Надо сходить на разведку, мы же не знаем, что дальше? А если дальше – хуже?
Он устал и не спорит. Как же он сильно устал! Он отводит глаза. Даже чувство опасности притупилось.
– Будаев сказал, и все пойдут.
– Скажи им… скажи им, что нельзя так делать, А если… Если что-нибудь случится… – я прикусываю язык.
– Я уже говорил, они не слушают. Мы потащим мотоциклы.
Я в отчаянии. Все бесполезно, эти горе-таёжники привыкли рвать жилы, они рассчитывают свои силы только на час-два, и совсем не думают о том, что будет дальше. В этом виновата привычка делать «набеги» в тайгу – на один-два, максимум, три дня. Приехал, надрал ягод или шишки и по-быстрому свалил домой. Два-три дня можно ночевать под полиэтиленом, можно обходиться без сменной одежды и даже без туристических ковриков, – можно устроить отличную постель из лапника. Здесь лапника нет, а работать приходится вот уже семнадцатый день. А сколько их, таких дней, еще впереди? Два? Три? Десять?
Я стискиваю зубы. Меня слушать никто не будет, поэтому мне остается только одно – подчиняться.
– Потащили! – командует Алексей, и я послушно берусь за руль одиночки.
Над нами стоит неумолчный гул реки, за ним не слышно ни нашей ругани, ни скрежета металла о валуны. Мы катим, а чаще тащим мотоцикл по крутому каменному костолому, местами Алексей даже едет на нем.
Здесь сухо, вода сюда приходит только в паводок. Неукротимый поток трудолюбиво натаскал громадных, серых, с желтыми прожилками, валунов. Один такой валун по массе равен двум, а то и трем мотоциклам. Мы стараемся обходить большие камни, выбираем место поровнее, но выбор невелик: между местом, где навалены большие каменюки и местом, где навалены каменюки еще крупнее. «Урал» падает, мы ставим его вертикально, он снова падает, отбивая мне пальцы. Замерзшим рукам больно, словно их жгут раскаленным прутом, но я молчу, только стискиваю зубы. У заросшего, черного от беспощадного солнца Алексея глаза становятся совсем белыми.
Он коситься назад, – остальные не медлят, они, словно мураши, облепили мотоцикл Женьки Королева и тащат его следом. Через сорок метров мы вступаем в воду, – она едва скрывает ступню резинового сапога, а течения здесь вовсе нет, – слишком далеко от основного русла. Вода тихонько струится меж камней, покрывая их желтоватым осклизлым налетом. Я пробую её и тут же отдергиваю руку, – такая она студеная, наверное, где-то рядом ледники или снежники. Мы протаскиваем еще пять, нет, десять метров и намертво засаживаем «Урал» между камнями. Мы не можем его сдвинуть ни вперед, ни назад. Всё. Приехали, надо ждать остальных.
– Сиди здесь! – сердито бросает мне Алексей, он бегом бежит помогать Женьке.
Я вытираю пот и остаюсь на месте. Я больше не могу ходить. И даже стоять… Я бессильно осматриваю окрестности, – кругом только холодные камни, даже топляка нет, сесть не на что. Алексей подбегает к ребятам, о чем-то с ними говорит, а потом бежит к своему «Уралу» с коляской.
Если он поедет на своем, это надолго. Я прислушиваюсь к реву реки. Даже мне слышно, – река прибывает, крохотные ручейки, снующие между камнями, становятся шире и глубже прямо на глазах, хлопают по воде низкие ветви черемух, да и сама река грохочет с каждой минутой все сильнее.
Я смотрю вниз, – ниже протока наполняется желтоватой водой, дно реки темнеет, вода бьется о каменные глыбы, скатившиеся с обрыва, рассыпается на тысячи вскипающих струй и, взбешенная таким неласковым приемом, уносится вдаль, за поворот. Похоже, здесь самое глубокое место, нам придется взять выше, правее, вон туда, где поваленный кедр, там начинается средняя протока. Она посуше, и местами виднеется след от грузовиков, – тяжелые фуры продавили в камне подобие колеи…
Вместо того, чтобы ждать, я лезу вверх по обрыву, на гору, останавливаюсь на середине осыпающегося черного склона, здесь можно сесть на холодную, как глыба льда, плоскую плиту, покрытую оспинами черного лишайника. У меня подгинаются колени, и я сажусь на неё, но ненадолго, – от холода немеет тело. Отсюда хорошо просматривается вторая протока, она отделена от ближней заросшим островом. За ней темнеет бурелом следующего острова, края его подмыты, в протоку свешиваются сваленные водой стволы, свежая листва колотится в потоке. За просветами меж деревьев угадывается еще одна протока, там, словно в истерике, бьется и ревмя-ревет Срамная. Я безнадежно смотрю на небо. Дождь то припускает, то останавливается, словно раздумывая – дать непутевым мотоциклистам шанс вырваться на свободу, или не дать? Там, за Срамной, еще десять километров неизвестной дороги до поселка Кумора. Всего десять километров. И все. Только десять. И – нормальная трасса. И мы можем быть свободными.
Внизу появляется Алексей, и я спускаюсь. В руке у Алексея большой котелок, чайник и вещмешок.
– Сваришь обед, – не допускающим возражения тоном говорит Алексей и протягивает мне вещмешок, – тут тушенка, кило вермишели, соль.
– Где? – я беспомощно оборачиваюсь, ища глазами безопасное место.
Его здесь нет. Лезть наверх? Куда?
– Да вон, пойдем на остров, – Алексей кивает куда-то вниз, отдает мне чайник.
Я иду следом. Стоит нам отойти несколько шагов от берега, как на нас со всех сторон наваливается неугомонный, назойливый, как звук шаманского бубна, грохот реки. Он проникает в уши, в тело, в голову. Бум-бум…бум-бум… бум-бум…От этого первобытного грохота меня начинает трясти, ноги подкашиваются. Я боюсь, я не могу справиться с приступом этого панического, животного страха. Какой, на фиг, остров? Куда я денусь с этого острова, если река внезапно прибудет? Здесь даже деревьев, на которые можно залезть, нет. Вон, вон, что это лежит? Остов машины…
И вот еще – ступицы от колес… Они насквозь проржавевшие, красные, словно кровь…
Я не могу больше… Не могу. Не могу! Господи! – молю я, – Господи, если ты есть, если ты слышишь меня, если тебе не все равно, что происходит с нами, Господи…
Сделай так, чтобы все, все мы, целыми и невредимыми вышли отсюда. Слышишь, Господи? И тогда я – приму крещение, Господи. До этого – не получалось, отвращало, не нужно было… Но – сделаю, Господи. Даю обет. Только – чтобы все! Не остави нас всех, Господи. Не остави…Чтобы целыми и здоровыми…
Я начинаю говорить и не могу остановиться, я никогда еще не говорила таким тоном и так сбивчиво.
– Лёша, Лешенька, Алеша… Лешка, выведи меня отсюда куда-нибудь, пожалуйста, выведи… Я тебя очень прошу…
Я не хочу сидеть на берегу в одиночестве, но на реке еще страшнее.
– Куда? – спрашивает Алексей, и я по голосу слышу, что он чувствует то же, что и я. Он вопросительно смотрит на меня. – Вниз?
Мне кажется, или в его голосе слышится надежда? Я согласно киваю головой и гляжу на ревущую реку, на камни под ногами, на измятые остовы машин. Вниз? Это выход.
По крайней мере, мы увидим, можно ли вообще пройти до конца Срамной.
Алексей идет по течению, сворачивает на среднюю протоку, я едва поспеваю за ним, оскальзываясь на камнях и спотыкаясь. Я то и дело оборачиваюсь, гляжу вокруг широко раскрытыми глазами. Такой глухомани я еще никогда не видела.
Замшелые стволы лиственниц свешиваются над рекой, тоненькие березки в сумраке дождя трепещут листвой под его каплями, изодранные клочья тумана, словно живые, сжимают в ледяных объятьях разросшиеся кусты. Мы спускаемся вниз, все ниже и ниже, но почему-то возникает ощущение, что лезем в гору, – приходится перелазить через стволы, валуны и размытые островки земли. Да, здесь можно проехать, но на это уйдет много, очень много сил. Можно было бы выложить из камней путь, выложить один раз, и все проехали бы. Но Будаев не такой. Он не будет этого делать. Они потащат мотоциклы так, а, значит, потащат на себе. Я проваливаюсь куда-то вниз, хватаюсь за скользкий камень, встаю. Мне на короткое время становится жарко, – я в костюме химзащиты, а она совсем не дышит, резина как-никак.
Но и замерзнуть в ней можно только в том случае, если одежда промокнет от пота, и будешь долгое время сидеть неподвижно.
Два километра мы идем долго. Наверное, потому, что слишком ослабли от усталости и недоедания. У меня снова сильно болит голова, наверно, температура. Лишь бы меня не покусал клещ, остальное – ерунда. Я на ходу нахожу в бездонных карманах кителя таблетку анальгина и таблетку антибиотика. Сую их в рот, наклоняюсь, зачерпываю ладонью воду, запиваю. От холода ломит лоб. Может, станет легче?
Мое сердце вдруг радостно вздрагивает, – наконец, левая протока соединяется со средней, еле видная колея пересекает довольно глубокую воду и выходит на вновь появившийся пологий берег. Мы осторожно перебредаем через бурную воду. Я вздыхаю с некоторым облегчением.








