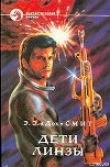Текст книги "Дети Шини (СИ)"
Автор книги: Мартин Ида
Жанр:
Разное
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Поэтому когда я пыталась цепляться за поручень, то получалось очень смешно, и Герасимов, в своей гранитно-серой куртке, возвышающийся слева от меня, точно скала, с каменным выражением лица заметил, что один мальчик, мечтая стать повыше, висел на турнике каждый день по три часа. Выше он не стал, зато через полгода мог почесать коленки, не нагибаясь. И что ему, Герасимову, интересно будет посмотреть на меня, когда мы доберемся до места.
На шутки по поводу роста я уже давно не реагировала, но узнать, что Герасимов иногда даже пытается шутить, было забавно, о чем я ему тут же и сообщила.
Тогда Амелин услужливо подставил локоть, но я предпочла нелепо болтаться целую остановку, потому что если я маленькая, то это не значит, что беспомощная. Однако от предложенного наушника не отказалась и, хотя его музыкальная подборка не отличалась позитивом, но это было лучше, чем слушать невнятный многоголосый человеческий гул.
И стоило нам перестать суетиться и куда-то бежать, в голове тут же вспыхнула красная предупреждающая лампочка: не совершаю ли я ошибку, не поступаю ли глупо и несправедливо по отношению к моим родителям? В конце концов, я даже не знаю, как бы они отреагировали всю эту историю с Кристиной, расскажи я им сама. Хотелось думать, что они всё же встали бы на мою сторону, но у них было столько своих проблем. В своё оправдание я сказала себе, что оставила им записку аж на двух тетрадных страницах. Мои родители молодые и в какой-то степени современные, они должны понять. И потом, я пообещала вернуться сразу, как только всё это закончится. Да и с их напряженным графиком они, возможно, и заметить не успеют, что меня нет.
– Любишь Пласов? – расслабленный голос Амелина неожиданно выдернул меня из раздумья.
Я прислушалась. « Protect me from what I want» – трагично стонал Брайн Молко.
– Нет, – сказала я просто из вредности. – Занудная слезодавилка для мазохистов и любящих всплакнуть девчонок.
На самом деле, было время, когда я их слушала, и я ещё много чего слушала, и мне много чего нравилось, но музыка – вещь очень личная, и если рассказывать всем подряд о своих вкусовых предпочтениях, то это почти, как позволить залезть к тебе в голову, а то может и глубже.
– А ты типа не плачешь?
Он иронично улыбнулся и наклонился ближе, чтобы лучше расслышать ответ, отчего вьющаяся мелированая челка занавесила пол-лица.
– Не плачу, – ответила я довольно твердо. – Слёзы – признак распущенности и слабости.
Это было почти правдой, но злило то, что он ещё и с этим полез. Как будто людям своих проблем не хватает.
– Неужели ты так легко со всем справляешься? Неужели не бывает просто необъяснимо тоскливо на душе?
За волосами глаз почти не было видно, а по то ли насмешливой, то ли печальной улыбочке, понять к чему он клонит было невозможно.
– Я уже говорила, что мне эти ваши беспричинные, надуманные терзания не близки. И перестань докапываться! Я слушаю «лабутены», «мертвые найки», и мне на всё плевать.
– Хорошо, – послушно согласился он и выпрямился.
Отвернулся, посмотрел на Герасимова, в окно, достал из кармана плеер, покрутил в руках, снова положил обратно, потом всё же не выдержал:
– Никогда не поверю, чтобы девушка ни разу не плакала под музыку.
– Конечно, плакала. Когда мне было шесть, и я слушала Максим. А потом выросла и с тех пор, подобная фигня меня не трогает.
– Максим? – на этот раз его губы медленно расползлись в обычной веселой улыбке. – Там есть над чем плакать?
– Конечно, – не моргнув и глазом, заявила я. – Вот, послушай.
"Когда я умру – я стану ветром
И буду жить над твоей крышей
Когда ты умрёшь, ты станешь солнцем
И всё равно меня будешь выше".
Я охотно процитировала песенку связанную, между прочим, с приятными детскими воспоминаниями. Тогда меня ещё папа в детский сад на машине возил, и её крутили по радио почти в одно и то же время. Я обязательно должна была дождаться этой песни и только потом вылезала из машины. А когда её вдруг крутить перестали, папа специально купил мне диск «для сада».
– Чем не Placebo?
– В твоём плейлисте нет ни Максим, ни лабутенов, ни Скр-Скр.
– Ты копался в моём плейлисте?
– Музыка – лучший способ понять человека.
Именно то, чего я и боялась. Жалкие и нелепые попытки чужих людей «понять». Выспросить всё, войти в доверие, разнюхать, а потом посмеяться, облить грязью или сделать какую-нибудь гадость, отлично зная про все слабые места – вот что обычно называют словом «понять».
– И что же ты там нашел?
– Ну, помимо всего прочего, Аве Марию Каччини и Нюркину песню.
– Это что-то значит?
– Что ты умная и грустная.
Я хотела было возмутиться, что нечего на меня навешивать свои унизительные ярлыки, и я не какая-нибудь эмо-гёрл, но тут, прибывающий на станцию поезд внезапно затормозил и мы, вместе с подпирающей толпой, резко дернулись назад, а затем беспомощно улетели вперед, прямо на Герасимова.
К счастью, на станции вышло полно народу и освободилось много мест. Причем Герасимов сразу же занял крайнее место, натянул бейсболку на глаза, но перед тем, как он скрестил руки на животе и погрузился в сон, я успела заметить у него на лице под глазом лиловый синяк. Видимо, это его он так усиленно скрывал под козырьком. А мы вдвоем сели напротив и под «Gate 21» тоже мгновенно вырубились, даже не пытаясь возобновить разговор.
Проснулась я от громких голосов, открыла глаза и увидела странную картину: Герасимов переместился к окну, а на месте пожилой пары, широко рассевшись, разместилась маленькая кругленькая старушка, закутанная в черный, плотно облегающий лоб, точно у монашки, черный платок. Широкое простое платье тоже было черным, а поверх этого скромного, традиционного наряда на ней красовалась ярко-розовая шуба из длинного искусственного меха, изрядно поношенная, но по-прежнему ослепительно вульгарная. Под мышкой – черная лакированная сумочка.
Старушка сидела так глубоко на сидении, что её короткие ноги в черных, с серыми отворотами валенках, до пола не доставали и забавно болтались в воздухе, точно у ребенка. Она громко и непрерывно разговаривала сама с собой. Будто где-то внутри неё разгорелся оживленный спор, и ей приходилось всё время отвечать кому-то невидимому и настырному. Её очень светлые, выцветшие глаза рассеянно бегали из стороны в сторону, не останавливаясь и не сосредотачиваясь ни на чем, а испещрённый морщинами лоб, как и густо напомаженные пурпурные губы, очень подвижно реагировал на каждую эмоцию.
Старушка явно была ненормальная и Герасимов, тоже проснувшись, косо и обеспокоенно поглядывал на неё. Но затем, она вдруг развернулась к нему и, перехватив взгляд, очень ясно и будто бы даже разумно уставилась в ответ.
– Некого винить. При бегстве держи хвост поджатым.
С привычным для него безразличием в голосе Герасимов лишь ответил «я вас понял», и отвернулся, показывая, что дальше разговаривать, не намерен. Но старушка явно не хотела успокаиваться. Протянула тощую руку с неожиданно обнаружившимся на ней перламутровым маникюром и принялась трясти его за рукав.
Даже люди на соседней лавке заинтересовались и начали выглядывать. Но, чтобы вывести из себя Герасимова, нужно было очень постараться.
– Ну, что? – спросил он с тяжелым вздохом и долгим "о", как я обычно говорю маме, когда она особенно настырно повторяет одно и то же.
– Кони тянут в разные стороны! А разделение – есть освобождение, – выдала она порцию очередной бессмыслицы.
И, заметив, что я проснулась, Герасимов послал мне такой страдальческий взгляд, что я едва удержалась от смеха.
– Я всё сделаю, – пообещал он сумасшедшей.
– Мне ничего не надо, я только желаю добра. Просто я слышу. И я знаю, имеет смысл или нет. Ветер уже поднялся.
В подтверждение своих слов, старушка часто и убедительно кивала головой, а затем резко посмотрела на меня, и я, страстно желая ускользнуть от этого взгляда, невольно сползла вниз по сидению. Но это не помогло.
– Твой же выход – дышать глубоко, – белесые глаза выражали участие и заботу. – И не потерять свое сердце, поедая чужое. Опоздаешь – будет раскаяние.
И тут, у себя на локте я почувствовала легкое пожатие, это Амелин, дремавший на моём плече, подал сигнал, что тоже проснулся. Потёр ладонями лицо, пытаясь отойти от сна, а когда убрал руки, то старушка, вскинулась, словно потревоженная птица и переключилась на него. Однако говорить ничего не стала, а лишь протяжно и нечленораздельно замычала, точно у неё совсем не было языка.
Амелин сначала аж подскочил на лавке, а потом, что было силы, вжался в неё, натянул на лицо капюшон, схватил меня под руку и торопливо зашептал:
– Спрячь меня, пожалуйста!
– Слезы до крови – сплошным потоком. Одинокий промокает. Вот что, – у сумасшедшей снова прорезался голос.
Не знаю, как Амелину, а у меня от этой сцены мурашки по коже побежали.
Старушка задумчиво поджала губы и уставилась в окошко. Мы тоже молчали, опасаясь, что она, не дай бог, ещё что-то скажет или сделает.
Но как раз в этот момент в вагон вошел немолодой лысоватый мужчина в ярко-голубом жилете контролера и крест-накрест сверху вниз опоясанный ремнями. С одного бока электронный кассовый аппарат, с другого – небольшая прямоугольная сумочка, для сбора денег.
Контролер шел по проходу и проверял билеты, а когда поравнялся с нашим сидением, лишь мельком взглянул на билетики, которые я ему показывала, и сразу переключился на старушку:
– Опять ты? Ну, сколько раз тебе говорить, что я не позволю тебе тут на халяву кататься. Поезжай на Курский, живи там.
Но та лишь горделиво вскинула голову и продолжила глядеть в окно, точно и не слышала вовсе.
– Эй, чума, – позвал контролер. – А ну, пошли. Выметайся. Через две минуты к станции подъедем. Ссажу тебя.
Но старушка и бровью не повела, как сидела с лицом, выражающим оскорбленное достоинство, так и осталась сидеть. Не выдержав подобного пренебрежения, контролер сделал шаг вперед, схватил за розовый меховой локоть и рывком сдернул с сидения.
Вот, тогда-то она заголосила громко, испуганно и жалобно, о том, что сын наказал ей ни в коем случае домой не возвращаться, а ездить по всей стране и нести правду в народ.
– Сто раз слышал, – проворчал контролер, с усилием вытягивая её в проход.
Тогда она раскрыла свою лакированную сумку, резким движением выхватила оттуда стопку порванных прямоугольными кусками газет и, с криком: "Это речь моего сына. Это речь моего сына. Вчера судили политических, он был среди них", принялась разбрасывать их вокруг себя.
Мы смотрели на всю эту комичную и одновременно неприятную сцену с разинутыми ртами и широко распахнутыми глазами. Неожиданно Герасимов встал и, осторожно подергав кондуктора сзади за жилет, тихим, конспиративным голосом спросил:
– Почем билет?
– А тебе куда?
– До конца.
– Двести тридцать девять рублей и сто рублей сбор. Короче, триста сорок рублей, – подытожил контролер.
Герасимов сосредоточенно поковырялся в кармане, отсчитал три сотки и сорок рублей мелочью.
– Пусть едет, – он кивком головы указал на притихшую и вполне осознанно наблюдавшую за его манипуляциями старушку, а затем вернулся на своё место, надвинул бейсболку на глаза, скрестил на животе руки и снова отгородился от всех.
Контролер недоуменно пожал плечами, сложил деньги в сумку на животе и после каких-то манипуляций с электронным аппаратиком, вручил сумасшедшей её билетик. Ещё раз бросил настороженный взгляд на Герасимова, точно заподозрив и его в сумасшествии, и двинулся дальше по проходу.
Мы осторожно поглядывали на старушку, она будто бы тоже пребывала в некотором замешательстве. А затем, решительно застегнув сумку, мелкими шажками подошла к Герасимову, приподняла ему бейсболку и неожиданно поцеловала в лоб. От чего Герасимов моментально вскочил на ноги так, что чуть было, не повалил её на нас.
– Береги себя! – сказала она и горделиво отправилась вслед за контролером.
Глупо моргая, Герасимов ещё немного постоял, приходя в себя, как после пережитого стресса, а затем с облегченным вздохом свалился на сидение. Прямо посреди лба у него красовался ярко-пурпурный отпечаток губной помады, и мы с Амелиным, не удержавшись, одновременно зашлись в диком истерическом хохоте.
==========
Глава 9 ==========
За городом оказалось гораздо холоднее. К тому же небо окончательно затянуло бледно-серыми тучами, и поднялся порывистый ветер. Мы вышли на перрон и, когда громыхающий поезд мерно покачиваясь, умчался в мутную даль, оказалось, что кроме нас вокруг больше нет ни одного человека.
По другую сторону от железнодорожных путей простиралось снежное поле: сумрачно-белая бесконечная простыня, сливающаяся с пасмурным тоскливым небом в невнятное единое ничто, без верха и низа.
Местный магазинчик больше напоминал разбитую и выброшенную на пустынный берег лодку, обстановка внутри была столь же безрадостной. Один прилавок с малюсенькой морозилкой, где вперемешку были накиданы: желтые курицы, вишневые куски мяса в вакуумной упаковке, пельмени, готовые котлеты, мороженое. Обрадованный нашим появлением продавец то ли киргиз, то ли узбек начал настойчиво предлагать изюм, орехи и курагу из больших грязных мешков под прилавком. Но мы и сами не знали, что нам нужно, поэтому опять начались разногласия и препирания. И спорили мы минут десять, до тех пор, пока все парни кроме Якушина не вышли на улицу.
В итоге, взяли два килограмма странной мягкой картошки, три батона белого хлеба, колбасу, две замороженные курицы, три пачки пельменей, макароны, сыр, пакет гречки, риса, консервные банки с лососем и тушенкой, сосиски, чай, семь сникерсов, три двухлитровые колы, молоко, кофе, арахис, чипсы, сухарики и бутылку коньяка.
Причем из-за последнего у Сёминой с Якушиным разгорелась нешуточная ссора. Настя сказала, что если они будут пить алкоголь, то она никуда не пойдет. На что Якушин сначала отшучивался, мол, на её долю тоже хватит, но она упёрлась, как баран, и неожиданно раскричалась на весь магазин, угрожая продавцу полицией, если он продаст Якушину что-нибудь хоть на градус крепче колы. То, что Сёмина умеет так верещать, оказалось полнейшим сюрпризом. В итоге, коньяк нам не продали, и Якушин, обозвав Сёмину малолеткой и дурой, потребовал, чтобы она ехала обратно в Москву.
Когда же мы вышли на улицу, остальные парни, кроме Амелина, который сказал, что идеологически поддерживает позицию Сёминой, тоже начали ругаться на неё так, что довели до слез, и мне пришлось вступиться.
Хотя, по правде говоря, я считаю, что в нашей ситуации было всё равно кто и что собирается делать. Ведь, каждый сам за себя, к тому же мы сбежали из дома, а это значит – никаких поучений, запретов или принуждения.
Но постепенно все успокоились и пошли в деревню через густой мрачный хвойный лес.
В лесу было безветренно и пронзительно тихо, только где-то в глубине страшно поскрипывали замерзшие деревья. И, если бы не жизнерадостная болтовня Петрова, умудряющегося в одной рукой нести пакеты с продуктами, а другой снимать всё вокруг, то было бы, пожалуй, даже жутковато. Но он, воодушевленный дикой природой, бегал, как счастливый пёс на прогулке, и, то обгонял всех, увидев на ветке какую-то птицу, то заглядывал под ёлки, чтобы собирать шишки, то сходил с тропинки и лез по снегу, чтобы художественно запечатлеть уродливо искривленные стволы деревьев.
Семина, вся заплаканная, с черными подтёками под глазами, кое-как волоча свою сумку, обиженно плелась самая последняя и выглядела убийственно несчастной. Даже со мной разговаривать не хотела. Но когда с неба посыпался мелкий, колючий снег, мы все стали не менее грустными и несчастными. Особенно Амелин, который в своём лёгком коротком пальто и кедах, дрожал как осенний лист. Однако, когда я бросала на него вопросительные взгляды то, в ответ он растягивал посиневшие губы в извиняющейся улыбке и кивал, дескать, "всё хорошо". Но всё равно было понятно, что нехорошо. Так что в один момент даже пришлось взять его за руку и потащить за собой. Сначала он вроде бы обрадовался и сказал "спасибо", но потом принялся ёрничать, что его никто никогда не водил вот так за руку, и тогда я решила вообще больше никому не помогать.
Снег усиливался, и вскоре вместо мелких острых снежинок, повалили крупные липкие хлопья, так что ребята, идущие всего в нескольких шагах впереди, маячили лишь тёмными бесформенными силуэтами. А когда я в очередной раз обернулась, посмотреть на Сёмину, то неожиданно оказалось, что сзади её нет. Пришлось вернуться.
Настя сидела, неудобно скрючившись на своей сумке. Её плечи, изгибы рук, колени уже прилично замело.
– Обалдела? – закричала я на неё, и мой голос тут же был поглощен снежной звуконепроницаемой стеной.
– Я устала. У меня никаких сил уже нет, – захныкала Настя, выглядывая из-под ушастой шапки. Косметика на глазах размазалась ещё больше. – Всё было плохо, а стало ещё хуже. Лучше пусть я здесь замерзну и умру, пусть меня напрочь занесет снегом.
– Перестань. Всем тяжело. Я же вот иду.
–Ты, Тоня – сильная. А я нет. Ты можешь себя заставить, а мне всё очень-очень тяжело дается.
– Быстро вставай, а то у меня тоже скоро не останется никаких сил с тобой возиться, – я попыталась её приподнять, но она даже усилие не сделала, чтобы мне в этом помочь.
– Не нужно возиться. Говорю же, оставьте меня здесь.
И тут, словно из ниоткуда, материализовался Марков. На непокрытой голове – сугроб, очки плотно залеплены снегом.
– Короче, – он довольно грубо схватил Настю за руку. – Немедленно встала и пошла.
Но Сёмина резко вырвала руку и с места всё равно не сдвинулась. Неожиданно нагруженные сумками и пакетами с продуктами вернулись все остальные. Якушин не сказал и слова и, кое-как обойдя нас, прошел мимо в обратном направлении:
– Какая ты молодец, – протискиваясь между нами, сказал Сёминой Петров. – Мы пропустили поворот. Если бы не ты мы бы может ещё шли сто лет.
Они с Герасимовым взяли её под руки и подняли на ноги. Петров принялся толкать в спину, чтобы она шла, а Герасимов подцепил дурацкую сумку. Так, кое-как мы двинулись назад. И уже вскоре вышли к другому бесконечному полю. Летом, по словам Якушина, через него до деревни шла тропинка, а сейчас оно было целиком покрыто огромной толщей снега. Другим вариантом было идти в обход, вдоль леса, по дороге, накатанной машинами, но такой путь мог занять ещё не меньше часа.
И тут снова началось:
– Я через поле не попрусь, – категорично заявил Герасимов, в его тяжелом стальном взгляде читалась слепая упертость. – Мы там на нем все и поляжем.
– Ничего не поляжем, – заартачился Марков. – Просто сделать последний рывок и всё. Поднапрячься, а потом можно будет отдохнуть.
– По дороге идешь себе и идешь, а тут, сплошное мучение. Оно мне надо? – Герасимов развернулся и медленно двинулся по дороге.
– Может, правда по полю? – я оглядела тяжеленые сумки с продуктами, которые предстояло тащить ещё столько времени. – В поле пакеты можно будет по снегу за собой тянуть, а на дороге так не получится.
– Не говори ерунды, – довольно резко одернул меня Якушин, – Пусть даже ещё час или два, но зато малой кровью.
– Но с пакетами же тяжело, – попыталась объяснить я ещё раз.
– Тебе-то что? Не ты несешь, а нам так удобнее.
Видимо, он всё ещё был разозлен из-за спора насчет коньяка.
– Я не смогу по полю, – сказала Настя. – У меня сумка такая.
– Эй, Осеева, идем со мной через поле, – вдруг предложил Марков, протирая очки мокрым от снега носовым платком. – Мы их в два счета сделаем.
Его черные кудряшки колечками налипли на лоб, нежные щёки разрумянились, а без очков лицо выглядело неожиданно миловидным и юным. В этот момент от Маркова воодушевляюще веяло ребяческим оживлением и горячей решимостью.
– О, а давайте на спор, – обрадованно подключился Петров, весело щурясь под капюшоном. – Марков с Осеевой через поле, а мы здесь. Кто раньше придет, тому приз.
– Что за приз? – поинтересовалась именно Настя.
– Твой поцелуй, – тут же нашелся Петров.
– Ещё чего, – фыркнула Сёмина, но смутилась.
– Дурак, – пожурил его Марков. – Она с тобой всё равно в одной команде.
– Это не важно, – ответил Петров. – К примеру, если вы выиграете, то Сёмина, как представитель от нашей команды вас целует, а если мы – то ваш представитель. Понятное дело, что не ты, Марков.
– У меня другое предложение, Петров, – сказала я. – Те, кто выиграет, надают хороших пинков, тем, кто проиграет.
– Ага, разбежалась, – зло крикнул уже отошедший на некоторое расстояние, но всё слышавший, Герасимов. – Я в ваши тупые игры не играю.
И мы действительно разделились. Якушин, Герасимов, Петров и Сёмина пошли по дороге, а мы с Марковым поперлись прямиком через поле, как дебилы, которые не ищут лёгких путей. Потому что Амелин пошел с нами просто так, типа "за компанию".
Ветер в поле оказался действительно дичайший. С меня сдувало и капюшон, и шапку, глаза слезились, руки тут же заледенели. Пакеты приходилось волочить прямиком по снегу, но это оказалось совсем не так легко, как мне представлялось до этого. Сугробы были выше пояса, а снег забился не только в обувь, но и в рукава, и в карманы, и даже за шиворот. Минут через пятнадцать тяжких физических мучений я отчетливо поняла, что мы с Марковым – тупые и упрямые бараны, которые ради самоутверждения готовы биться лбами о стену.
А потом я просто легла. Потому что у меня уже болело всё, и никаких сил ни моральных, ни физических не осталось. Легла прямо на снег, даже не провалившись. Голова гудела и полыхала жаром, в висках стучало сердце. Здесь было ещё тише, чем в лесу, и, казалось, что эта тишина так давит, что вот-вот выдавит барабанные перепонки. Было даже слышно, как где-то звенят высоковольтные провода, как прошла очередная электричка, как тяжело дышит ушедший довольно далеко вперед Марков.
– Ну, ты чего? – Амелин, едва держась на ногах, подлез и принялся меня тормошить.
– Нужно отдохнуть.
– Отдохнешь потом.
– Отстань, пожалуйста.
– Пойдем.
– Я просто полежу немного и вас догоню.
– Нет уж, давай вставай. Женщинам вообще нельзя на снегу валяться.
Он кое-как выпрямился, собираясь поднять меня за плечи, но я предупредительно согнула ногу в колене, намекая, что если вздумает это сделать, то я буду лягаться.
– Много ты знаешь. Сказала – отстань.
– Знаю только, что ты можешь замерзнуть и заболеть.
– Заболеть? Вы с Семиной такие нежные создания: ах, можно заболеть, ах, можно умереть. Ну, ладно, она хоть девчонка, а ты?
– А я, не ввязываюсь в то, с чем не в силах справиться.
И эти слова прозвучали с таким неожиданным циничным ехидством, что я, стиснув зубы, моментально вскочила, отряхнулась и, пихнув его со злостью в сугроб, поплелась догонять Маркова.
К деревне мы выбрались с малиновыми лицами, в куртках нараспашку и мокрые насквозь. Вышли и дружно повалились в снег возле дороги. Победа была за нами, но оказалось, что толку в ней никакого, потому что куда дальше идти никто не знал. Мы стали названивать им по телефону, но безрезультатно. К этому времени уже окончательно стемнело, и лишь где-то в глубине деревни, точно белая луна, горел одинокий фонарь. В его призрачном свете зловеще проступали угрюмые очертания покосившихся домов, которые казались пустыми и заброшенными.
После того, как внутренний жар спал, стало жутко холодно. Промокшая изнутри и снаружи одежда очень быстро промораживалась и дубела. Марков попытался заставить нас делать какие-то упражнения, чтобы согреться, но в итоге и сам оказался не способен на это. И, если бы ребята, наконец, не появились, то через каких-то полчаса мы бы наверняка превратились в настоящие сосульки.
В первый момент Марков хотел было высказаться, но когда стало ясно, что Герасимов и Петров еле идут, согнувшись под грудой сумок, а Якушин несет Сёмину на руках, то всё желание возмущаться пропало само собой.
Больше всего я мечтала согреться и куда-нибудь прилечь. Казалось, что главное дойти до дома, а там сразу всё станет хорошо. Но, как выяснилось, внутри было не намного теплее, чем на улице. И пока Якушин ещё минут двадцать возился, растапливая печку сырыми дровами, мы дружно тряслись от холода.
В большой комнате с печью стояли два потертых дивана, возле окна – круглый стол с чересчур белой для местной обстановки скатертью, в углу, на тумбочке с кривыми ножками, малюсенький телевизор. В дальнем углу широкая железная кровать, заваленная целой горой одеял и подушек. Сёмину кое-как погрузили на один из диванов и накрыли одеялом.
– Нам всем срочно нужен чай или кофе, или что угодно, главное как можно быстрее и горячее, – сказала я Якушину, который всё ещё сидя на корточках, подбрасывал полешки в уже ревущую оранжево-красную топку. – Где можно взять воду?
И тут он так странно уставился на меня снизу вверх этими своими красивыми серо-зелеными глазами. Молча и пристально, как будто хочет сказать нечто очень важное, но отчего-то не может, затем всё-таки негромко, но весьма ясно произнес:
– Блин.
– Что?
– Мы не взяли воду.
– И нафига я с вами связался? – Марков с раздражением перерывал свои вываленные на диван вещи и, наконец, выудив из них теплый, темно-бордовый пуловер, растянул обеими руками и принялся разглядывать, точно в первый раз видел. – Можно было сразу догадаться, что всё будет совершенно не организованно.
– Нафига вы ко мне прицепились? – вспыхнул в ответ Якушин, поднимаясь в полный рост. – Не нравится – выметайся. И вообще, если кому-то холодно, жарко, душно, неудобно, если у кого-то есть несовместимые с моей жизнью требования или собственный райдер, тот может катиться на все четыре стороны.
– Слушай, Марков, – Герасимов уже переодевшись в джинсы и черную толстовку с красным логотипом Рамштайна на груди, намертво прилип спиной к печке и грелся. – Ты как-то всё не так понял. Ты – сам по себе, Саша – сам по себе, я сам по себе, все мы сами по себе. Просто сейчас находимся в одной точке геолокации.
– Ничего подобного, – запротестовал Марков. – Пока мы Дети Шини, мы не сами по себе. Правильно я говорю, Осеева? Кстати, глянь, не очень свитер мятый?
Он подошел ко мне и стал совать под нос свой пуловер. Марков явно выбрал меня в свои союзники. Это было и хорошо, и плохо одновременно. Хорошо, потому что избавляло от препираний с ним самим, а плохо, потому что он считал, что я буду отдуваться за него.
– С Детьми Шини – это не ко мне, – тут же пресекла я. – Это к Петрову. Ему нравится такая игра. А свитер мятый, но наденешь, будет не заметно.
Петров долго и тщательно вытирал пёстрым кухонным полотенцем сумочку от камеры, но когда услышал свою фамилию, отвлекся и его чуть раскосые, обычно веселые глаза, вопросительно замерли.
– А что такого? Нормальная игра. Ничем не хуже других. Я даже кино собираюсь такое снять "Одинокие странствия Детей Шини" или "Дети Шини: побег", или "Дети Шини на краю Вселенной". Там будет про всякие разные наши приключения.
– Какие ещё приключения? – глядя исподлобья переспросил Герасимов.
– Которые будут, конечно же, – запросто ответил Петров, точно это было само собой разумеющимся.
– Так мы же разделимся, – сказал Герасимов.
– Не нужны нам никакие приключения, – одновременно с ним сказал Марков.
– Вы не понимаете! – пожалуй, чересчур пылко отреагировал Петров, обеими пятернями приводя примятые капюшоном волосы в состояние привычного художественного беспорядка. – Никому же не интересно будет смотреть кино, про то, как вы на печке носки сушите, в носу ковыряете или болтаете всякую свою дребедень. В кино обязательно должно происходить, что-нибудь интересное. Это вам не книжки читать, где можно какой-нибудь дуб на трех страницах описывать, и ещё на четырех отношение героя к этому дубу, и, где, самое удивительное, это нормально, прокатывает. В кино всё совсем иначе. Это отдельная наука. Точнее искусство.
Якушин громко и осуждающе вздохнул, потер стриженые виски, точно у него внезапно началась головная боль, и полез вытаскивать всякую разную утварь из деревянного шкафчика рядом с жестяной раковиной, и вскоре отыскал электрический чайник, затем пошел на улицу, набил доверху снегом и вскипятил воду. А мы ещё какое-то время были вынуждены слушать о творческих планах Петрова, который так возбудился этим разговором, что стало ясно, раньше он ни с кем так долго на эти темы не говорил.
Все, кроме Амелина, переоделись в сухие вещи, а мокрые развесили сушиться по комнате. А тот даже пальто не стал снимать, сказав, что сначала должен согреться. Пришлось заставить его снять хотя бы кеды, потому что они были насквозь заледеневшие, а взамен Якушин выдал ему старые разбитые и очень смешные круглоносые ботинки, должно быть дедушкины ещё.
Потом мы с Петровым кое-как настругали бутерброды с колбасой и сыром, достали шоколадки и даже попробовали пожарить в печке сосиски, насадив их на вилки, но они тут же благополучно сгорели и сухими угольками попадали в топку. Зато, благодаря этому, воздух наполнился ароматом жареного мяса, и от этого на душе стало значительно теплее.
– Сколько времени? – спросил Якушин, когда закончили пить чай и обсуждать кому тяжелее было идти.
Марков взглянул на телефон:
– Восемнадцать тридцать.
– Наверное, уже ищут? – осторожно предположил Петров, но его никто не поддержал, потому что об этом было неприятно и волнительно думать.
И все сразу как-то резко замолчали, как будто темы для разговоров закончились. Обычно в таких случаях можно было залезть в сеть и изолироваться, но теперь мы оказались в совершенно новых условиях. Однако Герасимов всё же вспомнил, что взял с собой планшет, а Петров додумался прихватить ноут, и они, принялись настраивать Петровский компьютер в надежде подключить его к планшету, чтобы поиграть друг с другом.
Амелин же, так и не раздеваясь, сидел в наушниках, прислонившись к стене. И когда никто не смотрел, взгляд его больших темных, как ночь, глаз становился отрешенным и пустым, как бездонный колодец, но стоило кому-то повернуться, как он тут же смутившись, натягивал отрепетированную детскую улыбку.
С игрой у них так ничего и не получилось. Петров включил телевизор. Целый час мы ждали, что скажут что-нибудь про нас, но ничего не сказали. И он заметно расстроился, потому что очень хотел увидеть себя по телеку.
Тогда я подумала, что мои родители возможно ещё даже не знают, что я ушла, потому что возвращаются домой иногда даже позже девяти, а дозвониться до них – это ещё нужно постараться. И тут я поняла, как дико устала за этот день, ещё немного и могла свалиться со стула.
В жизни никогда не думала, что доведется спать на настоящей печке, такой белой и большой, как в сказках. За пёстрой шторкой обнаружился замечательный тёплый угол с большой перьевой подушкой и двумя ватными одеялами. Наверху было очень жарко, так что одно одеяло я всё же отдала ребятам. Сняла узкие джинсы и с невероятным блаженством устроилась на лежанке. За окнами протяжно завывала метель, и от её внезапных порывов стёкла слегка подрагивали. Но в комнате было спокойно, светло и уютно, вкусно пахло дымом и нашими горелыми сосисками. Те, кто ещё не спал, говорили тихо, вполголоса, их разговор ничуть не мешал, а только убаюкивал. Это были совершенно новые, непередаваемые и очень приятные ощущения.