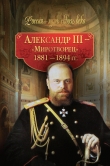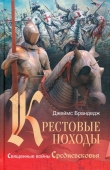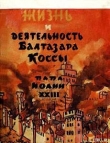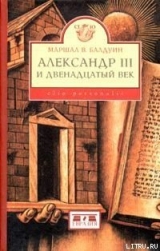
Текст книги "Александр III и двенадцатый век"
Автор книги: Маршал Балдуин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц)
Именно в этот момент византийский император Мануил Комнин попытался извлечь выгоду из церковного раскола на Западе. Теперь он вновь смог утвердить влияние Византии в Анконе на адриатическом побережье Италии, и предложил руку своей дочери и наследницы молодому Вильгельму II Сицилийскому. После этого, несмотря на то что мы не можем установить точную дату, вероятно где-то в 1166 году, византийские посланники прибыли в Рим.
Вмешательство Мануила имело под собой определенные причины: он длительное время желал восстановить влияние, если и не действительную власть Византии, на некоторых территориях Запада. Согласие с Германской империей, которое установилось при Конраде, сменилось враждебностью, когда Фридрих двинул войска в Италию и вмешался в дела Венгрии. Вследствие этого византийская дипломатия повернулась к Риму и Сицилии. Летом 1163 года и в начале 1164 года переписка между Мануилом, папой, королем Франции и другими привела к согласию, которое могло связать Византийскую империю, Сицилию, папство и Францию. Хотя Александр активно продвигал данный проект, он потерпел поражение, в основном из-за того, что французский король в это время все еще опасался спровоцировать возмездие со стороны Фридриха Барбароссы. Людовик VII также сохранял традиционную французскую враждебность к Византии из-за Второго крестового похода.
Последний план Мануила был более амбициозным. Действительно, византийский император рассматривал кризис во время схизмы в качестве благоприятного момента для продвижения идеи восстановления объединенной Восточной и Западной империй в своем собственном лице, что могло стать кульминацией его политики в отношении Западной Европы. Александр и кардиналы приняли посланников византийского императора весьма сдержанно. В Риме возлагали большие надежды на церковное объединение, но опыт показывал, что добиться этого было не так-то просто. Более того, признание требований Мануила как императора означало бы окончательный разрыв папства с Византийской империей, так же как с Венецией и Сицилией. В целом Александр не хотел, чтобы произошло что-либо подобное. Кроме того, Папа, который боролся за сохранение libertas ecclesiae[7]7
Свобода Церкви (лат.).
[Закрыть] на Западе, мог с трудом позволить себе поддержать императора, который традиционно вмешивался в церковные дела в Византии. Не прекратив переговоры, Александр отложил предоставление определенного ответа и послал двух кардиналов, Убальдо из Остии и Иоанна из церкви святых Иоанна и Павла, в Константинополь, чтобы дополнительно обсудить религиозные вопросы.
Немного позднее, возможно в начале 1167 года, Мануил возобновил попытки переговоров; очевидно, его послы на этот раз были лучше проинструктированы по всем вопросам, которые необходимо было разрешить. Он снова предложил Папе большие денежные субсидии в обмен на императорскую корону. И снова переговоры не привели к соглашению двух сторон по принципиальным вопросам, хотя дискуссии, очевидно, продолжались в течение нескольких лет, так как Папа снова отправил двух кардиналов, чтобы те сопровождали греческих посланников. Проблема взаимоотношений между Церквями будет рассмотрена ниже, но здесь можно отменить, что сложный вопрос о признании Александром византийского императора был бы равносилен трудности Мануила убедить византийскую Церковь и греческий народ принять верховную папскую власть. Византийское богословие приняло уже определенную форму. И как народное мнение западного мира, особенно во Франции, было настроено против Византии, столь же враждебным являлось и отношение греческого населения к Западу.
Так закончились последние усилия Мануила достичь согласия между Константинополем и Римом. Поскольку союзу с Византийской империей не суждено было свершиться, к счастью, Александр и его кардиналы, хотя и были все еще привлечены концепциями всеобщей империи и знали власть византийского золота, вполне оказались способны понять существующие реалии. Хотя империя Фридриха Барбароссы могла изредка предстать в качестве реинкарнации древнего принципа универсализма, нового translatio imperii, в реальности и Византийская, и Западная империи оказались перед лицом возникающих в большом количестве новых особых ситуаций в результате роста значения периферийных государств – Венгрии, Богемии, Польши – и итальянских городов. Последние, как необходимо помнить, создали на индивидуальных и кол-флективных началах лигу, демонстрируя свои способности в проведении самостоятельной дипломатии. Венеция посягала на торговлю Византии. Мануил, один из искусных дипломатов своей эпохи, мог сохранять власть и влияние Византии в течение некоторого времени. Но, по крайней мере в христианском мире, территорией возникновения новых идей, новой энергии и новой силы являлся Запад. Один из наиболее впечатляющих аспектов эволюции папской дипломатии при Александре заключается в осознании им новой власти, которая набирала силу в Западной Европе.
Тем временем Фридрих Барбаросса решил, что беспорядки в Северной Италии и присутствие Александра в Риме требовали военного вмешательства, чтобы восстановить имперскую власть и посадить своего собственного Папу в Вечный город. Осенью 1166 года он вторгся в Италию в четвертый раз. В Ломбардии Фридрих столкнулся с серьезным сопротивлением и решил разделить свои силы. В то время как сам он штурмовал Анкону, Рейнальд Дассельский и Христиан из Буха, ставленник императора в качестве архиепископа Майнцского, двинулись на юг. Они быстро продвинулись вперед, и Пасхалий III получил возможность установить резиденцию в Витербо, примерно в пятидесяти милях к северу от Рима. Таким образом, едва Александр закрепился в Риме, как разразился новый кризис. Более того, у Папы практически не было надежды, что кто-либо окажет ему помощь.
До своей смерти Вильгельм I Сицилийский послал Папе 60 000 флоринов, но королева-мать Маргарита не могла оказать серьезную помощь и лишь время от времени посылала некоторые денежные субсидии. Благодаря посредничеству Генриха Реймского, некоторая финансовая помощь Папе поступила из Франции, а также из Византии. Но перспективы Александра не были радужными. В то время как он стремился заставить всю римскую землю обороняться, римляне решили именно в это время возобновить свое соперничество с соседями, таким образом предоставляя Рейнальду предлог для вмешательства. Вопреки совету Папы, римляне атаковали Тускул, однако потерпели жестокое поражение при Монтерпорцио 29 мая 1167 года. Их потери были столь огромными, что это напомнило битву при Каннах, а мужское население Рима не могло восстановиться в течение длительного периода времени. Хотя имперские легаты продолжали развивать свой успех и начали посылать деньги в Рим, Александр оставался в самом городе, проявляя спокойствие и храбрость, сплотившие граждан на последний бой.
Услышав новость о победе над римлянами, Фридрих снял осаду Анконы, где он пытался вытеснить Византию из Италии, и двинулся через Тосканию по направлению к Риму. 22 июля 1167 года он засвидетельствовал торжественное восхождение Пасхалия III на Папский Престол. Два дня спустя, 24 июля 1167 года, его армия заняла Монте Марио. Остановившись в замке св. Ангела, объединенные имперские силы атаковали собор св. Петра, но их военные машины не смогли разбить стены. Войсковые огни были установлены прямо в соседней германской церкви Санта Мария в Турри, разрушив мозаику и другие произведения искусства. Таким образом, чтобы избежать дальнейших богохульств в святых местах, что уже само по себе являлось великим скандалом, оборонительные войска, стоявшие при соборе св. Петра, удалились.
Александр, который проявил особую стойкость, оставил Латеранский дворец, приняв временное убежище в крепости, принадлежащей Одо Франджипани, и приготовился сделать другую остановку в Колизее. Две сицилийские галеры прибыли, чтобы предложить ему бежать из Италии, но Александр предпочел использовать 60 000 флоринов, которые Вильгельм I послал ему, чтобы организовать дальнейшее сопротивление. Его храбрость вдохновила многих, но когда римляне услышали о предложении Фридриха заключить компромисс (оба Папы должны были отречься, а новый Собор произвести выборы Папы), они стали убеждать Папу уступить. В это вреди прибыли галеры из Пизы, чтобы отрезать его связь по морю с внешним миром. Наиболее мудрым со стороны Папы стало, по-видимому, решение об отъезде. Поэтому, переодевшись в одежду пилигрима, Папа незаметно ушел, проплыл мимо Террачины и Гаэты и достиг Беневенто.
Ничто теперь не препятствовало Фридриху войти в Рим и провозгласить там свою власть. 1 августа 1167 года в великолепной церемонии Пасхалий, который 22 июля был возведен на трон в соборе св. Петра, короновал императора и его жену. Рейнальд Дассельский, его верный слуга и человек, одержавший эту победу, получил богатые награды.
Однако, несмотря на триумф императора, оставались две серьезные проблемы: Северная Италия была неспокойна, и схизма все еще продолжалась. В то время как Фридрих был занят делом Пасхалия, присутствие Александра на юге, которому могла быть оказана поддержка какого-либо европейского государства делало его положение в некоторой степени неопределенным. Поэтому сомнительно, что он мог длительное время удерживать и закреплять свои позиции. Этот триумф императора, хотя и был важным, явился краткосрочным, и в конце концов оказался под ударом драматического и совершенно неожиданного поворота судьбы. Чума, возможно малярия, остановила германскую армию, внезапно превратив триумф в катастрофу. Аристократия была сражена болезнью наравне с простыми солдатами, таким образом, произошла деморализация всех военных сил. Потери от смерти солдат возросли, когда армия двинулась на север. Фридрих Швабский, племянник императора, умер, так же как и юный Вельф VII и епископы Льежа, Шпейера, Регенсбурга и Вердена. Непоправимой для императора потерей стала смерть его любимца, Рейнальда Дассельского. В это время в северных городах Ломбардии произошло восстание, и императору повезло, что он ушел из Италии без дальнейших злоключений.
В данной книге не ставится задача детального рассмотрения истории знаменитой Ломбардской лиги, сыгравшей важную роль в жизни Империи и Италии. Здесь стоит взглянуть на роль Александра в борьбе городов с Фридрихом Барбароссой. Лига называлась Ломбардской, но она никогда не включала в себя всех городов Северной Италии – многие из них заявляли о своей лояльности императору – и ей никогда не удавалось подчинить индивидуальные интересы общему благу, кроме периода военных действий против императора. Ломбардскую лигу сформировали различные соглашения, заключенные между городами, включая Венецию, предпочитавшую оставаться за пределами итальянской политики. Расцветом Ломбардской лиги стал пакт, подписанный 1 декабря 1168 года, который детально разработал определенные общие судебные и административные процедуры.
Рассматривая свои действия в качестве отказа подчиниться и желая также закрепить свои позиции в Западной Ломбардии, коммуны, объединившись, решили основать новый город или, возможно, вступить во владение уже подготовленной территорией. В любом случае в течение 1168 года ими были возведены крепостные стены, а затем и дома жителей, многие из которых прибыли из соседних имперских городов. Конечно, новое поселение получило название Алессандрия, символизируя, таким образом, союз с Папой. Излишне говорить, что Папа был заинтересован в сотрудничестве с Лигой с самого начала. Действительно, без устойчивого дипломатического руководства папы и его легатов для поддержания союза между городами, несмотря на различные интересы и традиционное соперничество, Лига могла бы развалиться.
Тем не менее нельзя утверждать, что Александр был «либеральным» или «национальным» Папой, поборником итальянских городских свобод, защищающим их от иностранного вторжения. Он и его предшественники сами испытали, что такое общинное движение в Риме, и он хорошо осознавал трудности, которые могли возникнуть, если придется приспосабливать церковное управление к изменяющейся ситуации в городе. Ему приходилось неоднократно вмешиваться, чтобы предотвратить захват церковной собственности. Действительно, значительная часть деятельности легатов Александра носила как церковный, так и политический характер. Кратко говоря, несмотря на сильные и подлинные религиозные чувства и действительную лояльность папе, Ломбардская лига в своем основании была политической организацией.
Определенно, для Александра она выступала как политический фактор. Он видел в ней средство для преодоления схизмы и восстановления свободы Церкви. Хотя Лига была союзником папы в критических ситуациях, он был слишком проницательным дипломатом и слишком хорошо осознавал наднациональные позиции папства, чтобы всецело подчинить Святой Престол одной политической ориентации. Дверь к примирению с императором никогда не закрывалась. Поддержка Александром Лиги, таким образом, являет собой другой пример гибкости Курии в адаптации своей дипломатии к новой ситуации и ее желание признать новые силы, которые формировали средиземноморский мир, в то же время избегая полного разрыва со старой традицией.
Ситуация, более того, особо не изменилась. Поражение Фридриха в Италии стало лишь временным отступлением, но не серьезной неудачей. Данная ситуация, например, не позволила Александру вернуться в Рим, и он поэтому остался в Беневенто. В действительности, хотя едва можно сказать, что он получал реальную поддержку, Пасхалий не покинул Рим, не сделал этого и имперский префект. Римляне, которых в основном заботили собственные интересы, возобновили войну с Тускулом.
Поражение императора также не привело к улучшению ситуации в отношении схизмы. Европа осталась разделенной, и смерть Пасхалия (20 сентября 1168 года), как надеялись многие, не завершилась всеобщим признанием Александра. Кардиналы, поддерживавшие схизму, избрали другого антипапу, который принял имя Каликста III. Он был сразу признан Фридрихом, и, таким образом, схизма не была преодолена. Германия в основном оставалась лояльна императору и, по крайней мере, открыто приняла антипапу. Фридрих быстро восстановил собственный престиж, немного пострадавший в результате поражения в Италии. Один или два германских епископа некоторое время сопротивлялись, но в конце концов уступили давлению императора. Новые кандидаты были еще более легко управляемы, поскольку в течение периода схизмы на выборах усилилось имперское давление. Многие, возможно неохотно, но из-за силы обстоятельств, встали на сторону схизматиков.
Только на юге Германии сопротивление сторонников Александра продолжало существовать, хотя даже в этом регионе имелись препятствия. Александр делал все возможное, чтобы с помощью писем и агентов поощрять существующее там сопротивление. Чтобы обеспечить некоторое направление папской политике, Конрад, бывший архиепископ Майнцский, в 1169 году получил назначение кардинала и легата в Баварии. Некоторые германские князья также предоставили Папе некоторую помощь. Зальцбург остался верен традициям Эберхарда и Конрада. Преемником последнего в качестве архиепископа стал Адальберт, племянник Фридриха и сын герцога Богемского. Он получил свой паллий от кардинала Конрада и стремился добиться посвящения от епископов Александра, но смог, отказываясь от своих прав, удерживать архиепископскую епархию только до 1174 года. Затем новый кандидат, Генрих, изначально поддерживавший Александра, согласился принять свое назначение из рук императора. Его духовенство последовало за ним.
Существовала, тем не менее, одна проблема, которая побудила даже императора оставить дверь открытой для примирения с Папой. Несмотря на заявления императора о том, что он никогда не признает Александра, он сам, так же как и многие из германского духовенства был обеспокоен проблемой возможной незаконности схизматических посвящений в сан. Чем дольше длилась схизма, тем болезненней становилась эта проблема. Становилось все сложнее какому-либо кандидату на священническую должность найти епископа, собственное посвящение которого в сан было получено из рук прелата до начала схизмы. Поэтому такие истинно религиозные заботы со стороны императора и многих из его сторонников, так же как баланс власти в Италии, вызвали ослабление их оппозиции Александру. Изменение ситуации происходило постепенно, благодаря деятельности таких людей, как Христиан Майнцский, который наверняка не являл собой блестящий пример благочестия, но был человеком религиозным и большого ума, а также Вихман Магдебургский.
Было очевидно, что среди некоторых представителей другого лагеря также появляются ростки более гибкого отношения к проблеме. С 1167 по 1170 год были предприняты посреднические усилия для ее разрешения. И большую роль в них сыграли цистерцианцы. Цистерцианский орден также был затронут смутой, связанной со схизмой, так же как неизбежным расхождением интересов со стороны отдельных аббатств. Даже во французских цистерцианских кругах раннее почти анонимное полное принятие политики Курии сменилось проведением более независимой дипломатии со стороны некоторых аббатств. Кроме того, была даже выработана некая позиция нейтралитета, по крайней мере в отношении самого императора. В любом случае после 1167 года деятельность цистерцианцев в качестве посредников стала заметной всем.
Однако посреднические усилия, предпринимаемые в эти годы – в это время была предпринята попытка примирения с Папой со стороны императора, возложенная им на епископа Эберхарда из Бамберга, – не достигли успеха, хотя сам по себе факт попытки переговоров важен. Так же как и Папа, Фридрих приспосабливался к новым условиям действительности. И правда, едва ли менее впечатляющей в сравнении с гибкостью Курии стала реорганизация германской канцелярии после 1170 года. Но прежде чем исследовать данные обстоятельства, необходимо обратиться к переговорам Александра III с Англией. В это время ее разрывал кризис, зародившийся в 1164 году при начале схизмы и достигший своей высшей точки в 1170 году.
Глава V
Дело Бекета
Конфликт между архиепископом Кентерберийским Томасом Бекетом и королем Англии Генрихом II возник в то время, когда Александр находился в изгнании во Франции. Поэтому он застал папу в ранние критические годы схизмы, когда поддержка западных монархов была для него действительно необходимой. Вследствие этого, поскольку Александр не мог тщательно изучить ситуацию, сложившуюся в Англии, находясь в изоляции, исследователи часто предполагали, что сдержанность Папы или, как могли бы сказать некоторые, слабость, проявленная им в урегулировании дела Бекета, проистекала из страха, что английский король отвернется от него. Несомненно, что схизма повлияла на отношение Александра как к Генриху, так и к Бекету. Тем не менее мы не можем объяснить английскую политику Папы, основываясь только на данном факте. Поскольку дело Бекета было очень сложным и затрагивало в равной степени темпераменты людей, а также принципы и направления в политике. Александр был весьма осторожен, обладал большим опытом и знал цену терпению. Бекет, при всей своей героической храбрости, в своей религиозной преданности и убежденности, что его дело являлось также делом всей Церкви, был упрям и нетерпелив. Невозможно, чтобы две столь разные персоны встретились бы лично, даже если бы не было схизмы.
Разрыв между Генрихом и Бекетом имел как сходные черты, так и несколько отличался от того конфликта, который возник между Папой Александром и императором Фридрихом Барбароссой. Он был похож в том, что затрагивал противоречивую юрисдикцию sacerdotium и regnum (священства и царства) и, таким образом, хотя и рассматривался, очевидно, как локальная проблема, был показателен для всей Европы. Конфликт Генриха II с Бекетом отличался тем, что в нем отсутствовали какие-либо ссылки на универсализм или мировую власть, имперскую или папскую, что могло быть охарактеризовано, по крайней мере в теории, континентальным разногласием. В английском споре также не поднимался специфический вопрос о светской власти. Он был отличен и в том, что хотя отношения между Англией и папством были, к сожалению, натянутыми, кроме краткого периода времени, нормальные церковные отношения не были разорваны.
Как в Германской империи, где император все еще заявлял о своих претензиях на контроль над германской Церковью, так и король Генрих II предложил передать ему управление церковными делами в Англии, Церковь на территории которой существовала со времени норманнского завоевания и была только частично затронута более поздними постановлениями. Он также или его советники, все еще оставались верны представлению о королевстве как о квазирелигиозном государстве, правитель которого прошел через обязательное помазание на царство и должен заботиться обо всех своих подданных, духовенстве и мирянах без существенной разницы.
Наряду с традициями были и инновации. Кроме Сицилии, ни одна западная монархия не продвинулась столь далеко в централизации государства, как Англия. Именно в это время английская монархия стремилась проводить судебные реформы, которые заметно расширяли ее юрисдикцию. Кроме того, норманнское завоевание привело к тому, что Англия оказалась открыта влиянию континентальной Церкви, которая укрепила связь между английской Церковью и Римом. В Англии, так же как в других частях Европы, церковные суды рассматривали большое количество дел, таким образом увеличивая сферу действия канонического права. Поэтому, когда римская Церковь в эпоху Грациана переживала процесс консолидации и расширения судебной процедуры, английская монархия действовала схожим образом. Таким образом, хотя термины «Церковь» и «государство» вводят в заблуждение, когда их используют применительно к Средним векам, дело Бекета довольно хорошо напоминает современную концепцию церковно-государственного спора.
Томас Бекет как архидиакон сначала был товарищем архиепископа Теобальда Кентерберийского, и именно благодаря Теобальду король Генрих назначил его королевским канцлером. Затем, 27 мая 1162 года, Бекет был назван преемником Теобальда. Хотя выборы архиепископа монахами Кентерберийского монастыря были проведены в соответствии с каноническим правом и особыми процедурами, они, без сомнения, выразили волю короля. Генрих II, возможно, надеясь сохранить контроль над английским церковным управлением, которым обладали его предшественники, представлял, что объединяя в одном человеке должности канцлера и архиепископа, ему будет легче достичь этой цели. Складывавшиеся отношения между Бекетом и его сувереном указывали на то, что так и будет.
Будучи посвященным в сан, Томас полностью отдался своим обязанностям со свойственной ему энергией, но с новой целеустремленностью. Преданность, с которой он прежде служил королю, теперь приберегалась для Церкви. Важным в отношении исследования дела Бекета является тот факт, что рутинные обязанности, которые он должен был выполнять как архиепископ, привели его к контактам с римской Церковью и к осознанию своего действительного положения, о котором он ранее не задумывался. Томас стремился получить паллий от Александра III, который представил этот символ своей юрисдикции посланникам Бекета в Монпелье, где он нашел убежище. В 1163 году Томас присутствовал на Соборе в Туре, где, стоит напомнить, избрание Александра Папой получило официальное признание со стороны Англии и Франции. На этом Соборе Папа Александр отдал особые знаки чести и уважения архиепископу Кентерберийскому. Возвратившись в Англию, укрепленный, без сомнения, полученным в Туре опытом, Бекет поставил вопрос о восстановлении давно потерянной собственности, принадлежавшей архиепископскому престолу. В этот период времени, до января 1163 года, он снял с себя полномочия королевского канцлера. Очевидно, Бекет почувствовал, что обязанности архиепископа были несовместимы с той важной ролью, которую играл канцлер в светском управлении. Король был искренно разочарован.
Именно тогда Генрих II созвал королевский Собор в Вестминстере в октябре 1163 года и объявил о мерах, которые должно было принимать в отношении «felonous» или «criminous» (преступных) клириков, то есть членов духовенства, виновных в нарушении закона. Король, следует заметить, не поставил под вопрос право церковных судов рассматривать подобные дела. Но он настаивал на том, что более мягкие наказания, назначаемые церковными судами, позволяли большому количеству преступников избежать достойного наказания. Поскольку данному вопросу впоследствии было суждено сыграть ключевую роль в разногласиях короля с Томасом Бекетом, необходимо заострить внимание на определенных проблемах. Прежде всего, средневековая концепция «духовенства» в XII веке включала не только епископов, священников и монахов, но также большое количество людей, которые занимали различные административные посты или исполняли незначительные религиозные функции. Многие из них являлись лишь диаконами или подъячими, или священниками более низкого ранга. Церковные суды обычно не налагали телесных наказаний, кроме порки в редких случаях. Лишение церковного сана и заточение в строгом монастыре были максимально строгими приговорами, выносившимися церковными судами. Для священника, занимающего высокую должность, и для менее значительного клирика, ведущего какую-то активную деятельность, это наказание, если накладывалось полностью и если срок заключения был долгим, могло быть чрезвычайно серьезным. Однако оно не применялось часто. В любом случае, король посчитал существующую процедуру неудовлетворительной и нуждающейся в исправлении.
Поэтому Генрих II потребовал, чтобы каждый клирик, разжалованный церковным судом, представал перед светским судом для определения ему наказания в соответствии со светским правом. Хотя такая процедура не была запрещена каноническим правом – в том виде, как его тогда понимали, – Бекет выступил против «двойного наказания», и его поддержали сначала архиепископ Йорка, а затем и весь епископат. Возможно, несмотря ни на что, тогда можно было достичь некоторого согласия, если бы король не усугубил проблему.
Тем временем король, возможно предприняв тактический ход, расширил дело, спрашивая епископов, желают ли они соблюдать «обычаи королевства». Таким образом, он, видимо, приготавливался к усилению королевского контроля над английской Церковью, несмотря на возникновение противоречия с существующими григорианскими принципами. Данный вопрос стал гораздо важнее специфической проблемы преступных клириков, которая, в ходе развития разногласия, появлялась только как случайная, эпизодическая проблема и не выступала в качестве принципиального вопроса. Более того, поскольку «обычаи» не были в то время точно определены, обращение короля привело епископов в замешательство и встревожило их. Тем не менее, после некоторых обсуждений, они ответили утвердительно, но добавили квалификационный пункт: «при сохранении нашего уклада». Под этим пунктом они, конечно, подразумевали выполнение своих обязательств как епископов по отношению к Церкви. Очевидно, они также консультировались с Александром, находящимся тогда в изгнании в Сансе. Папа, который в начале ноября 1163 года принял посланников от Генриха, написал в это время Бекету, призывая его к сдержанности.
На этом проблема могла бы быть разрешена, если бы Генрих не решил зафиксировать «обычаи» в письменном документе для того, чтобы отдать его на подпись епископам. Чиновники короля, без сомнения со значительной осторожностью, подготовили список «обычаев» в законодательной форме Постановлений, которые были представлены на королевском совете, проводившемся в Кларендоне 14 января 1164 года. Тогда же епископов попросили подтвердить свое согласие клятвой.
Кларендонские Постановления представляли взгляд короля и его советников на то, что являло собой разумный компромисс между легитимным исполнением папской юрисдикции, действием канонического права в Англии и прерогативами английского правительства. Хотя документ не демонстрировал намерения отделить английскую Церковь от законного источника ее юрисдикции, он был посвящен той области, в которой григорианская Церковь и новая монархия XII века с большим трудом могли найти компромисс. И некоторые из Постановлений Церковь сразу же объявила неприемлемыми. Действительно, Бекет вскоре осудил пять статей и немного позднее Папа Александр отверг еще четыре. Исследование этих статей, которые прямо бросили вызов свободе действий Папы в Англии, послужит в качестве иллюстрации.
В соответствии со статьей IX судебное решение, вне зависимости от того, была ли оспариваемая собственность, державшаяся на основании frankalmoin (права церковной собственности), то есть свободной от обычных феодальных обязательств, должно было быть объявлено в королевском суде после вынесения вердикта присяжных. Вместе со статьей I, которую осудил Бекет, переведшей судебные процессы в отношении права Церкви распределять приходы и бенефиции или светского патронажа церковных приходов в королевские суды, она уменьшала право Церкви разбирать собственные дела.
Статья IV запрещала архиепископам и епископам покидать королевство без согласия короля. Если бы этот запрет был в полной силе, английские прелаты не смогли бы без королевского позволения посещать церковные Соборы за границей или совершать визиты ad limina. Они, напомним, просили разрешения короля посетить Собор в Туре в 1163 году.
Статья IV запрещала отлучать от Церкви или отрешать от должности любого из королевских министров, или главных землевладельцев без королевского разрешения, или судейских чиновников в отсутствие короля. Статья VIII запрещала апелляции после суда архиепископа без согласия короля. Это, конечно, изменяло существующую традицию апелляции к папской Курии, таким образом, подвергая опасности важное средство общения между Папой и английской Церковью.
Статья III, самая осуждаемая и спорная из всех, требовала, чтобы клирик, уличенный в преступлении, был вызван в королевский суд, где вопросы ему будет задавать судья, и если обнаруживали прецедент, рассмотрение дела передавалось церковному суду для судебной тяжбы в присутствии представителя короля. Если уличенного оправдывали или признавали виновным в светском суде, Церковь уже не могла защищать его. Другими словами, если церковный суд затем лишал его должности, он уже не мог избежать преследования за свое преступление по общему закону. Генрих, следовательно, не заявил о праве судить клирика в светском суде. И он также не настаивал на том, чтобы уличенный в преступлении выдавался церковным судом. Но пункт «Церковь не должна защищать его» равнозначен потере церковного статуса и представляет возможность наказания преступника светскими властями за совершенные преступления.