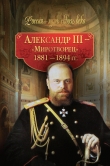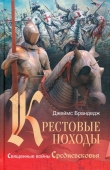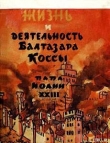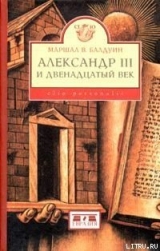
Текст книги "Александр III и двенадцатый век"
Автор книги: Маршал Балдуин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)
Очевидно, что злоупотребления властью, так же как и привилегии, раздражали епископов. Уступка отправлять священнодействия раз в год была расширена за счет возможности его отправления один раз в церквях поочередно. Несомненно, что так же как и другие монашеские организации, ордена получили право сбора десятины. Миряне, которые периодически вносили вклады, становились товарищами орденов и могли пользоваться такими привилегиями, как погребение в освященном месте, несмотря на отлучение или смягчение наказания.
Все эти вопросы обсуждались на Третьем Латеранском Соборе, на котором Вильгельм Тирский произнес яркую речь. Но, возможно учитывая взгляды Александра, святые отцы приняли решение врачевать злоупотребления всех монашеских орденов, включая упомянутых выше, но не ограничивать уже существующие свободы.
Тамплиеры и госпитальеры не только вызвали враждебность белого духовенства, они также ссорились друг с другом. Александр воспользовался присутствием двух магистров на Третьем Латеранском Соборе, попытавшись помирить их. По-крайней мере он утвердил официальное соглашение между ними (2 августа 1179 год).
Хотя подобные вопросы, рассматривающие сферы полномочий, видимо, предполагали относительно стабильную ситуацию в церковном управлении, утверждение Римско-католической Церкви на Востоке представляло особую ситуацию. Ко времени Александра, на латинском Востоке многие священники родились там и приобрели особое отношение к окружающей среде, так же как их светские собратья. Одним из таких людей, например, был Вильгельм Тирский. Кроме того, латинское духовенство никогда не прерывало отношений с православными и местными иерархами. В Иерусалимском королевстве особенно, отношения между латинянами и православными, церковниками и мирянами, регулировались законом и в целом не отмечались большими столкновениями. Латиняне довольствовались разрешением служить литургии по восточному обряду и опускали доктринальные отличия. Последних же на самом деле было много. Большинство палестинских и сирийских христиан были монофизитами (яковитами), так же как большая часть армян. На Востоке также присутствовало значительное количество мелькитов, то есть исповедовавших ортодоксальную веру с восточными обрядами. Мелькитский патриарх Иерусалима скончался во время Первого крестового похода, и латиняне, очевидно, допускали, что его последователи примут западную юрисдикцию.
В северном княжестве Антиохия, с ее значительным греческим и сирийским населением, ситуация была иной. Византийское правительство всегда рассматривала Антиохию как территорию, принадлежащую Восточной империи. Более того, необходимость выпрашивать византийскую помощь заставляла князей Антиохии идти на уступки. Иоанну Комнину в 1141 году и Мануилу в 1159 году были оказаны царские почести в городе. Церковный аспект этой ситуации затрагивало обещание утвердить греческого патриарха, данное Мануилу в 1159 году. Когда между 1164 и 1167 годами в княжество наконец прибыл патриарх Афанасий, он встретил противодействие со стороны латинского ставленника, Эймара (1142-1196). Более того, последний нашел поддержку среди сирийского населения, которое только что выбрало (1166 год) своим патриархом известного хрониста Михаила Сирийца. Трудная ситуация разрешилась только с гибелью Афанасия при землетрясении 1170 года.
Нет свидетельств того, что Александр вмешивался в споры между различными направлениями христианства в это время, и существуют значительные причины, почему он не хотел так поступать. В то же самое время Мануил Комнин в союзе с иерусалимским королем Амори принял участие в походах против Египта. Он также занял Анкону на побережье Адриатического моря и присоединился к Папе и Ломбардской лиге против Барбароссы. Более того, хотя трудно определить точную хронологическую последовательность событий, в течение этого периода Мануил выдвинул свое знаменитое предложение – он должен заменить Барбароссу в качестве императора. После заключения Венецианского мира ситуация была уже другой, и в 1178 году Александр убедил Церковь Антиохии не подчиняться Константинополю. Проблема Антиохийского патриаршества, однако, была связана с вопросом об объединении восточной и западной Церквей, и на этот масштабный вопрос, который будет рассмотрен более подробно в следующей главе, Александр дал веский ответ.
Благодаря несколько более внимательному отношению к учению и религии, которым характеризовалась середина XII века, у людей появилось желание лучше понять ислам и попытаться, хотя эти попытки часто были неуверенными, установить с ним иные отношения, кроме военных и торговых. Группа ученых под руководством известного клюнийского аббата, Петра Преподобного, подготовила, среди других работ, перевод Корана. Непонятно, преследовали ли эти действия евангельскую цель, но они были поддержаны. Однако, конечно, опрометчиво полагать, что Александр имел отношение к таким акциям. Тем не менее значимым представляется то, что его поглощенность подготовкой крестового похода не исключала идею мирного контакта с мусульманскими правителями, среди которых он был хорошо известен.
Переписка Александра и Саладина, упомянутая позже в письмах к Луцию III, имела отношение к попытке наладить обмен пленными и, следовательно, к крестовому походу. Но примерно в 1169 году иконийский султан Килидж Арслан II, чьи земли в центральной части Малой Азии были особенно уязвимыми и мать которого, как он утверждал, тайно придерживалась христианской веры, попросил у Папы Александра разъяснения христианской доктрины. Папа ответил, послав султану довольно подробные трактаты о Христе и искуплении. Согласно одному тексту, султан позднее крестился, но это недостоверно.
Одна из наиболее интересных встреч между Александром и мусульманскими сановниками произошла, как было указано в предыдущей главе, в Монпелье, вскоре после того, как Папа высадился во Франции в 1162 году. Там он был встречен эмиссаром одного из мусульманских князьков Северной Африки. Кардинал Бозон так описывает эту встречу:
«…полный страсти и горячности сарацинский князь почтительно приблизился к Папе со своей свитой. Поцеловав его туфли, он преклонил колени перед ним, склонил голову, поклонившись ему, как будто стоял перед самим святым и благочестивым Богом христиан. Он обратился к понтифику от имени своего господина, короля мусульман, который направил его. Папа сердечно и серьезно ответил, оказав ему особую почесть, и позволил ему сесть у своих ног среди других видных людей. Все, кто был в поле зрения понтифика восхищались, видя это, и вторили друг другу словами Пророка:
И все земные короли поклонятся ему,
Все народы послужат ему».
Папа Александр III также состоял в переписке, поднимавшей вопросы в отношении Востока, которая быстро прославилась в Средневековье и стала легендарной. Эта история началась в 1145 году, которым епископ Оттон Фрейзингенский датирует информацию, предоставленную епископом Габалы Сирийской Гуго, тогда приехавшим на Запад, о восточном правителе по имени Иоанн, христианине-несториане, который был королем и пресвитером в некоем отдаленном государстве. Примерно двадцать лет спустя в Европе появилось письмо, адресованное императору Мануилу Комнину и различным западным правителям, пришедшее якобы от этого Иоанна и предполагающее возможность совместных действий против сил ислама. Это послание стало историческим cause celebre. Его автор остался неизвестным, а цели, с которыми оно было написано, стали предметом широкого обсуждения. Неясно только, как папа Александр оказался вовлечен в данное дело.
В любом случае, находясь в Венеции в 1177 году, Александр направил послание «королю индийцев», в котором он упомянул некоего Филиппа, члена папской свиты, путешествовавшего на Восток и проводившего переговоры с сановниками, считающимися подданными пресвитера Иоанна. Папа продолжал утверждать, что он послал вышеуказанного Филиппа, к которому он имел большое доверие, выяснить дальнейшие требования Иоанна и передать ему свои наилучшие пожелания.
Сточки зрения исторического факта, отъезд Филиппа стал окончанием вопроса. Об уехавшем члене папской свиты никто никогда более не слышал. Также практически в течение всего следующего века западные путешественники не проникали глубоко в Азию. Но пресвитер Иоанн и его письмо не были забыты, и попытки найти его самого или его преемников стали целью бесчисленных путешественников и миссионеров. Поэтому, хотя непосредственного продолжения путешествия Филиппа не последовало, Александр был первым понтификом, попытавшимся вступить в контакт с Внутренней Азией, по-видимому, ради получения более точной информации. Рассмотрев дела Александра, затрагивающие отношения с различными нехристианскими правителями в целом, неудивительным представляется тот факт, что Руфин, епископ Ассизский, в речи, открывшей Третий Латеранский Собор в 1179 года, назвал Александра одним из тех, чьи дела останутся в памяти людей навсегда.
В политическом мире времен Александра существовало еще одно государство, на котором следует остановиться подробнее, а именно необходимым представляется рассмотреть само папское государство и его столицу. Часто пребывая в изгнании вне Рима, Александр останавливался в различных церковных владениях, особенно в тех, которые недалеко отстояли от южной границы, или в Беневенто, папском анклаве внутри королевства Сицилии. Даже после заключения Венецианского мира, который ликвидировал непосредственную угрозу имперской оккупации, пограничные проблемы оставались неурегулированными, и отношения папы с местной знатью еще не стали стабильными. Тем не менее, благодаря своей настойчивости, Александр смог несколько укрепить свое положение. Был более четко определен его феодальный сюзеренитет над несколькими районами церковных владений, что способствовало уменьшению постоянного беспорядка. Некоторые представители старой знати потеряли свое прежнее влияние. Значимость церковных владений, как здесь следует отметить, заключалась не только в политическом отношении, то есть поддержании территориальной независимости (или относительной независимости) от внешнего давления, но и в финансовом. В век, когда правители всё еще жили, в основном, за счет «своего собственного имущества», по большей части регулярные поступления в папскую казну приходили с папских земель.
Правительство самого Рима продолжало действовать в лице сената по установлениям, данным Евгением III в 1145 году. Как видно из различных замечаний, разбросанных на предыдущих страницах, отношения Папы с горожанами часто были не доброжелательными. Установить причины этого не представляется трудным. Рим переживал критический период в своей истории во время которого влияние старых знатных семей несколько уменьшилось, а народ стал действовать более напористо. Кроме того, городское правительство относилось крайне ревниво к покушениям на свои новоприобретенные полномочия. К этому прибавился рост экономической активности, засвидетельствованный подписанием двух торговых договоров: одного с Генуей (1165 год), а другого с Пизой (1174 год).
Соответственно, вопреки своему особому статусу папского города, Рим все более напоминал северные коммуны. Сильная враждебность римлян, всегда ощущавшаяся его соседями. Тускулом и Альбано, подчеркивалась экономическим давлением и экспансией. В целом лояльный Александру как законному Папе город ревностно относился к любой попытке вмешательства в свои собственные дела. Изредка город уступал имперскому давлению или вел переговоры с имперскими представителями, чтобы сохранить свою автономию или вступить в борьбу со своими соперниками. Таким образом, после почти триумфального возвращения Александра в 1165 году его престиж оставался высоким только до тех пор, пока не прибыл император в 1167 году и не захватил город Льва. Когда Александр, находившийся в Риме, отверг предложения Барбароссы, враждебность горожан стала фактором, определившим его решение искать безопасности в Беневенто. С 1167 года до возвращения Папы после подписания Венецианского мира римляне оставались без Папы. В течение этого периода коммуна получила поощрение оспорить у Папы контроль над своим соперником, Тускулом, стены которого римляне в конечном счете разрушили. Таким образом, хотя Венецианский мир означал официальное завершение всех попыток императора установить свое управление на церковных землях, так же как и в Риме, и восстановил положение папского префекта, он не привел к действительному урегулированию отношений между Папой и коммуной.
В Риме, подобно многим другим значительным городам Европы XII века, находилась довольно большая еврейская община. Жизнь этой общины, попавшей под папское покровительство, можно назвать интереснейшей чертой периода времени Александра. Следует напомнить, что делегация евреев участвовала в приветствии Папы после его возвращения из Франции в 1165 году. Дальнейшее свидетельство деятельности общины во время понтификата Александра предоставляет следующий интересный отрывок из «Итинерария» (датирующегося приблизительно 1173 годом) Вениамина из Туделы, еврейского путешественника:
«Двести евреев проживают там, они очень уважаемы и никому не платят подать. Некоторые из них состоят чиновниками на службе у Папы Александра III, который является главным духовным руководителем Христианской Церкви. Первые из выдающихся евреев, проживающих там, – Даниил и Иехиель. Последний – один из папских чиновников, изрядно осмотрительный чумный человек, который часто посещает папский дворец, будучи управляющим его домашнего хозяйства и личного имущества».
Александр, как необходимо напомнить, вернулся в Рим после Венецианского мира. Но римляне отказались исполнить свои обязательства, поэтому три месяца после Третьего Латеранского Собора папа был принужден скитаться по различным городам римской области, посетив Веллетр, Тускул, Витербо. Христиан Майнцский не смог умиротворить область и попал в заключение в сентябре 1179 года. Некоторые представители местной знати и родственники Виктора IV, первого антипапы, предприняли попытку избрать другого антипапу. К счастью, им не удалось совершить столь неразумный поступок, и Александр отослал несостоявшегося Иннокентия III в монастырь. Тем временем уставший и постаревший Папа (в то время ему должно было быть больше семидесяти лет) достиг Витербо только, чтобы столкнуться там с мятежом. Так же как раньше он бежал из Рима, переодевшись пилигримом (1167 год), так и сейчас, он в одежде пилигрима попытался возвратиться в город. Возможно, символичным стало то, что его собственный земной путь окончился в Чивита-Кастеллана 30 августа 1181 года.
Таким образом, хотя Александр сделал многое, чтобы принести мир Церкви, не так хорошо обстояло дело с его собственным престолом. Когда кардиналы внесли тело папы в город для упокоения в Латеранской базилике, народ Рима встретил похоронные носилки грязью и камнями. Такими стали последние печальные дни одного из величайших деятелей в истории Церкви.
Глава X
Александр III и «папская монархия»
Два великих противоречия, разворачивавшихся во время правления Александра III, драматичных в столкновениях личностей, заслоняют собой более прозаические вопросы церковного управления; хотя именно это делало возможным осуществлять заботу о всех церквях, за которые шли великие сражения. Если данное достижение представляется менее захватывающим, оно не становится от этого менее важным. Действительно, понтификат Александра, первого в истории великого папы-юриста, явился наиболее важным периодом в развитии папской администрации, и характеризуя время его правления, исследователи применили термин, который стал со временем обычным, «папская монархия».
Территория, которая находилась под управлением Римской католической Церкви, включала фактически всю Западную Европу и многие периферийные земли благодаря усилиям различных проповедников, расширявших границы христианского мира и закладывавших основы для функционирования церковной организации. В число христианских земель также входили восточные земли, занятые крестоносцами, но они не захватывали ту часть христианского мира, которая попадала под непосредственную юрисдикцию константинопольского патриарха. Причины такого положения будут рассмотрены ниже, но здесь можно отметить, что в течение XII века было предпринято несколько попыток восстановить традиционные церковные отношения между латинянами и греками.
Центральный орган папской монархии известен под термином, часто использовавшимся в предыдущих главах, – Папская Курия. Совместно с Папой во главе управления церковными делами стояли кардиналы; им помогали разнообразные служащие – юристы, клирики и т. д., – которые составляли штат нескольких отделений Курии, принимая участие в совершении обыденных или торжественных богослужений либо представляя различные услуги, необходимые для поддержания такой организации. Более того, как становится ясно из превратностей понтификата Александра, Папская Курия редко останавливалась на длительное время в одном месте. Она путешествовала с Папой и функционировала, где бы он ни оказывался.
Подобно современным светским правительствам, папская монархия развивалась через координацию различных функций, которые изначально были разделены. В данном случае, например, Папа оказывается не столько епископом Рима, сколько «вселенским епископом», главой управления, обладающим такой властью, какую канонические юристы называли верховной властью юрисдикции. Также и кардиналы, которые одно время являлись просто священниками Рима и его ближайших предместий, стали представителями «римской Церкви», которая уже не была римской в ограниченном географическом смысле этого слова. Именно эти идеи церковного порядка, которые развивались в григорианскую эпоху, оказались господствующими, когда папская юрисдикция превратилась в реальность в большей степени, нежели осталась просто теорией. Теперь, во время возрождения прав в XII веке, данные концепции подвергались очищению и эволюции благодаря людям склада Александра III, каноническим юристам. Папская монархия значительно отличалась от светского правительства по трем важным позициям. Во-первых, географически она была широко распространена и для поддержания связи между ее различными частями требовала постоянного использования писем и легатов. Во-вторых, целью, для достижения которой была организована папская монархия, стало не только стремление добиться административной эффективности в управлении; скорее перед папской монархией стояла цель создать соответствующие условия христианской жизни для спасения людских душ. Папа являлся верховным пастырем, так же как и верховным правителем. И, наконец, Папа никогда не переставал быть епископом или патриархом
Рима, «Престола св. Петра», чтимого святого места. Государи, которые оказывали сопротивление земному правителю, вполне могли выразить почтение преемнику Апостола. Римляне могли сопротивляться светскому монарху римской церковной вотчины, но они не могли забывать то, что Рим являлся важным и популярным для христианских пилигримов центром и что только их епископ может должным образом исполнять торжественные религиозные функции, связанные с гробницей Рыбака, что представляет только одну из компетенции Папы, административную, которая рассматривается в настоящей главе.
Хотя Александр III испытывал сомнения в справедливости провозглашения широкой власти Церкви в светском королевстве, он был совершенно убежден, что папская юрисдикция в церковной организации являлась первенствующей. Эта мысль четко прослеживается в его действиях, заявлениях и письмах. Как святой Петр был наделен особой властью, выделяющей его среди апостолов, так и папа, как и его преемники, обладали абсолютным главенством над другими прелатами. Он мог издавать законы, судить и управлять и, хотя и редко шел на это, но мог также при необходимости освобождать священников от должности.
Вместе с Папой в управлении участвовало собрание, или «коллегия», кардиналов. Действующее число членов коллегии кардиналов немного уменьшилось во время схизмы, но в целом сохранило количество примерно в тридцать человек, двадцать восемь кардиналов составляли Курию в начале понтификата Александра III, и двадцать шесть – в конце. Не менее тридцати четырех кардиналов были назначены Александром заменить умерших. Поскольку многие из них сразу назначались кардиналами-епископами, а в Курии зафиксировано относительно мало продвижений по служебной лестнице в это время, видимо, Александр считал, что он призвал к себе на службу лучшие таланты, имеющиеся в распоряжении. Хотя большинство кардиналов являлись итальянцами и некоторые из них были юристами, церковное и национальное происхождение кардиналов различались. В Курии сидели представители как монашеских организаций, так и белого духовенства. Некоторые получали назначение на должность после консультаций с их будущими коллегами. Два кардинала стали членами Курии на Третьем Латеранском Соборе 1179 года.
Полное собрание кардиналов во главе с Папой было названо «консисторией». Она представляла собой консультативную ассамблею, власть которой проистекала от ее статуса совета верховного понтифика. Коллегия кардиналов ни в коем случае не являлась законодательным органом. Тем не менее ее влияние было значительным. Папа постоянно консультировался с кардиналами, поскольку, видимо, предпочитал действовать в решении главных проблем, обсудив их и спросив совета. Многие из решений Александра начинаются с заявления о позиции кардиналов, и под некоторыми из наиболее важных решений Папы стоят их подписи. Конечно, часто имелись разные мнения среди кардиналов, как мы показывали на предшествующих страницах, и тогда полная ответственность за принятие решения ложилась на самого Александра, который должен был выбрать курс, которым Курии нужно следовать.
Хотя многие дела решались консисторией, все более необходимым становилось делегировать полномочия на ведение определенного рода дел специализированному персоналу. Действительно, важной чертой средневековой папской монархии являлось развитие административных органов, созданных только для этой цели. Только два института папской монархии, канцелярия и camera, уже, очевидно, обладали определенными функциями во время вступления Александра III в должность и не испытали никаких значительных изменений в своей деятельности во время его понтификата. По причине объема и важности корреспонденции Папы и необходимости поддерживать контакт с отдаленными землями, канцелярия и папский секретариат приобрели значительный престиж. Ни один из предшествующих пап не вел столь активную переписку с таким большим количеством различных людей, как Александр III, несмотря на его постоянные странствия. В 1888 году Филипп Яффе и Вильгельм Ваттенбах составили список из 3840 сохранившихся писем, и бoльшая их часть датируется временем Александра. Примечательной чертой деятельности канцелярии во время правления Александра явилось отсутствие кардинала-канцлера. Эта должность, которую он сам
занимал до своих выборов, оставалась вакантной до 1178 года, когда он назначил на этот пост Альберта, кардинала церкви св. Лаврентия в Луциниях, старого друга и человека, с которым когда-то вместе учился. Таким образом, Александр являлся в некотором смысле сам канцлером, сохраняя должность с собственным прямым контролем.
Также и камера, финансовый орган папства, не подверглась значительным изменениям. Кардинал Бозон, автор важного раздела Liber pontificalis и одного из важнейших источников о жизни Александра, занимал пост камерария до его смерти в 1178 году. Растущая активность папского управления соединялась с исключительными крайностями существовавшей во время схизмы политической ситуацией, которая создала серьезные финансовые проблемы, так и не получившие удовлетворительного разрешения. Обычно доходы Святого Престола состояли, как дополнение к скудным феодальным ресурсам церковной вотчины, из сборов, таких как денарий святого Петра, первоначально представлявшего собой налог, накладывавшийся на домашнее хозяйство и собиравшийся в определенных северных странах, а также из сеnsus, который папа получал от вассальных королевств, Сицилии и Португалии, например, или от свободных монастырей. Выплаты сеnsus, однако, обычно не были регулярными. Действительно, понтификат Александра, как видно из его частых обращений о помощи, явился периодом финансовой нужды и накопления долга, который остался его преемникам.
Признание папы верховным судьей очевидно из быстро увеличивавшегося количества обращений в Курию, что, как отмечалось, не было новым явлением, но проблема разрешения всех спорных вопросов оставалась серьезной. Александр, видимо, считал, что дела мирян, в отличие от тех, кто находился под юрисдикцией Церкви, следует исключать из рассмотрения. Он настаивал, однако, что дела следует исследовать bona fide[10]10
Добровольно (лат.).
[Закрыть] и, если дело представлялось трудным, относить его на усмотрение Святого Престола. Когда дела разрешались делегацией, самой обычной процедурой являлось назначение судьи-делегата, что позволяло рассматривать дела на родине истца и ответчика, но перед папским судьей. Одним из самых значительных вкладов Александра в развитие канонического права можно считать очищение и расширение процедуры, образа действия судьи-делегата, а наиболее часто в качестве судьи-делегата выступал епископ Варфоломей Экзетерский, который, как мы видели, получил детальные инструкции в отношении изучения дела тех, кто был вовлечен в убийство Бекета.
Судья-делегат, на чем настаивал Александр, всегда обладал высшей властью над местным церковным уставом в случае обсуждения. Когда, например, епископ Шартрский поднял вопрос по этой проблеме, Папа дал ему следующий ответ, который был позднее включен в официальную коллекцию декреталий:
«…судья, делегированный нами, действует вместо нас. Он, поэтому, главнейший в этом деле и попугает первенство над теми, чье дело ему досталось для разрешения. Соответственно, если епископ или любой другой человек, даже если не находятся под его юрисдикцией, упорствуют или не подчиняются в деле, которое мы делегировали своему судье, он может, в соответствии с характером и сутью действия, быть принужден приговором отлучения или отрешения от должности по решению судьи-делегата. Таким образом, судья, действуя в соответствии с характером дела, может запретить епископу входить в церковь или заниматься духовной деятельностью либо даже наложить отлучение от Церкви на земли, принадлежащие его юрисдикции».
Наконец, поскольку папа и кардиналы не могли рассматривать все дела, доставлявшиеся в Курию, при ней постепенно появился специализированный персонал, который разрешал менее значительные дела. Понтификат Александра, таким образом, положил начало специализации, которой суждено было привести позднее к формированию отдельных куриальных судов. В целом Александр дал мощный импульс в решении вечной задачи синтеза в судебной практике Церкви.
Чтобы сохранить контакт со всеми частями христианского мира и обеспечить эффективное управление папской монархии, Александр использовал легатов. Так же как поступали его предшественники, он назначал легатов двух типов, legati nati (местные легаты) и legati a latere (легаты со стороны). Первые были обязаны своим званием тому, что занимали постоянно официальный пост при Престоле, приобретая этот титул. Архиепископ Кентерберийский является примером такого легата. Определенные legati nati, такие как Эберхард Зальцбургский, Конрад Виттельсбахский, Гальдино Миланский, например, хорошо служили Папе. Хотя Александр мог и действительно ограничивал их юрисдикцию, можно было составить апелляцию, исходя из их постановлений. Это в некоторой степени уменьшало возможности местных легатов оказаться слишком вовлеченными в местные обстоятельства.
Легаты со стороны посылались непосредственно Папой, обычно для особенных целей и часто на ограниченный период времени. Они сохраняли тесный контакт с Курией, и от них ожидали регулярных докладов. Им поручали более серьезные дела и их власть обладала первенством над властью местных легатов.
Подавляющее большинство легатов являлись членами римской Церкви и, как следствие, были сведущи в традиции и политике Курии. Они тщательно отбирались, поддерживали и знали цели Папы, и являлись талантливыми людьми. Их имена известны, а их карьеры исследовались, на предыдущих страницах данной книги также получила освещение работа некоторых из них. Изредка они могли действовать как судьи-делегаты, но обычно выполняли административные или дипломатические задачи. Более того, Александр ожидал, что его легаты будут соблюдать такт и выдержку и в общем действовать так, чтобы стяжать славу римской Церкви. Следующий отрывок из одного из писем Папы с инструкциями показывает это: «…во всех ваших делах и поступках сохраняйте осторожность и благопристойность, которые можете заслуживать по мнению Господа и человека и так, чтобы римская Церковь получила большую честь и славу».
Очевидно также, что Александр, возможно из-за своей собственной дипломатической активности, рассматривал опыт легатства как ценный элемент в подготовке для работы в Курии. Действительно, практически все кардиналы служили в одно или другое время легатами. В целом сто пятьдесят легатов были заняты в шестидесяти миссиях – некоторые, конечно, выполняли функции легатов не один раз – и составляли внушительный дипломатический корпус.
Особой областью папского деятельности являлась канонизация святых. Раньше в канонизации святых превалировали скорее случайные методы, которые приводили к появлению различных местных святых. Ко времени Александра все более широкое распространение среди западных христиан получала идея приобретения официального одобрения Рима. Александр укрепил тенденцию централизации в деле канонизаций святых. В письме королю Дании, в котором он ссылался на местные суеверные обычаи, он использовал следующие слова, позднее включенные в официальное каноническое собрание: «…даже если многие знаки и чудеса были представлены через него, вам не разрешается чтить его публично без утверждения римской Церкви».
Александр неизменно рассматривал каждое дело, представленное ему, с особой заботой. Хотя в 1161 году он согласился на просьбу канонизировать Эдуарда Исповедника, на Соборе в Туре он отверг петицию Томаса Бекета в пользу Ансельма, одного из предшественников Бекета в качестве архиепископа Кентерберийского. Папа исследовал все обоснования, включая чудеса, рассматривая личности Кнута Датского (1169) и Бекета (1173). Некоторые другие дела были представлены на рассмотрение Александра, но, возможно, наиболее впечатляющим явилось дело св. Бернара Клервоского; и не менее поразительным аспектом этой канонизации стал тот факт, что она должна была быть провозглашена бывшим ученым времени Абеляра. Более того, здесь Папа ни разу не сослался на чудеса. Скорее он подчеркивал духовные и аскетические качества нового святого.