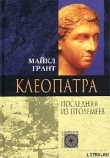Текст книги "Эпиграммы"
Автор книги: Марк Марциал
Жанр:
Античная литература
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 7 страниц)
Марк Валерий Марциал
ЭПИГРАММЫ
Текст печатается по изданию:
Марциал Марк Валерий. Эпиграммы. – М.: Худож. лит., 1968. – (Б-ка антич. лит.)
За отсутствующие эпиграммы благодарим издательство. – Прим. OCR.
ЭПИГРАММЫ МАРЦИАЛА
I
Наряду с такими всеми признанными корифеями латинской поэзии, как Вергилий, Гораций, Овидий и Катулл, не меньшей славой пользовался и при жизни и по смерти Марк Валерий Марциал,
...по всему известный свету
Эпиграммами в книжках остроумных.
нисколько не уступая современнику своему – сатирику Ювеналу. «Слышу, – говорит в одном из своих писем Плиний Младший, – что умер Валерий Марциал, и жалею об этом. Он был умен, ловок и остроумен. В стихах его было много соли и желчи, но не меньше и простодушия» (III. 21). Но, совершенно правильно оценив поэтическое дарование и мастерство Марциала, Плиний ошибся, однако, сказав, что «эпиграммы Марциала не будут вечными». Прошло и пройдет немало столетий после смерти этого мастера эпиграмм, но они никогда не забывались и не забудутся.
Марциал не был уроженцем Италии. Он, как и философ Сенека, и ритор Квинтилиан, и поэт Лукан, был родом из Испании, из города Бильбилы (около нынешнего города Калатаюда). В Рим Марциал приехал в возрасте двадцати трех—двадцати шести лет, в последние годы правления Нерона, но первые его произведения были изданы им значительно позд– нее – так называемая «Книга зрелищ» в 80 году (при Тите), а «Гостинцы» и «Подарки» в 84 – 85 годах.
Однако из первого же стихотворения первой книги его «Эпиграмм» видно, что Марциал стал выступать как поэт значительно раньше, чем начал объединять свои эпиграммы в отдельные книги и поручать их переписку и распространение римским книгопродавцам. Стремясь войти в римское общество и обеспечить себе известность и признание в высших его кругах, он становится клиентом то одних, то других римских патронов, являясь к ним с приветствием ранним утром, сопровождая их на форум и получая от них, наряду с толпою других клиентов, разные подачки, то в виде корзиночки с едой – спортулы, то в виде ничтожной суммы денег, то в виде плаща или тоги. Постоянно в эпиграммах Марциала мы находим об этом упоминания, по которым, однако, никак нельзя заключать, что он действительно нуждался в подачках (см. VI, 82 и др.). Марциал только не хочет выделяться из ряда других попрошаек-клиентов, доставляя этим, конечно, немалое удовольствие своим покровителям. А все жалобы Марциала на свою бедность – это, несомненно, литературный прием, и по ним никак нельзя выводить заключений о каком-то жалком положении в Риме этого поэта.
Несмотря на то что в своих эпиграммах Марциал постоянно говорит о себе, далеко не все его стихотворения надо принимать на веру и считать автобиографическими. Но есть среди этих эпиграмм и Такие, каким можно, безусловно, доверять – и подобных эпиграмм у него немало.
Вполне понятно, что по приезде в Рим Марциал далеко не сразу обосновался в нем с удобствами; сначала ему пришлось поселиться в скромной наемной квартире, но впоследствии (во всяком случае, не позднее 94 г.) у него был и собственный дом в Риме (см. IX, 18) и даже (не позднее 85 г.) усадьба в Номенте, в двадцати километрах на северо-восток от Рима (II, 38). Поэтому можно с уверенностью сказать, что быть клиентом заставляла Марциала не нужда или бедность. Положение его в Риме при Домициане (81—96 гг.) совершенно упрочилось. Прожил он в Риме целых тридцать четыре года (X, 103 и 104; XII, 34), лишь один 87 год проведя на севере Италии, главным образом в Корнелиевом форуме (ныне Имола), где он издал третью книгу своих эпиграмм (111, 4). По эпиграммам этой книги видно, что Марциал считает себя человеком вполне обеспеченным и самостоятельным, а уехать ненадолго из Рима заставило его то, что
надоело ему тогу напрасно таскать,
то есть необходимость подчиняться надоедливым правилам и обычаям столичной жизни и требованиям патронов (III, 4). Но скоро Марциала опять потянуло в Рим, в привычную ему оживленную, хотя и суетливую обстановку. Надо, однако, сказать, что, живя в Риме, Марциал никогда не забывал о своей родной Испании, к которой был он искренне привязан (I, 49; IV, 55; X, 96, и др.).
Причины, заставившие Марциала навсегда покинуть Рим после смерти Домициана, точно не известны, но, скорее всего, его отъезд на родину объясняется резкой переменой его общественного положения при Нерве и Траяне. Марциал был уже стар, чтобы привыкать к новым порядкам, да и устал от жизни в шумной столице. Приехав в свою родную Бильбилу, Марциал отдыхает и всласть спит до позднего утра «сном глубоким и крепким», «тоги пет и в помине», и живет он, как говорит в послании к Ювеналу, тихой сельскою жизнью (XII, 18). Богатая и образованная испан– ка Марцелла подарила Марциалу прекрасное поместье (ХII, 31), и кажется поэту, что нашел он наконец под старость лет спокойное пристанище. Он забрасывает литературные занятия и не издает больше эпиграмм. У него нет и привычных ему слушателей, нет ни библиотек, ни театральных зрелищ, ни общества. И это начинает его раздражать и беспокоить. Но вот приезжает в Испанию его друг и земляк Теренций Приск, и Марциал, в котором отнюдь не угасло его дарование, вновь принимается за привычное дело и выпускает новую, уже последнюю, книгу эпиграмм.
II
Дошедший до нас сборник эпиграмм Марциала состоит из пятнадцати частей, из которых первая и обе последние не относятся к тем «Книгам эпиграмм», на которые сам Марциал поделил свое основное произведение, состоящее из двенадцати книг, следующих одна за другой в хронологическом порядке их выпуска в свет. Об этом он сам говорит в прозаических предисловиях к некоторым книгам, а также и в самих эпиграммах (см. предисловие к книге VIII, начальную эпиграмму книги VI, вторую эпиграмму книги X, где прямо указаны номера книг). Таким образом, Марциал считал своим основным произведением, своим opus, как он говорит в предисловии к книге VIII, именно двенадцать книг эпиграмм. Тот же порядок, в котором издаются теперь эпиграммы Марциала, ему самому не принадлежит и даже нарушает хронологическую последова– тельность так называемыми XIII и XIV книгами («Гостинцы» и «Подарки»). Эти последние две книги представляют собою наиболее ранние произве– дения Марциала, так же как и «Книга зрелищ». Тема «Книги зрелищ» – описание представлений в открытом при Тите амфитеатре Флавиев (Колизее), тема книг XIII и XIV – надписи для подношений, главным образом в дни декабрьского праздника Сатурналий.
От этих ранних стихотворений Марциала резко отличаются его «Две– надцать книг эпиграмм». Тема их – жизнь во всевозможных ее проявлениях, доступных наблюдению Марциала и его интересующих. Его современник Ювенал тоже описывал жизнь, но существенная разница между этими поэтами, во-первых, в том, что Марциал описывает жизнь и нравы современного ему Рима, говоря о том, что он видит и слышит сегодня, а Ювенал в большинстве случаев язвит своими сатирами не то, что есть, а то, что было; во-вторых, у Ювенала «порождается стих возмущеньем» (сатира I, 79), тогда как Марциала редко покидает веселый юмор, и даже то, что его возмущает, он изображает обычно без злобы, а с насмешкой, хотя и язвительной, и очень острой.
Марциал всецело живет настоящим и наслаждается этим настоящим как истинный художник: все его занимает, все он подмечает и сейчас же зарисовывает ловкими, смелыми и яркими чертами. Однако далеко не все эпиграммы Марциала носят насмешливый или сатирический характер. Немало у него и таких, какие скорее следует назвать лирическими сти– хотворениями. К этим лирическим эпиграммам Марциала относятся те, в которых он говорит об Испании (1, 49; X, 104; XII, 18; XII, 31), эпиграммы, обращенные к Юлию Марциалу (например, IV, 64), и другие, даже слегка насмешливые, вроде описания собачки Иссы (I, 109). «Он все видел и все описал: блюда и обстановку богатого пира и убогого угощения, наряд щеголя и убранство гетеры, тайны римских терм и спален, роскошь городских дворцов и загородных дач, все прельщения и разврат театров и цирка, вакханалии Субуры и ужасы Колизея и вместе с тем – такова обаятельная сила его дарования – заставляет еще нас, после восемнадцати столетий, грустить с ним над смертью рабыни-малютки и сочувствовать отцу, льющему слезы над могилой безвременно похищенной дочери» [А. Олсуфьев. Марциал, М., 1891, стр. 80].
Единственным материалом для художественной литературы должна быть, по убеждению Марциала, жизнь, а никак не перепевы и безжизненные переработки мифов, что в его время хоть и считалось «хорошим тоном» в литературе, но успеха у публики не имело: на слова от лица Флакка (IV, 49):
Но ведь поэтов таких превозносят, восторженно хвалят! —
Марциал замечает:
Хвалят их, я признаю, ну а читают меня, —
и советует читать свои эпиграммы, в которых (X, 4)
...сама жизнь говорит: «Это я».
Здесь ты нигде не найдешь ни Горгон, ни Кентавров, ни Гарпий,
Нет: человеком у нас каждый листок отдает.
И хотя Марциал пользуется привычными для его читателей мифо– логическими образами, прибегая к ним почти исключительно в «Книге зрелищ» и в эпиграммах, посвященных Домициану, но сюжетом своих эпиграмм он мифов не делает.
К историческому эпосу современных ему поэтов Марциал относится гораздо терпимее, чем к мифологическим поэмам, и даже восхваляет не только Лукана (X, 64), но и Силия Италика, написавшего поэму о Пунической войне. Все-таки увлечение историческими сюжетами Марциалу чуждо, что хорошо видно по эпиграмме VI, 19, в которой он насмехается над судебным оратором, забывающим об основной теме речи и, вместо того чтобы говорить «о трех козах», во все горло кричащим:
...о битве при Каннах, Митридате,
О жестоком пунийцев вероломстве
И о Муциях, Мариях и Суллах.
Историческое прошлое, в сущности, так же мало интересует Марциала, как и мифологические предания и сказки, и он касается этого прошлого почти исключительно в тех случаях, когда оно связано с трагической участью отдельных людей (см., например, эпиграммы о самоубийстве Аррии – I, 13, или вдовы Брута, Порции, – 1, 42, о судьбе Помпея и его сыновей – V, 69 и 74) или с положением поэтов в эпоху Августа, когда к писателям относились лучше, чем при Домициане (1, 107; VIII, 55 (56); XI, 3). Но никакого преклонения перед стариной у Марциала нет. «Дедовский век» для него, безусловно, хуже «современности», когда «Рим возродился» (VIII, 55, и VII, 61), даже при всем разложении нравов в императорскую эпоху, какое он так ярко живописует в своих эпиграммах.
Правда, поэты, классики греческой и римской литературы – Гомер. Сафо, Софокл, Вергилий, Гораций – остаются для Марциала непре– рекаемыми авторитетами, но иной раз ом и подшучивает над ними (VII, 69; X, 35; VIII, 61, и др.) и ничего существенного ни о них, ни об элегиках эпохи Августа не говорит. Даже любимый его поэт, Катулл, интересен для Марциала только игривыми стихотворениями, о которых он упоминает неоднократно (1, 7; VI, 34; VII, 14, и др.). Но такие старинные поэты, как Акций, Пакувий и даже Луцилий (XI, 90), которыми увлекаются поклон– ники древности, Марциалу противны так же, как и всякие вычурные стихотворцы, произведения которых понятны только при ученых к ним комментариях (II, 86; X, 21).
III
Из современных ему писателей Марциал упоминает многих, но в большинстве случаев они нам не известны, и судить о них мы не можем; да и суждения о них самого Марциала очень поверхностны. Кроме этого, тех, кто ему не по вкусу, Марциал настоящими именами не называет; он твердо держится правила не наносить никаких личных оскорблений, и тех, кого он обличает или над кем насмехается. Марциал всегда называет вымышленными именами, а то и вовсе никак не называет.
Из писателей, которых он одобряет и произведения которых до нас дошли, он упоминает Лукана, Силия Италика, Персия, Квинтилиана. философа Сенеку и Плиния Младшего. К поэту Стацию, как автору мифологического эпоса, Марциал, наверно, относился отрицательно и поэтому нигде не называет его по имени; можно только подозревать, что в эпиграммах II, 89, и IX, 50 Стаций выведен под именем Гавра. Марциал был неизменным соперником Стация, когда писал с ним на одни и те же темы [Общие темы у Марциала и у Стация в следующих произведениях: I) Бани Этруска – Марциал, VI, 42, Стаций – Сильвы, I, 5; 2) Настольная статуя Геркулеса – Марциал, IX, 43, 44, Стаций, IV, 6; 3) Смерть Этруска – Марциал, VI, 83 и VII, 40, Стаций, III, 3; 4) Лукан – Марциал, VII, 21-23, Стаций, II, 7; 5) Отпущенник Атедия Мелиора – Марциал, VI, 28. 29. Стаций, II, 1; 6) Женитьба Стеллы – Марциал, VI, 21, Стаций, I, 2; 7) Волосы Эарина – Марциал, IX, 16, 17, 36, Стаций, III, 4. В качестве примера первые из указанных «сильв» Стация мы даем в приложении.].
Никого, однако, из современных Марциалу римских поэтов нельзя противопоставить ему как соперника в области эпиграммы; да, вероятно, никто и не был таким специалистом в этом литературном жанре, каким
был Марциал. Эпиграммы давали ему возможность откликаться на самые разнообразные явления жизни. Эпиграммы его остаются одним из важ– нейших источников для истории римского быта императорского времени. Кроме того, редкий писатель умеет так живо изобразить не только все, что его окружает, но и самого себя, во всем своеобразии собственной личности. Читая его то едкие и злые, то добродушные и веселые стихи, то поэтические описания Испании или римских домов и загородных вилл, то льстивые восхваления Домициана и его приближенных, то трогательные эпитафии, то мечтательные строки о тихой и спокойной жизни, нельзя не почувствовать искренней привязанности к этому поэту и в то же время негодования на него. Невольно вспоминается его эпиграмма (ХII, 46):
Трудно с тобой и легко, и приятен ты мне и противен:
Жить я с тобой не могу, и без тебя не могу.
Ф. ПЕТРОВСКИЙ
ЭПИГРАММЫ
КНИГА ЗРЕЛИЩ
1
О чудесах пирамид пусть молчит Мемфис иноземный,
Ты, ассириец, оставь свой воспевать Вавилон;
Тривии храмом пускай иониец не хвалится нежный,
Пусть и алтарь из рогов Делос забудет теперь;
Пусть и карийцы свой Мавзолей, висящий в эфире,
Меры не зная хвалам, не превозносят до звезд.
Сооружения все перед цезарским амфитеатром
Меркнут, и только его пусть величает молва.
2
Здесь, где лучистый колосс видит звезды небесные ближе,
Где на дороге самой тянутся кверху леса,
Дикого прежде царя сверкал дворец ненавистный,
И во всем Риме один этот лишь дом уцелел.
Здесь, где у всех на глазах величавого амфитеатра
Сооруженье идет, были Нерона пруды.
Здесь, где дивимся мы все так быстро воздвигнутым термам;
На поле гордом теперь жалких не видно домов.
Там, где далекую сень простирает Клавдиев портик,
Крайнее прежде крыло царского было дворца.
Рим возродился опять: под твоим покровительством, Цезарь,
То, чем владел господин, тешит отныне народ.
3
Есть ли столь дальний народ и племя столь дикое, Цезарь,
Чтобы от них не пришел зритель в столицу твою?
Вот и родопский идет земледелец с Орфеева Гема,
Вот появился сармат, вскормленный кровью коней;
Тот, кто воду берет из истоков, им найденных, Нила;
Кто на пределах земли у Океана живет;
Поторопился араб, поспешили явиться сабеи,
И киликийцев родным здесь благовоньем кропят.
Вон и сикамбры пришли с волосами, завитыми в узел,
И эфиопы с иной, мелкой, завивкой волос.
Разно звучат языки племен, но все в один голос
Провозглашают тебя, Цезарь, отчизны отцом.
4
Злобных смутьянов толпа, враждебная жизни спокойной,
Что донимала всегда жалких богатых людей,
Цирку была отдана, но мала для виновных арена:
Сослан доносчик, куда сам он народ отправлял.
В ссылку доносчик идет, из столицы Авзонии изгнан:
Это нам надо причесть также к подаркам вождя.
5
Верьте тому, что с быком диктейским сошлась Пасифая:
Древняя ныне сбылась сказка у нас на глазах.
Пусть не дивится себе старина глубокая, Цезарь:
Все, что преданье поет, есть на арене твоей.
6
Служит воинственный Марс тебе в необорном доспехе,
Цезарь, но мало того: служит Венера сама.
О поражении льва в обширной долине Немеи,
О Геркулесовом встарь подвиге пела молва.
Пусть замолчит стародавняя быль: такое же чудо,
Цезарь, ты дал совершить ныне и женской руке.
7
Как Прометей, ко скале прикованный некогда скифской,
Грудью своей без конца алчную птицу кормил,
Так и утробу свою каледонскому отдал медведю,
Не на поддельном кресте голый Лавреол вися.
Жить продолжали еще его члены, залитые кровью,
Хоть и на теле нигде не было тела уже.
Кару понес наконец он должную: то ли отцу он,
То ль господину пронзил горло преступно мечом,
То ли, безумец, украл потаенное золото храмов,
То ли к тебе он, о Рим, факел жестокий поднес.
Этот злодей превзошел преступления древних сказаний,
И театральный сюжет в казнь обратился его.
8
Ты, раздираемый здесь на арене луканским медведем,
Как ты хотел бы, Дедал, крыльями вновь обладать!
9
Заполонивший собой целиком твою, Цезарь, арену,
На неожиданный бой ринулся вдруг носорог.
Голову низко нагнув, разгорелся он яростью страшной!
О, что за бык, коль ему бык только чучелом был!
10
Ранил предательски лев вожака коварною пастью,
Руки привычные в кровь дерзко посмев разодрать.
Но за проступок такой понес он должную кару:
Прежде не знавший бича, ныне узнал он копье.
Должен каким же быть нрав у людей при правителе нашем,
Если и норов зверей может он властно смягчать.
11
Быстро катался медведь кувырком по кровавой арене,
Но уж не смог убежать, в птичьем увязнув клею.
Можно отбросить теперь железо блестящих рогатин
И, замахнувшись, метать больше не надо копья.
Может добычу настичь охотник в воздушном пространстве,
Если угодно ему зверя, как птицу, ловить.
12
В ожесточенной игре, в честь Дианы Цезарем данной,
Бок супоросой свинье метким пронзили копьем,
И поросенок прыгнул из раны матери жалкой...
Злая Луцина, и ты родами это сочтешь?
На смерть хотелось бы ей пронзенной быть множеством лезвий.
Лишь бы для всех поросят горестный выход открыть.
13
Кто отрицает, что Вакх порожден был матери смертью?
Верьте, сам бог родился так же, как этот зверек.
Ранена тяжким копьем свинья супоросая насмерть,
Разом утратила жизнь и подарила ее.
О, как был верен удар, нанесенный меткой десницей!
Я полагаю, была это Луцины рука.
Силу обеих Диан, умирая, свинья испытала:
Как облегчающей мать, так и разящей зверей.
14
Дикая пала свинья уже на сносях и тут же
Опоросилась она, плод через рану родив.
Но поросенок не сдох, а бежал от матери павшей:
Дара природы ничто не застигает врасплох!
15
Высшая честь, Мелеагр, которой ты славен в преданье,
Для Карпофора – пустяк: трудно ли вепря убить?
Он на рогатину взял и медведя в стремительном беге,
Что под арктическим был небом сильней всех зверей;
Он ведь и льва поразил невиданных раньше размеров,
Что Геркулесовой мог быть бы достоин руки;
Он и пантере нанес быстролетной смертельную рану, —
Подвигов столько свершив, был он по-прежнему бодр.
16
Быстро уносится бык со средины арены к эфиру:
Здесь не искусства совсем, а благочестия труд.
16б
Некогда бык перенес через братнее море Европу,
Ныне Алкида вознес в звездные области бык.
С Цезаревым сопоставь ты тельца Юпитера, Слава:
Бремя не меньшее бык нынешний выше вознес.
17
Ежели слон пред тобой покорно склоняется, Цезарь,
Хоть перед этим быка в ужас у нас приводил,
Не по приказу он делает так, вожаком не научен:
Нашего бога и он чувствует, верь мне, в тебе.
18
Ты, что привыкла лизать укротителя смелую руку
И средь гирканских тигриц редкостным зверем была,
Дикого льва, разъярясь, растерзала бешеной пастью:
Случай, какого никто в прежнее время не знал.
В дебрях лесов у нее не бывало подобной отваги:
Лишь очутившись средь нас, так озверела она.
19
Бык, что метался по всей арене, гонимый огнями,
И, на бегу подхватив, чучела вскидывал вверх,
Пал наконец, поражен ударом сильнейшего рога,
Лишь попытался поднять так же легко и слона.
20
В цирке просили одни Мирина, другие – Триумфа;
Цезарь обоих, подняв обе руки, обещал.
Лучше никак он пресечь не мог бы забавного спора.
Что за пленительный ум в непобедимом вожде!
21
Все, что Орфеев театр, говорят, представил Родопе,
Здесь на арене теперь, Цезарь, предстало тебе.
Скалы по ней поползли, и лес побежал баснословный,
Напоминая собой сказочный сад Гесперид.
Вместе с домашним скотом были всякие дикие звери,
И наверху над певцом реяло множество птиц.
Сам он, однако же, пал, растерзан коварным медведем.
Только лишь это одно было молве вопреки.
21б
Если медведицу вдруг земля на Орфея исторгла,
Не удивляйтесь: она от Евридики пришла.
22-23
Сами, от страха дрожа, вожаки носорога дразнили,
Но не спеша закипал зверя огромного гнев.
Стал сомневаться народ в обещанной Марсовой битве,
Как пробудилася вновь ярость привычная в нем.
Так же он рогом двойным медведя тяжелого вскинул,
Как бросает к звездам чучела встречные бык.
Так направляет удар норикской рогатины меткой
Твердой рукою своей юный еще Карпофор.
Пару тельцов нипочем пронести ему было на шее,
И отступили пред ним буйвол и страшный бизон;
Лев, побежав от него, стремглав на оружье наткнулся.
Вот и поди негодуй на промедленье, толпа!
24
Если из дальней страны запоздалый ты, зритель, явился
И для тебя первый день зрелищ священных теперь,
Пусть не обманет тебя Эниона морская судами,
Точно на волнах морей: суша была здесь сейчас.
Ты мне не веришь? Смотри на подвиги водного Марса, —
Миг – и воскликнешь уже: «Море здесь было сейчас».
25
Если ночная волна тебя, Леандр, пощадила,
Не удивляйся: была Цезаря это волна.
25б
Смелый Леандр, на пути к своей возлюбленной милой
Бурной противясь воде и выбиваясь из сил,
Так, говорят, восклицал, обращаясь к вздувшимся волнам:
«Смилуйся, море! Топи при возвращенье меня!»
26
Ловко обученный хор Нереид резвился по морю,
Строем подвижным пестря лоно уступчивых вод.
То нам трезубец прямой угрожал, то изогнутый якорь,
То появлялось весло, то появлялся корабль;
Звезды лаконцев, пловцам любезные, ярко сверкали,
И раздувался большой парус у нас на глазах.
Кто ж изобрел на волнах текучих столь хитрые игры?
Иль их Фетида вела, иль научилась вести.
27(29)
Так как затягивал Приск, да и Вар затягивал битву,
И не давал никому долго успеха в ней Марс,
Требовать начал народ громогласно, чтоб их отпустили,
Цезарь, однако же, свой твердо закон соблюдал:
Ради награды борьбу продолжать до поднятия пальца;
Всюду закон у него – в частых пирах и дарах.
Все же нашелся исход наконец борьбе этой равной:
Вровень сражались они, вровень упали они.
Цезарь обоим послал деревянные шпаги и пальмы:
Это награда была ловкому мужеству их.
Только под властью твоей совершилось, Цезарь, такое:
В схватке один на один тот и другой победил.
28(27)
Если бы наш Карпофор порожденьем был древности, Цезарь,
Ни партаонский кабан для невозделанных нив,
Ни Марафону телец, ни лев для лесистой Немеи,
Ни для Аркадии вепрь не были б страшны ничуть.
Вооруженной рукой он разом прикончил бы гидру,
Да и Химеру одним он бы ударом сразил.
И без Медеи запрячь он быков огнедышащих мог бы,
И Пасифаиных двух он победил бы зверей;
Коль воплотилась бы вновь о морском чудовище сказка,
Он Гесиону один и Андромеду бы спас.
Пусть исчисляет молва Геркулесовы подвиги: больше
Чести зараз сокрушить двадцать свирепых зверей.
29(30)
Поднята сворою, лань от молосских борзых убегала.
И, ускользая от них, всячески путала след.
Но, как молящая, вдруг у ног она Цезаря стала,
И не осмелились псы тронуть добычу свою.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Это награда была за постиженье вождя.
В Цезаре есть божество! Его сила и воля священны!
Верьте: ведь звери еще не научилися лгать.
30(28)
Август устроил, чтоб здесь ходили в сражение флоты
И корабельной трубой гладь будоражилась вод.
Цезаря нашего дел это часть ничтожная: чуждых
Зрели Фетида в волнах и Галатея зверей;
Видел Тритон, как летят по водной пыли колесницы,
И за Нептуновых он мчащихся принял коней;
Вздумав жестоко напасть на суда враждебные, в страхе
Пред обмелевшей водой остановился Нерей.
Все, на что мы глядим и в цирке и в амфитеатре,
Все это, Цезарь, тебе щедрой водою дано.
Пусть же умолкнут Фуцин и пруды злодея Нерона:
Будут в веках вспоминать лишь навмахию твою.
31(32)
Наспех стихи я писал. Извини: не достоин презренья
Тот, кто торопится быть, Цезарь, угоден тебе.
32(31)
Если сильнейшим ты был побежден, в этом мало бесчестья,
Но коль слабейший тебя враг одолеет – позор.
33
Флавиев род, как тебя обесчестил твой третий наследник!
Из-за него не бывать лучше б и первым двоим.
КНИГА I
Надеюсь, в своих книжках держался я такой меры, что всякий, кто правильно о себе судит, не может на них пожаловаться, потому что они, подшучивая даже над самыми незначительными лицами, сохраняют к ним уважение, в то время как древние сочинители не соблюдали этого и злонамеренно пользовались именами не только рядовых, но и важных лиц. По мне, пусть дешевле стоит моя слава и ниже всего ценится мое дарование, но пусть не будет у прямодушных наших шуток неприязненного толкователя, и пусть он не записывает моих эпиграмм: бесчестно поступает тот, кто изощряет свое остроумие на чужой книге. Игривую правдивость слов, то есть язык эпиграмм, я бы стал оправдывать, если бы первый подал пример ее, но так пишет и Катулл, и Марс, и Педон, и Гетулик, и каждый, кого читают и перечитывают. Если же кто окажется настолько чванным и брезгливым, что, по нему, ни на одной странице нельзя выражаться по-латыни, он может удовольствоваться этим предисловием, а то, пожалуй, и заглавием. Эпиграммы пишутся для тех, кто привык смотреть на игры в честь Флоры. Пусть не входит в наш театр Катон, а коль уж вошел, пусть смотрит. Мне кажется, я вправе заключить мое предисловие стихами:
Коль ты об играх в праздник резвой знал Флоры,
О шутках легких и о вольности черни,
Зачем в театр явился ты, Катон строгий?
Иль только для того вошел, чтоб вон выйти?
1
Вот он, тот, кого вновь и вновь читаешь, -
Марциал, по всему известный свету
Эпиграммами в книжках остроумных:
Славой той, какой, ревностный читатель,
Наделил ты живого и в сознанье,
Даже мертвый поэт владеет редко.
2
Ты, что желаешь иметь повсюду с собой мои книжки
И в продолжительный путь ищешь как спутников их,
Эти купи, что зажал в коротких листочках пергамент:
В ящик большие клади, я ж и в руке умещусь.
Чтобы, однако, ты знал, где меня продают, и напрасно
В Городе ты не бродил, следуй за мной по пятам:
В лавку Секунда ступай, что луканским ученым отпущен,
Мира порог миновав, рынок Паллады пройдя.
3
Предпочитаешь ты жить в аргилетских, книжечка, лавках,
Хоть и открыты всегда наши лари для тебя.
Нет, ты не знаешь, увы, как владыка-Рим привередлив.
Верь мне, умна чересчур сделалась Марса толпа.
Больших насмешников нет нигде: у взрослых и старых,
И у мальчишек-то всех – как носорожьи носы.
Браво лишь громкое ты услышишь, даря поцелуи,
Как на военном плаще, к звездам подбросят тебя.
Но, чтоб тебе не терпеть постоянных господских поправок,
Чтобы суровый тростник шуток твоих не марал,
Хочешь, проказница, ты порхать, уносимая ветром!
Ну, убегай! А могла б дома спокойно лежать.
4
Коль попадутся тебе мои книжки как-нибудь, Цезарь,
Грозных для мира бровей ты из-за них не нахмурь.
Ваши триумфы давно привыкли к дерзким насмешкам;
Да и предметом острот быть не зазорно вождю.
Как на Тимелу порой и на гаера смотришь Латина,
С тем же челом, я прошу, наши страницы читай.
Может дозволить вполне безобидную шутку цензура:
Пусть шаловливы стихи, – жизнь безупречна моя.
5
Я навмахию – тебе, а нам ты даешь эпиграммы:
Видно, поплавать ты, Марк, хочешь со свитком своим?
6
Некогда мальчик летел, уносимый орлом по эфиру,
И невредимый висел он в осторожных когтях.
Ныне ж и Цезаря львы к своей благосклонны добыче:
В пасти огромной у них зайцу не страшно играть.
Что же чудесней, скажи? У обоих верховный блюститель:
Этого Цезарь сберег целым, Юпитер – того.
7
Стеллы нашего милая голубка, —
Всей Вероне в глаза скажу я это, —
Воробья у Катулла, Максим, лучше.
Стелла наш твоего Катулла выше,
Так же как воробья голубка больше.
8
То, что Катон завешал безупречный, великий Трасея,
Ты соблюдаешь, но сам жизнью не жертвуешь ты
И не бежишь на мечи обнаженные с голою грудью.
Так поступая, ты прав, я убежден, Дециан.
Тот не по мне, кто легко добывает кровью известность;
Тот, кто без смерти достиг славы, – вот этот по мне.
9
Милым желаешь ты быть и великим слыть человеком,
Котта? Но милые все – самый пустейший народ.
10
Гемелл наш Марониллу хочет взять в жены:
Влюблен, настойчив, умоляет он, дарит.
Неужто так красива? Нет: совсем рожа!
Что ж в ней нашел он, что влечет его? Кашель.
11,
Каждому всаднику дан десяток тессер. Почему же
Двадцать их, Секстилиан, ты пропиваешь один?
И недостало б воды у прислужников, право, горячей,
Ежели, Секстилиан, ты бы вино разбавлял.
12
В Тибур прохладный идя, где встают Геркулеса твердыни,
Там, где Альбулы ключ серою дымной кипит,
Рощу священную Муз на любезном им сельском участке,
Там у четвертого ты видишь от Рима столба.
Летом здесь тень доставлял незатейливо сделанный портик,
Ах, несказанного зла портик едва не свершил!
Рухнул он, вдруг развалясь, когда под громадою этой
Ехал, отправясь гулять, Регул на паре коней.
Наших, сомнения нет, побоялась жалоб Фортуна:
Негодования взрыв был не под силу бы ей.
Ныне ж на пользу ущерб; опасность сама драгоценна:
Целой бы не доказать крыше богов бытия.
13
Передавая кинжал, непорочная Аррия Пету,
Вынув клинок из своей насмерть пронзенной груди,
«Я не страдаю, поверь, – сказала, – от собственной раны,
Нет, я страдаю от той, что нанесешь себе ты».
14
Хитрости видели мы и забавные львиные игры,
Цезарь (и это тебе также арена дает):
Схваченный несколько раз зубами нежными заяц
Вновь ускользал и, резвясь, прыгал в открытую пасть.
Как же, добычу схватив, пощадит ее лев кровожадный?
Но ведь он твой, говорят, а потому и щадит.
15
Мне никого из друзей нельзя предпочесть тебе, Юлий,
Если седые права верности долгой ценить.
Шестидесятого ты уже консула скоро увидишь,
А в свою волю пожить мог ты лишь несколько дней.
Плохо откладывать то, что окажется впредь недоступным,
Собственным надо считать только лишь то, что прошло.
Нас поджидают труды и забот непрерывные цепи;
Радости долго не ждут, но, убегая, летят.
Крепче их прижимай руками обеими к сердцу:
Ведь из объятий порой выскользнуть могут они.
Нет, никогда, мне поверь, не скажет мудрец: «Поживу я», —
Жизнью завтрашней жить – поздно. Сегодня живи!
16
Есть и хорошее, есть и так себе, больше плохого
Здесь ты прочтешь: ведь иных книг не бывает, Авит.
17
По судам заставляет Тит таскаться,
Говоря мне частенько: «Выгод много».
Много выгод, мой Тит, у земледельца.
18
Тукка, ну есть ли расчет мешать со старым фалерном
Сусло, которым налит был ватиканский кувшин?
Что за пользу тебе принесли поганые вина,
Чем могли повредить лучшие вина тебе?
Нас-то, пожалуй, хоть режь, но фалерн удушать – преступленье,
Яду жестокого влив в чистый кампанского ток.
Может быть, гости твои в самом деле смерти достойны,
Но не достойно сосуд столь драгоценный морить.
19
Помнится, Элия, мне, у тебя было зуба четыре:
Кашель один выбил два, кашель другой – тоже два.
Можешь спокойно теперь ты кашлять хоть целыми днями:
Третьему кашлю совсем нечего делать с тобой.
20
Спятил ты, что ли, скажи? На глазах у толпы приглашенных
Ты шампиньоны один жрешь себе, Цецилиан.
Что же тебе пожелать на здоровье брюха и глотки?
Съесть бы тебе как-нибудь Клавдиев сладкий грибок!
21
Вместо царя слугу поразила рука по ошибке
И на священном огне в жертву себя принесла.
Доблестный враг не стерпел, однако же, этого зверства
И, от огня оттащив мужа, его отпустил.
Руку, которую так бесстрашно Муций решился
Сжечь на презренном огне, видеть Порсена не смог.
Большую славу и честь, обманувшись, рука заслужила:
Не ошибися она, меньше б заслуга была.
22
Что же от пасти бежишь ты льва благодушного, заяц?
Этаких мелких зверьков ведь не терзает она.
Когти для крупных хребтов всегда сберегаются эти,
Крови ничтожных глоток глотке не нужен такой.
Заяц – добыча собак – не насытит огромного зева:
Должен ли Цезаря меч Дакии сына пугать?
23
Ты приглашаешь к столу только тех, с кем ты моешься, Котта,
И доставляют тебе гостя лишь бани одни.
Что ж ты ни разу меня не позвал, удивлялся я, Котта?
Знаю теперь: нагишом я не по вкусу тебе.
24
Видишь его, Дециан: прическа его в беспорядке,
Сам ты боишься его сдвинутых мрачно бровей;
Только о Куриях речь, о свободолюбивых Камиллах...
Не доверяй ты лицу: замуж он вышел вчера.
25
Да издавай же скорей, Фавстин, ты свои сочиненья
И обнародуй труды – плод совершенный ума.
Их не осудит, поверь, и Кекропов град Пандиона,
Да и молчаньем у нас не обойдут старики.
Иль ты боишься впустить Молву, что стоит перед дверью?
Совестно разве тебе дар за работу принять?
Книги, которым тебя пережить суждено, оживи ты
Сам: с опозданьем всегда слава по смерти идет.
26
Секстилиан, ты один за пять выпиваешь скамеек:
Выпей ты чистой воды столько же – свалишься пьян.
Не у соседей одних вымогаешь тессеры, а даже
В самых последних рядах просишь ты меди себе.
И подаются тебе не с пелигнских точил урожаи
И не вино, что дают лозы этрусских холмов,
Древний Опимиев ты осушаешь кувшин благодатный,
В черных сосудах подвал Массика вина дает.
Пусть же кабатчик идет за отстоем тебе лалетанским,
Коль ты и десятерых, Секстилиан, перепьешь.
27
Прошлой ночью тебе, Процилл, сказал я,
С десять, думаю, выпив уж стаканов,
Чтоб сегодня со мной ты отобедал.
Ты подумал, что выгорело дело,
И запомнил, что спьяну наболтал я.
Вот пример чересчур, по мне, опасный!
Пей, но, что я сказал, забудь, Процилл мой.
28
Кто говорит, что вчерашним вином несет от Ацерры,
Вздор говорит: до утра тянет Ацерра вино.
29
Мне говорят, будто ты, Фидентин, мои сочиненья
Всем декламируешь так, словно их сам написал.
Коль за мои признаешь, – поднесу я стихи тебе даром,
Коль за свои, – покупай: станут по праву твои.
30
Был костоправом Диавл, а нынче могильщиком стал он:
Начал за теми ходить, сам он кого уходил.
31
С темени все целиком отдаст тебе, Феб, по обету
Волосы юный Энколп – центуриона любовь,
Только заслужит Пудент начальство над пилом желанным.
О, поскорее срезай длинные локоны, Феб,
Нежные щеки пока пушком не покрылися темным,
Шее молочной пока пышные кудри идут;
Чтоб и хозяин и раб наслаждались твоими дарами
Долго, скорей остриги, но не давай возмужать.
32
Нет, не люблю я тебя, Сабидий; за что – сам не знаю.
Все, что могу я сказать: нет, не люблю я тебя.
33
Геллия наедине о кончине отцовской не плачет,
Но при других у нее слезы бегут на заказ.
Не огорчен, кто похвал от людей себе, Геллия, ищет,
Искрення скорбь у того, кто втихомолку скорбит.
34
Без осторожности ты и с отворенной, Лесбия, дверью
Всем отдаешься и тайн прятать не хочешь своих;
Но забавляет тебя совсем не любовник, а зритель,
И наслаждения нет в скрытых утехах тебе.
Занавес или засов охраняет от глаз и блудницу,
Даже под сводом «У Стен» редкая щелка сквозит.
Хоть у Хионы бы ты иль Иады стыду поучилась:
Грязные шлюхи – и те прячутся между гробниц.
Слишком суровым тебе я кажусь? Но ведь я запрещаю
Блуд напоказ выставлять, Лесбия, а не блудить.
35
Что пишу я стихи не очень скромно
И не так, чтоб учитель толковал их,
Ты, Корнелий, ворчишь. Но эти книжки,
Точно так же, как женам их супруги,
Оскопленными нравиться не могут.
Иль прикажешь любовные мне песни
Петь совсем не любовными словами?
Кто ж в день Флоры нагих оденет или
Кто стыдливость матрон в блудницах стерпит?
Уж таков для стихов закон игривых:
Коль они не зудят, то что в них толку?
А поэтому брось свою суровость
И, пощаду дав шуткам и забавам,
Не стремись холостить мои ты книжки:
Ничего нет гнусней скопца Приапа.
36
Если, Лукан, иль тебе, или Туллу выпал бы жребий
Тот, что лаконцам двоим Леды дарован сынам,
Ради любви бы возник благородный спор между вами:
Каждый за брата хотел первым тогда б умереть.
Тот, кто бы первый сошел к теням подземным, сказал бы:
«Брат мой, живи и моей жизнью, живи и своей!»
37
В золото бедное ты облегчаешь желудок, бесстыдник
Басс, а пьешь из стекла. Что же дороже тебе?
38
То, что читаешь ты вслух, Фидентин, то – мои сочиненья
Но, не умея читать, сделал своими ты их.
39
Если кого мы должны почитать за редчайшего друга,
Вроде друзей, о каких древность преданье хранит,
Если кто напоен и Кекропа и Рима Минервой.
Кто и учен и притом истинно скромен и прост,
Если кто правду блюдет и честность кто почитает
И потихоньку от всех не умоляет богов,
Если кто духом велик и в нем находит опору, —
Пусть я погибну, коль то будет не наш Дециан.
40
Все, брюзга, ты ворчишь и нехотя это читаешь!
Ты ведь завидуешь всем, а вот тебе-то никто.
41
Светским кажешься ты себе, Цецилий.
Не таков ты, поверь. А кто же? Гаер.
То же, что и разносчик из-за Тибра,
Кто на стекла разбитые меняет
Спички серные и горох моченый
Продает на руках зевакам праздным;
Что и змей прирученных заклинатель,
Что и челядь дрянная рыбосолов.
Что и хриплый кухарь, в харчевнях теплых
Разносящий горячие сосиски,
Что и шут площадной, поэт негодный,
Что и гнусный танцовщик из Гадеса,
Что и дряблый похабник непристойный!
А поэтому брось себе казаться
Тем, чем кажешься лишь себе, Цецилий:
Будто ты превзойдешь в остротах Габбу
И побьешь даже Теттия Кобылу.
Ведь не всякий чутьем владеет тонким:
Каждый, кто как пошляк острит нахальный,
Тот не Теттий совсем, а впрямь кобыла!
42
Порция, Брута жена, услыхав об участи мужа,
В горести бросилась меч, что утаили, искать.
«Разве не знаете вы, что нельзя воспрепятствовать смерти?
Думала я, что отца вас научила судьба!»
Это сказав, раскаленной золы она жадно глотнула.
Вот и поди не давай стали, докучная чернь!
43
Было вчера, Манцин, у тебя шестьдесят приглашенных,
И кабана одного только и подали нам!
Ни винограда кистей, что снимают осенью поздней,
Не было, ни наливных яблочек, сладких как мед;
Не было груш, что висят, привязаны к длинному дроку,
Ни карфагенских гранат, нежных, как розовый цвет;
Сыра молочных голов не пришло из Сассины сельской,
И не прислали маслин нам из пиценских горшков.
Голый кабан! Да и тот никудышный, которого мог бы
И безоружный легко карлик тщедушный убить.
Вот и весь ужин! А нам и смотреть-то не на что было:
И на арене таких нам кабанов подают!
Чтоб тебе больше ни в жизнь кабана не едать никакого,
А чтоб попался ты сам, как Харидем, кабану!
44
Резвые зайцев прыжки и веселые львиные игры
Я описал на больших, да и на малых листках.
Дважды я сделал одно и то же. Коль кажется, Стелла,
Это излишним тебе, дважды мне зайца подай.
45
Чтобы напрасно труда не терять на короткие книжки,
Лучше, пожалуй, твердить: «Быстро ему отвечал».
47
Врач был недавно Диавл, а нынче могильщиком стал он.
То, что могильщик теперь делает, делал и врач.
48
Вырвать быков не могли вожаки из пасти, откуда
Заяц бежит и куда он прибегает опять;
Но удивительней то, что гораздо увертливей стал он:
Видно, его научил многому доблестный зверь.
Не безопасней ему по пустой проноситься арене
И не надежней ничуть запертым в клетке сидеть.
Коль от укусов собак удираешь, заяц-проказник,
Верным прибежищем ты выбери львиную пасть.
49
Средь кельтиберов муж незабываемый
И нашей честь Испании,
Лициниан, увидишь выси Бильбилы,
Конями, сталью славные,
И Кай седой в снегах, и средь распавшихся
Вершин Вадаверон святой,
И лес отрадный у Ботерда милого —
Благой Номоны детище.
Конгеда поплывешь ты гладью теплою
И тихих нимф озерами,
Потом в Салоне мелком освежишься ты.
Железо закаляющем.
Набьешь в Воберке дичи ты поблизости,
Не прерывая завтрака.
В тени деревьев Тага златоносного
От зноя ты укроешься;
Деркейтой жажду утолишь ты жгучую
И снежным Нуты холодом.
Когда ж декабрь седой в морозы лютые
Завоет бурей хриплою,
Ты к Тарракону на припек воротишься
В родную Лалетанию.
Ловить там будешь ланей сетью мягкою,
На кабанов охотиться,
На скакуне загонишь зайца верткого,
Отдав оленей старосте.
В соседстве будет лес для очага тебе
С ребятами чумазыми.
К себе обедать позовешь охотника,
И гость твой тут же, под боком.
Ни башмаков нет с лункой, нет ни тоги там,
Ни пурпура вонючего;
Либурнов нет ужасных, нет просителей,
Нет власти вдов докучливых;
Ответчик бледный там не потревожит сна:
Все утро спи без просыпу.
Пускай другим впустую аплодируют,
А ты жалей удачников
И скромно счастьем настоящим пользуйся,
Пока твой Сура чванится.
Ведь справедливо жизнь досуга требует,
Коль славе отдал должное.
51
Мощные только хребты под стать для ярости львиной.
Что ж ты от этих зубов, заяц тщеславный, бежишь?
Думаешь, верно, они от быков откажутся мощных,
Шеей прельстившись твоей? Им и не видно тебя!
Не суждено тебе быть взнесенным великой судьбою:
Мелкой добыче нельзя пасть от такого врага.
52
Я тебе, Квинтиан, вверяю наши,
Наши, если мне можно так назвать их,
Книжки, те, что поэт твой вслух читает:
Коль на рабство свое они заропщут,
Заступись ты за них как поручитель,
И коль тот о правах на них заявит,
Объяви, что я вольную им выдал.
Раза три иль четыре так воскликнув,
Присвоителя их ты опозоришь.
53
Есть страница одна, Фидентин, твоего сочиненья
В книжках моих, но печать господина ее несомненна:
Каждая строчка на ней выдает твой подлог с головою!
Так, замешавшись в среду пурпурно-лиловых накидок,
Грубый лингонский башлык марает их грязною шерстью,
Так арретийский горшок оскверняет хрустальные вазы,
Так черный ворон смешон, если он побережьем Каистра
Станет случайно бродить с лебедями, птицами Леды,
Так, если песнь соловья оглашает священную рощу,
Портит печальную трель стрекотанье наглой сороки.
Нет в заголовке нужды и в судье ни одной нашей книжке:
Против тебя страница твоя, и кричит она: «Вор ты!»
54
Если, Фуск, у тебя есть место в сердце, —
Ведь друзья у тебя там отовсюду, —
Мне, прошу, уступи ты это место
И меня, хоть я новый, не гони ты!
Ведь и старые все такими были.
Ты за тем лишь смотри, чтоб каждый новый
Стать когда-нибудь мог старинным другом.
55
Вкратце желаешь ли знать о мечтах ты приятеля Марка,
Славный в военных делах, славный в гражданских Фронтон?
Пахарем хочет он быть на малом, но собственном поле,
Мил ему сельский досуг, крупный не нужен доход.
Кто же холодный узор предпочтет спартанского камня,
Иль поутру ходить станет с поклоном, глупец,
Если добычу полей и лесов он может, счастливец,
У очага разложить, вынув из полных сетей,
Или дрожащей лесой изловить вертлявую рыбу,
Или из красных горшков желтого меду достать,
Если дородная стол накрывает хромой домоводка
И даровые ему яйца пекутся в золе?
Тот, кто не любит меня, пускай этой жизни не любит,
Лучше пусть бледным живет он в городской суете.
56
Весь виноград отсырел и размяк от дождей непрерывных:
Как ни старайся, шинкарь, чистым вина не продашь.
57
Что за любовниц хочу и каких я, Флакк, не желаю?
Слишком легка – не хочу, слишком трудна – не хочу.
Я середину люблю, что лежит меж крайностей этих:
Я не желаю ни мук, ни пресыщенья в любви.
58
Сотню тысяч с меня запросил за мальчишку торговец,
Я посмеялся, а Феб тотчас же их заплатил.
Вот и ворчит на меня и зудит про себя моя похоть,
И, на досаду мою, все похваляется Феб.
Но ведь Фебу дала его похоть два миллиона!
Дай-ка мне столько же ты, я и дороже куплю.
59
В Байях подачка дает мне всего только сотню квадрантов,
Так для чего ж голодать мне среди роскоши там?
Лучше уж бани верни мне темные Лупа и Грилла:
Что ж при обеде плохом мыться мне, Флакк, хорошо?
60
Прыгни-ка, заяц, ко льву свирепому в зев ты широкий,
И на зубах ничего все ж не почувствует лев.
Что за спина у тебя, на какие он вскочит лопатки,
Где же в тебя, как в быков, зубы глубоко вонзить?
Что же владыку лесов и царя ты напрасно тревожишь?
Он ведь не ест ничего, кроме отборных зверей.
61
Верона стих ученого певца любит,
Горда Мароном Мантуя,
Земле Апонской славу дал ее Ливий,
И Стелла, и не меньше Флакк,
Аполлодору дожденосный Нил плещет,
Пелигн Назоном хвалится,
Лукан единственный и Сенеки оба
Гремят в речистой Кордубе,
В Гадесе резвом радость всем его Каний,
Мой Дециан – в Эмерите.
Тобой, Лициниан, зачванится наша,
Меня не презрев, Бильбила.
62
Чистой Левина была, не хуже сабинянок древних,
И даже строже сама, чем ее сумрачный муж,
Но лишь она начала гулять от Лукрина к Аверну
И то и дело в тепле нежиться байских ключей,
Вспыхнула и увлеклась она юношей, бросив супруга:
Как Пенелопа пришла, но как Елена ушла.
63
Просишь тебе почитать мои эпиграммы? Не стану:
Хочешь не слушать меня, Целер, а сам их читать.
64
Ты мила – нам известно, дева, правда,
Ты богата – никто не станет спорить;
Но коль хвалишься слишком ты, Фабулла, —
Не мила, не богата и не дева.
66
Не думай, скряга жадный, вор моих книжек,
Что стать поэтом так же дешево стоит,
Как переписка жалкого тебе тома:
За шесть монет иль десять не купить «браво».
Ищи стихов необработанных, тайных,
Известных только одному, в ларе скрытых,
Чью соблюдает девственность отец свитка,
Под подбородком не истертого жестким.
Известной не сменить хозяина книге.
Но если есть такая, где обрез пемзой
Не вылощен, где ни чехла нет, ни скалки, —
Купи: продам и сделку сохраню в тайне.
Тот, кто читать чужое хочет для славы,
Не книгу, а молчанье покупать должен.
67
«Волен уж ты чересчур», – всегда ты, Керил, говоришь мне.
Ну а тебя-то, Керил, можно ли вольным назвать?
68
Что бы ни делал наш Руф, – занимает лишь Невия Руфа:
Весел он, плачет, молчит – только о ней говорит.
Пьет за здоровье он, ест, соглашается, спорит – одна ведь
Невия все, а не будь Невии, стал бы немым.
Начал вчера он отцу писать поздравленье, а пишет:
«Невия, солнце мое! Невия, здравствуй, мой свет!»
Невия смотрит письмо и смеется, глаза опустивши.
Невия ведь не одна. Что же, глупец, ты дуришь?
70
Книга, ступай за меня на поклон. Окажи мне услугу:
К Прокула ларам тебе надо нарядной идти.
Спросишь дорогу, скажу. Миновав храм Кастора подле
Весты седой, ты пройдешь жриц ее девственных дом;
Дальше Священным холмом ты направишься к чтимым Палатам,
Где изваяний вождя высшего много блестит.
Не заглядись только ты на колосс лучезарный, который
Горд, что родосское он чудо собой превзошел.
После у крыши сверни ты хмельного Лиэя; с ним рядом
Купол Кибелы (на нем изображен Корибант).
Сразу же с левой руки ты увидишь славных пенатов
Дома высокого, где в атрий просторный войдешь.
Смело иди, не страшись порога надменного спеси:
Ни на каких косяках так не распахнута дверь,
И ни одна не близка так Фебу и сестрам ученым.
Если же спросят тебя: «Что же он сам не пришел?» —
Ты извинись: «Каковы ни на есть, но стихов этих он бы
Не написал, если б сам начал ходить на поклон».
71
Семь за Юстину, за Левию шесть, четыре за Лиду,
Пять за Ликаду и три кубка за Иду я пью.
Всех поименно подруг перечту я, фалерн наливая,
Но, если девки нейдут, ты приходи ко мне, Сон!
72
При посредстве моих стихов желаешь
Ты и быть, Фидентин, и слыть поэтом?
Так зубатой себя считает Эгла,
Накупивши костей с индийским рогом,
Так под слоем белил себе приятна
Ликорида, черней тутовки спелой.
Да и ты, как ты стал поэтом, так же
Облысев, станешь снова волосатым.
73
Не было в Городе всем никого, кто хотел бы задаром,
Цецилиан, за твоей приволокнуться женой,
Вход был свободен. Но вот сторожей ты приставил, и толпы
Лезут любовников к ней. Вижу я, ты не дурак!
74
Был он любовник. Но ты ведь могла отрицать это, Павла.
Мужем он стал. Отрицать можешь ли, Павла, теперь?
75
Тот, кто Лину отдать не все, а лишь половину
Предпочел, – предпочел лишь половину сгубить.
76
Неоцененный предмет моих дум, Антенорова лара
Вскормленник, милый мой Флакк, и упованье его,
Песнь пиэрийскую ты отложи и сестер хороводы:
Денег тебе ни одна дева из этих не даст.
Что тебе Феба молить? Монеты в ларе у Минервы,
Эта мудра и богам ссуды дает под процент.
Что тебе Вакхов плющ может дать? Деревья Паллады
Пеструю клонят листву тяжестью черных плодов.
На Геликоне-то нет ничего: лишь вода да гирлянды,
Лиры богинь и одно «браво» пустое гремит.
Что тебе Кирра? К чему нагая пермесская нимфа?
Римский форум к тебе ближе, и выгодней он.
Там ведь деньги звенят, а у наших подмостков и кафедр,
Не приносящих плодов, лишь поцелуи звучат.
77
Вполне здоров и бодр Харин, а все бледен,
Вина почти не пьет Харин, а все бледен,
На солнце нежится Харин, а все бледен,
Румянить кожу стал Харин, а все бледен,
Развратом занялся Харин, а все бледен.
78
Схваченный злою чумой за свое неповинное горло,
Только лишь черная хворь подобралася к лицу,
Сам, без единой слезы, утешая друзей огорченных,
Принял решение Фест к Стикса озерам уйти.
Не осквернил он, однако же, уст своих тайной отравой
И не замучил себя голодом медленным он.
Нет, безупречную жизнь пресек он римскою смертью
И отпустил он путем доблестным душу свою.
Эту кончину его Катона великого смерти
Может молва предпочесть: Цезарь был другом ему.
79
Вечно ты тяжбы ведешь и дела ведешь, Аттал, ты вечно:
Есть, что вести, или нет, Аттал, ты вечно ведешь.
Нет ни тяжеб, ни дел, ты, Аттал, ведешь себе мула.
Нечего, Аттал, вести? Душу свою изведи.
80
В ночь пред кончиной своей явился ты, Кан, за подачкой,
Умер ты, Кан, оттого, что лишь одну получил.
81
Знаешь, что ты от раба, и вежливо в том признаешься,
Раз господином зовешь, Сосибиан, ты отца.
82
Портик этот, что в прах распался мелкий
И далеко обломки разваливший,
В преступленье ужасном оправдался:
Только выехал Регул из-под крыши,
Под которой гулял он перед этим,
Вдруг своим побежден был весом портик
И, уже не боясь за господина,
Не поранив его, безвредно рухнул.
Кто ж не скажет теперь, что боги, Регул,
Жалоб тяжких боясь, тебя спасают,
Коль под грудой развалин не погиб ты?
83
Щеки и губы тебе, Маннейа, лижет собачка:
Не удивляюсь я – все любят собаки дерьмо.
84
Иметь жену считает Квиринал лишним,
Чтоб сыновей иметь; и он нашел способ,
Как этого достичь: своих рабынь портит
И домородных всадников родит много.
По правде, Квиринал отец своей дворни.
85
Ловкий аукционист продавал на холмах виноградник
И подгородный еще чудный участок земли
И говорил: «Ошибается тот, кто считает, что Марий
Из-за долгов продает: нет, у него все в долгу».
«Ради чего ж этот торг?» – «Да рабы его там перемерли,
Сгинул весь скот, урожай... Место не любо ему».
Кто же тут цену наддаст, кроме тех, кто вконец разориться
Хочет? И гиблой землей Марий владеет опять.
86
По соседству со мной – рукой подать мне
До него из окон – живет мой Новий.
Позавидует всякий мне, подумав,
Что могу ежечасно наслаждаться
Я общеньем с моим ближайшим другом?
Да он дальше еще Теренциана,
Что на Ниле теперь Сиеной правит!
С ним ни выпить нельзя, ни повидаться,
Ни услышать его: во всей столице
Он мне ближе всего и самый дальний.
Надо мне иль ему переселиться:
Пусть сосед ему будет иль сожитель
Тот, кто Новия видеть не желает!
87
Чтоб не несло от тебя перегаром вчерашней попойки,
Жадно, Фесценния, ты Косма пилюли жуешь.
Пачкает зубы тебе тот завтрак, но вряд ли поможет,
Если отрыжка пойдет из глубины живота.
Что же зловонней слюны, с душистою смешанной пудрой?
Чем может хуже двойной вони нести изо рта?
Всем надоевший обман, бесполезные эти уловки,
Брось-ка ты вовсе и впредь попросту пьяницей будь.
88
Алким, в цветущих годах похищенный у господина
И на дороге в Лавик скрытый под легкой травой,
Не дорогие прими паросские шаткие глыбы
(Ставить их тщетно: они рухнуть над прахом должны),
Но незатейливый букс, лозы тенистые ветви
И орошенный слезой холмик, поросший травой.
Мальчик мой милый, прими этот памятник нашего горя:
Почестью вечно живой пусть он послужит тебе.
В день же, когда допрядет мне последние годы Лахеса,
Я завещаю мой прах так же, как твой, схоронить.
89
Ты шепчешь на ухо всем и каждому, Цинна,
Ты шепчешь то, что можно всем сказать громко;
Смеешься на ухо, плачешь ты, ворчишь, стонешь,
Ноешь ты на ухо, судишь ты, молчишь, воешь,
И до того засел в тебе такой недуг,
Что на ухо, Цинна, ты и Цезаря хвалишь.
91
Не издавая своих, ты бранишь стихи мои, Лелий.
Или моих не ругай, или свои издавай.
93
С верным Фабрицием здесь Аквин покоится вместе;
Радостно первым достиг он Елисейских жилищ.
Общий алтарь говорит о начальниках первого пила,
Но еще лучше о них краткая надпись гласит:
«Связаны оба святым союзом жизни похвальной,
Оба (что редко найдешь) верные были друзья».
94
Глух твой голос – с тобою спали, Эгла.
Звонок он – целовать тебя не стоит.
95
Если кричишь на суде и трещишь ты без умолку, Элий,
Это недаром: берешь ведь за молчание ты.
96
Коль не досадно и не против ты, скадзон.
Будь добр, Матерну моему шепни вот что, —
Но потихоньку, чтобы он один слышал:
«Вон тот поклонник ревностный плащей грубых,
В бетийской ткани сам и в серой, как пепел,
Всех тех за баб считает, кто одет в пурпур,
И всех, кто ходит в фиолетовом платье.
Пускай простое хвалит, пусть всегда носит
Он грязноватый цвет, да сам-то он желтый!
А почему ж считаю я его девкой?
Встречаюсь в бане: хоть бы раз он взгляд поднял!
Так нет: глазами ест он там парней ражих,
И слюнки у него текут на их ноги».
Ты спросишь, кто же он? Да я забыл имя.
97
Стоит лишь всем закричать, говорить начинаешь ты, Невол,
И как ходатай себя держишь иль ловкий делец.
Способом этим любой прослыть сумеет речистым!
Вот замолчали все... Ну, Невол, скажи что-нибудь
98
Судится все Диодор и подагрою, Флакк, он хворает.
Но он не платит дельцу: болен хирагрою он.
99
Ты и двух не имел еще мильонов.
Но был так тороват и щедр в то время,
Так роскошен ты был, Кален, что десять
Миллионов тебе друзья желали.
Бог услышал мольбы и наши просьбы,
И еще до восьмых Календ, пожалуй,
Дали деньги тебе четыре смерти.
Ты же, словно не получил в наследство,
А лишился всех этих денег сразу,
Голодовку завел такую, бедный,
Что на свой богатейший пир, который
Ты даешь лишь однажды в год, не чаще,
Тратишь только гроши, как жалкий скряга,
Так что мы тебе – семь друзей старинных —
И в полфунта свинца не обойдемся!
Что ж тебе пожелать за эту милость?
Сто мильонов тебе, Кален, мы просим:
Ведь от голода ты тогда подохнешь!
100
Мамочки, папочки все у Афры, но папочкам этим
Всем и мамашам она может бабусею быть.
101
Некогда бывший моих стихов переписчиком верным, —
Счастьем хозяина был, Цезарям был он знаком, —
В самых цветущих годах своей юности умер Деметрий
После трех лустров и жатв с ними еще четырех.
Чтобы, однако, сошел не рабом он к теням стигийским,
В муках, какими его жег нестерпимый недуг,
Дал ему вольную я, отказавшись от прав господина:
О, если б только его мог этот дар излечить!
Он оценил пред концом награду свою и патроном
Назвал меня, отходя вольным к подземным водам.
102
Кто писал для тебя твою Венеру,
Тот, поверь, Ликорида, льстил Минерве.
103
«Дали бы мне миллион сестерциев вышние боги, —
Сцевола, ты говорил, всадником даже не быв, —
Как бы я зажил тогда, как широко и как беззаботно!»
На смех и дали тебе боги, о чем ты просил.
Тога гораздо грязней после этого, пенула хуже,
Трижды, четырежды твой кожей заплатан башмак.
А из десятка маслин большинство всегда бережется,
И перемена одна на два обеда идет.
Пьешь красноватую ты отседа вейского гущу,
Грош тебе стоит горох пареный, грош и любовь.
Ну-ка, судиться идем! Ты, Сцевола, плут и обманщик:
Или живи, иль отдай долг миллионный богам!
104
Что пантера несет на пестрой шее
Расписное ярмо, а тигр коварный
Терпеливо бича удары сносит,
Что олень удила златые гложет,
Что идет в поводу медведь ливийский,
А кабан, калидонского почище,
Повинуется пурпурной уздечке,
Что нескладный бизон повозку тащит
И что слон, вожаку послушный – негру,
Исполняет покорно легкий танец, —
Не богов ли то зрелище, скажи-ка?
Но посмотрит на это, как на мелочь,
Кто забавную львов охоту видит,
Как изводит их резвость зайцев робких:
Схватят, пустят, опять поймав, ласкают,
И добыча в их пасти невредима,
Через зев свой они проход просторный
Ей дают, опасаясь ранить зубом;
Стыдно было б загрызть зверьков им нежных,
Раз они перед тем быков сражали.
К милосердью такому не приучишь
Львов, но знают они, кто их владыка.
105
Если, Овидий, вину, что родится в номентских угодьях,
Дать постоять и его выдержать несколько лет,
Долгая старость и вкус у него и названье скрывают
И как угодно назвать можно старинный кувшин.
106
Подливаешь ты, Руф, себе все воду,
А пристанет приятель, – ты насилу
Выпьешь капельку жидкого фалерна.
Или, может быть, Невия сулила
Ночь блаженства тебе, и ты желаешь
Для любовных утех остаться трезвым?
Стонешь ты и вздыхаешь: отказала!
А поэтому пей себе ты вволю
И жестокую скорбь в вине потопишь.
Что беречься? И так всю ночь проспишь ты!
107
Все пристаешь ты ко мне, драгоценный Луций мой Юлий:
«Праздный лентяй, напиши важное ты что-нибудь!»
Дай мне досуг, но такой, какой в минувшие годы
Флакку мог Меценат или Вергилию дать:
Я попытаюсь создать вековечное произведенье
И от костра уберечь как-нибудь имя свое.
Полем бесплодным идут под ярмом волы неохотно:
Тучная почва томит, но веселит самый труд.
108
Есть у тебя (и молю, пусть из года в год процветает)
Великолепнейший дом, но он за Тибром стоит.
Ну, а вот мой-то чердак на Випсаньевы лавры выходит,
В округе этом уже дожил до старости я.
Съехать мне надобно, Галл, чтоб ходить на поклон к тебе утром:
Так подобает, хотя б даже и дальше ты жил.
Но для тебя-то пустяк клиент какой-нибудь в тоге,
Мне же все утро терять – это отнюдь не пустяк.
Лучше в обед навещать тебя я буду почаще,
Утром же пусть за меня книга с поклоном придет.
109
Исса птички Катулловой резвее,
Исса чище голубки поцелуя,
Исса ласковее любой красотки,
Исса Индии всех камней дороже,
Исса – Публия прелесть-собачонка.
Заскулит она – словно слово скажет,
Чует горе твое и радость чует.
Спит и сны, подвернувши шейку, видит,
И дыханья ее совсем не слышно;
А когда у нее позыв желудка,
Каплей даже подстилки не замочит,
Но слегка тронет лапкой и с постельки
Просит снять себя: дать ей облегчиться.
Так чиста и невинна эта сучка,
Что Венеры не знает, и не сыщем
Мужа ей, чтоб достойным был красотке.
Чтоб ее не бесследно смерть умчала,
На картине ее представил Публий,
Где такой ты ее увидишь истой,
Что с собою самой не схожа Исса;
Иссу рядом поставь-ка ты с картиной:
Иль обеих сочтешь за настоящих,
Иль обеих сочтешь ты за портреты.
110
Ты мне пеняешь, Велокс, что длинны мои эпиграммы.
Сам ты не пишешь совсем: право, короче нельзя!
111
Если и мудрость твоя, и богов почитанье известны,
И благочестье ни в чем не уступает уму,
Тот не умеет дарить по заслугам, кто станет дивиться,
Регул, что книгу тебе и фимиам я дарю.
112
Не распознавши тебя, господином, царем называл я.
Ну а теперь распознал: будешь мне Приском ты впредь.
113
Все то, что я мальчишкой и юнцом сделал,
Весь вздор, какой и сам я не могу вспомнить,
Коль дорогое время потерять хочешь
И если ненавидишь ты досуг праздный,
У Валерьяна Поллия купи Квинта:
Погибнуть не позволит он моим шуткам.
114
Рядом с тобою, Фавстин, Телесфора Фения садик
С малым участком земли и с увлажненным лужком.
Здесь его дочери прах, и надгробную надпись Антулле
Можно прочесть, но читать лучше бы имя отца.
К теням стигийским сойти ему подобало б, но если
Не суждено, пусть живет, чтоб ее кости хранить.
115
Влюблена в меня (мне, Процилл, завидуй)
Дева, что лебедей белее чистых,
Серебра и снегов, жасмина, лилий.
Но желанная мне чернее ночи,
Муравья и смолы, грача, цикады.
О жестокой уже ты думал петле,
Но, я знаю, Процилл, в живых ты будешь!
116
Фений на вечную честь посвятил могильному праху
Рощу с возделанным здесь чудным участком земли.
Здесь Антулла лежит, покинув безвременно близких,
Оба родителя здесь будут с Антуллой лежать.
Пусть не польстится никто на это скромное поле:
Будет оно господам вечно подвластно своим.
117
Всякий раз, что меня, Луперк, ты встретишь,
«Не послать ли мне малого, – ты скажешь, —
Чтоб ему эпиграмм ты отдал книжку?
Как прочту я ее, верну обратно».
Нет, мальчишку гонять, Луперк, не стоит:
Далеконько идти, пожалуй, к Груше
И по лестницам трем ко мне взбираться.
То, что ищешь, достать поближе можно.
Постоянно ты ходишь Аргилетом:
Против форума Цезаря есть лавка,
Косяки у нее все в объявленьях.
Там ты мигом прочтешь о всех поэтах.
И спросить не успеешь ты Атректа
(Так зовется хозяин этой лавки),
С первой иль со второй подаст он полки
Отскобленного пемзой и в порфире,
Пять денариев взявши, Марциала.
«Да не стоишь того!» Ты прав, не спорю!
118
Тот, кому сотню прочесть эпиграмм окажется мало,
Цедициан, для того всякое зло нипочем.
КНИГА II
Валерий Марциал приветствует своего Дециана.