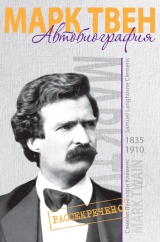
Текст книги "Автобиография"
Автор книги: Марк Твен
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Твичелл сказал – нет, не Твичелл, это я говорю: с течением дней, по мере того как воскресенье сменялось воскресеньем, интерес к волосам Твичелла все рос и рос, потому что они не оставались однообразно и монотонно зелеными, а принимали все более и более глубокие оттенки зелени; затем они стали меняться и сделались рыжеватыми, а оттуда стали переходить к другим цветам – багрянистому, желтоватому, синеватому и так далее, – но никогда не принимали однородный цвет. Они всегда были крапчатыми. И каждое воскресенье цвет был чуть-чуть интереснее, чем в предыдущее, – и голова Твичелла приобрела известность, и люди приезжали из Нью-Йорка, и Бостона, и Южной Каролины, и из Японии и так далее, чтобы на нее взглянуть. Свободных мест не хватало, чтобы вместить всех желающих, пока его голова претерпевала эти разнообразные и захватывающие видоизменения. И это было хорошо в нескольких отношениях, потому что бизнес до этого несколько подвял, а теперь множество людей вошли в лоно церкви, дабы иметь возможность лицезреть этот спектакль, и это стало началом процветания его церкви, которое уже никогда не уменьшалось на протяжении последующих лет. Никогда с Джо не случалось ничего столь же благоприятного.
Так вот касательно генерала Сиклса. Много лет назад Твичелл рассказывал о его маркитанте. В бригаде Сиклса был маркитант, янки, грандиозная личность с точки зрения способностей. Все другие маркитанты оставались не у дел накануне битвы, в ходе битвы, после битвы, но с этим маркитантом дело обстояло иначе. Он никогда не оставался вне чего-либо и, таким образом, пользовался большим уважением и восхищением. Бывали времена, когда он напивался. Это были периодические запои. Невозможно было предсказать, когда с ним собирается приключиться нечто подобное, и, таким образом, невозможно от этого подстраховаться, а когда он был пьян, то ни во что не ставил ничьи чувства и желания. Если ему хотелось сделать то-то и то-то, он это непременно делал – ничто не могло убедить его поступить как-то иначе. Если же он чего-то делать не хотел, никто не мог убедить его это сделать. В один из таких случаев маркитантского затмения генерал Сиклс пригласил каких-то других военачальников отобедать с ним в штабной палатке. Его повар, или ординарец, или кто-то еще – какое-то надлежащее лицо – пришел к нему, объятый ужасом, и сказал:
– Маркитант пьян. Никакого обеда не получится. Готовить нечего, а маркитант нам ничего не продаст.
– Ты сказал ему, что все это нужно генералу Сиклсу?
– Да, сэр. На него это не подействовало.
– Ну ты что, не можешь ему…
– Нет, сэр, мы ничего не можем с ним сделать. У нас есть немного бобов, только и всего. Мы пытались уговорить его продать нам фунт свинины для генерала, но он сказал, что не продаст.
Генерал Сиклс сказал:
– Пошлите за капелланом. Пусть к нему сходит капеллан Твичелл. Он пользуется авторитетом у этого маркитанта: тот маркитант питает большое почтение к капеллану и благоговеет перед ним. Пусть Твичелл сходит туда и посмотрит, нельзя ли уломать маркитанта продать ему фунт солонины для генерала Сиклса.
Твичелл отправился по этому поручению.
Маркитант нетвердо прислонился к чему-то твердому, собрался с мыслями и словами и сказал:
– Продать фунт свинины для генерала Сиклса? Не-а. Идите и скажите ему, что я не продам фунта свинины даже для Бога.
Таково было изложение Твичеллом этого эпизода.
Но я отвлекся от того дерева, под которым лежал истекающий кровью генерал Сиклс, произнося свою последнюю речь. Прошло три четверти часа, прежде чем нашли хирурга, потому что сражение было грандиозное и хирурги требовались повсюду. Хирург прибыл уже после того, как спустилась ночь. Это была тихая и безветренная июльская ночь, и горела свеча – я думаю, кто-нибудь сидел у изголовья генерала и держал в руке эту свечу. Она отбрасывала света ровно столько, чтобы сделать лицо генерала отчетливым, а кругом виднелись несколько неотчетливых фигур в ожидании. И вот в эту группу из темноты врывается адъютант, спрыгивает с коня, приближается к этому угасающему генералу, вытягивается по-солдатски, отдает честь и докладывает самым что ни на есть прозаическим образом, что он выполнил приказ, отданный генералом, и что передислокация полков в назначенный опорный пункт выполнена.
Генерал учтиво поблагодарил его. Я уверен, Сиклс всегда был вежливым. Необходима тренировка, чтобы наделить человека возможностью быть надлежащим образом учтивым, когда он умирает. Многие пытались такими быть. Уверен, что преуспели очень немногие.
Четверг, 18 января 1906 годаВыступление сенатора Тиллмана по делу Моррис. – Похороны Джона Мэлона в сравнении с похоронами императрицы Австрии. – Разговор о поединках
Сенатор Тиллман из Южной Каролины произнес позавчера речь, исполненную откровенной критики в адрес президента – президента Соединенных Штатов, как он его называет, – тогда как, насколько мне известно, на протяжении лет сорока нет такого должностного лица, как «президент Соединенных Штатов», за исключением, пожалуй, Кливленда. Я не припоминаю никакого другого президента Соединенных Штатов – может, и были один-два, – возможно, были один-два, которые не были всегда и постоянно президентами Республиканской партии, а бывали время от времени и на короткие промежутки действительно президентами Соединенных Штатов. Тиллман поднял в своей речи вопрос выдворения миссис Моррис из Белого дома, и я думаю, его резкая критика в адрес президента представляет собой умелую работу. Во всяком случае, то, как он за нее взялся, вполне меня устроило, оставив по себе приятный привкус. Я был рад, что есть кто-то, кто занимается этим делом, будь то по мотивам великодушным или мелочным, и выносит на публичное обсуждение. Это напрашивалось. Весь народ и вся пресса бездеятельно сидели в смиренном и рабском молчании, при этом каждый втайне желал – как было и в моем случае, – чтобы кто-нибудь с какими-то представлениями о приличиях поднялся и осудил это вопиющее безобразие как оно того заслуживает. Тиллман четко и убедительно доносит свою точку зрения, что мне импонирует. Я сам хотел сделать это несколько дней назад, но тогда уже разрабатывал программу действий по другому вопросу, затрагивающему общественные интересы, что может повлечь пару-тройку камней в мою сторону, а одного подобного развлечения для меня вполне достаточно. Вопрос же был таков: президент всегда щедр на письма и телеграммы всякому встречному и поперечному, обо всем и ни о чем. Похоже, он никогда не испытывает недостатка во времени, чтобы отвлечься от своих реальных обязанностей на несуществующие. Поэтому в то самое время, когда ему следовало бы набросать одну-две строчки, дабы сообщить миссис Моррисон и ее друзьям, что, будучи джентльменом, он спешит принести свои извинения за то, что его идиот-помощник превратил официальную правительственную резиденцию в матросскую ночлежку, и сказать, что он строго укажет мистеру Барнсу и остальному гарнизону охраны приемной впредь тактичнее обращаться с заблудшими и воздерживаться от такого поведения в Белом доме, которое можно охарактеризовать как недостойное в любом другом респектабельном жилище на земле…
Я не люблю Тиллмана. Его троюродный брат три года назад убил редактора, не дав этому редактору возможности себя защитить. Я признаю, что это почти всегда мудро и часто до известной степени необходимо – убить редактора, но я полагаю, что, когда человек является сенатором Соединенных Штатов, ему следует предписать своему троюродному брату сдерживаться как можно дольше, а затем уже сделать это пристойным образом, подвергаясь и самому некоторому риску. Я не слышал, чтобы Тиллман сделал много такого, что можно было бы поставить ему в заслугу на протяжении его политической жизни, но рад той позиции, которую он занял на сей раз. Президент постоянно отказывался выслушивать тех своих друзей, которые являются здравомыслящими, – людей, которые старались убедить его отмежеваться от поведения мистера Барнса и выразить сожаление по поводу того происшествия. И сейчас мистер Тиллман указывает на то, о чем я говорил минуту назад, и делает это с впечатляющим эффектом. Он напоминает сенату, что в то самое время, когда высокий сан никак не позволяет президенту отправить миссис Моррис или ее друзьям короткое дружелюбное и исполненное раскаяния письмо, у него находится достаточно времени, чтобы отправить комплиментарное и восхищенное послание боксеру-профессионалу с Дальнего Запада. Если бы президент был непопулярной личностью, суть вопроса была бы ухвачена раньше и привлекла бы больше внимания и вызвала громкие последствия. Но, как я уже предположил, страна и газеты хранят обо всем этом верноподданное и униженное молчание и ждут, благочестиво и с надеждой, чтобы какой-то безрассудный человек высказал то, что у них на сердце и что они не могут себе позволить вымолвить. Миссис Моррис усложняет ситуацию и не дает угаснуть дискомфорту восьмидесяти миллионов людей, держась почти насмерть, при этом ни поправляясь, ни умирая; сделай она то либо другое, это ослабило бы напряжение. Пока же неловкая ситуация вынуждена продолжаться. Мистер Тиллман определенно ее не притушил.
(Та моя юбилейная речь была представлена текстом, который я имел в виду использовать здесь дальше. Не хочу слишком далеко от нее отклоняться и должен снова вернуться к ней.)
Сегодня утром мы похоронили старого доброго актера Джона Мэлона. Его старые друзья по клубу «Плэйерс» проводили его в последний путь. Я второй раз в жизни присутствовал на католических похоронах. И когда я сидел в церкви, то, повинуясь естественному процессу, мысленно вернулся назад, к тому, другому разу, и контраст сильно меня заинтересовал. В предыдущий раз это были похороны императрицы Австрии, которая была злодейски убита шесть – восемь лет назад. Туда съехалась вся древняя знать Австрийской империи, и поскольку лоскутное одеяло старых королевств и княжеств состоит из девятнадцати государств и одиннадцати национальностей, и поскольку эти аристократы явились разодетые в наряды, которые привыкли носить их предки по торжественным случаям государственной важности четыре или пять столетий назад, многообразие и великолепие костюмов создавало картину, оставлявшую далеко в тени все представления о пышности и блеске, которые я в ходе своей жизни вынес из оперы, театра, картинных галерей и книг. Золото, серебро, драгоценности, шелк, атлас, бархат – все это было там, в блестящем и прекрасном смешении и в такой совершенной гармонии, которую соблюдает сама Природа, когда расцвечивает и живописно располагает свои цветы и свои леса и заливает их солнечным цветом. Военные и гражданские модистки Средних веков знали свое дело. Каким бы ни было огромным разнообразие выставленных напоказ нарядов, среди них не было ни одного безобразного или такого, который являл бы собой диссонирующую ноту в гармонии или оскорблял взор. Когда эти многочисленные костюмы находились в неподвижности, они были прекрасны мягкой, роскошной, чувственной красотой; когда же эта масса шевелилась, то от легчайшего движения драгоценности, металлы и яркие краски то вспыхивали огнем, то тут же гасли, как в лучах мигающего освещения, что вызывало во мне экстаз.
Но в это утро все было иначе. В это утро все одеяния оказались похожи друг на друга: простые и лишенные цвета. «Плэйерс» были одеты так, как они всегда одеваются, разве что у них на головах были приличествующие церемонии цилиндры. Да, по-своему похороны Джона Мэлона были не менее впечатляющи, чем похороны императрицы. Не было разницы между Джоном Мэлоном и императрицей, кроме разве искусственных различий, изобретенных и установленных глупой ребяческой суетностью человека. Императрица и Джон были абсолютно равны в своих важнейших составляющих – в сердечной доброте и безупречной жизни. Оба проплыли мимо наблюдателей в своих гробах славными, почтенными, уважаемыми, оба проследовали одной дорогой от церкви, направляясь в одном и том же направлении – к чистилищу, дабы – согласно католической доктрине – быть переведенными оттуда в лучший мир либо остаться там, в зависимости от тех контрибуций, которые внесут их друзья, – наличностью или в виде молитв. В своей замечательной речи священник рассказал нам о месте назначения Джона и тех условиях, на которых он мог бы продолжить свое путешествие либо остаться в чистилище. Джон был беден, его друзья бедны. Императрица была богата, ее друзья богаты. Перспективы Джона Мэлона нехороши, и я горько сокрушаюсь об этом.
Возможно, я заблуждаюсь, говоря, что присутствовал только на двух католических похоронах. Думаю, я присутствовал на одном в Виргиния-Сити, штат Невада, лет сорок назад – или, может, это было в Эсмеральде, на границе с Калифорнией, – но если это случилось, воспоминание об этом едва ли можно сказать, что существует, – такое оно расплывчатое. Я и впрямь присутствовал там на одних или двух похоронах – может, на дюжине: на похоронах головорезов, которые старались очистить общество путем истребления других головорезов – и в самом деле совершали это очищение, хотя и не в соответствии с той программой, которую наметили для своей миссии.
А также я присутствовал на нескольких похоронах лиц, которые пали на дуэлях, – и, пожалуй, тот, кого я помогал транспортировать, был дуэлянт. Но разве стала бы католическая церковь хоронить дуэлянта? Разве навлечение на себя собственной смерти не является, по сути, самоубийством? Разве по этой причине не должны были ему отказать в христианском погребении? Что ж, я не помню, как именно там обстояло дело, но, думаю, то был дуэлянт.
Пятница, 19 января 1906 годаО дуэлях
В те давние дни дуэли внезапно вошли в моду на новой Территории Невада, и к 1864 году все рвались испытать себя в новом виде спорта главным образом по той причине, что человек не мог всецело себя уважать, пока не убил либо не покалечил кого-нибудь на дуэли или не был убит либо покалечен сам.
В то время я два года служил у мистера Гудмана редактором в городской газете под названием «Виргиния-Сити энтерпрайз». Мне было двадцать девять лет. Я был честолюбив в нескольких отношениях, но полностью избегал соблазна этой конкретной мании. У меня не было желания драться на дуэли и не было намерения никакую дуэль спровоцировать. Я не чувствовал себя респектабельным, но у меня имелось определенное удовлетворение от ощущения безопасности. Мне было стыдно за себя, остальным сотрудникам было стыдно за меня, но я довольно неплохо держался, несмотря ни на что. Я давно привык себя стыдиться – за то или за другое, – поэтому мне было не в новинку пребывать в таком состоянии. Я переносил это очень хорошо. В штате сотрудников был Планкетт, в штате был Р.М. Даггет. Соперничающей газетой была «Виргиния юнион». Ее редактором в течение какого-то времени был Том Фитч, прозванный сладкоречивым оратором из Висконсина – это было место, откуда он приехал. Он употреблял свое красноречие в редакционных колонках «Юнион», и мистер Гудман вызвал его на дуэль и оформил пулей. Я помню радость сотрудников, когда вызов Гудмана был принят Фитчем. Мы в тот вечер работали допоздна и превозносили Джо Гудмана. Ему было всего двадцать четыре года, ему не хватало мудрости, которую имеет человек в двадцать девять, и он был настолько же рад стать участником дуэли, насколько я был рад, что не оказался на его месте. Своим секундантом он выбрал майора Грейвза (это имя неточно, но довольно похоже; я не помню, как точно звали майора). Грейвз пришел, чтобы проинструктировать Джо в искусстве поединка. Он служил майором под началом Уокера, «сероглазого избранника судьбы», и сражался на протяжении всей той знаменательной флибустьерской кампании в Центральной Америке[112] 112
Уокер, Уильям (1824–1860) – американский юрист, журналист и авантюрист, организовавший ряд военных операций в Латинской Америке с целью создания колоний под его личным управлением. 4 мая 1855 г. Уокер с пятьюдесятью шестью последователями отправился в Никарагуа, где шла гражданская война, и одна из враждующих фракций обратилась к нему за помощью. В октябре Уокер захватил на озере Никарагуа пароход, принадлежавший американской транспортной компании, и благодаря этому смог неожиданно захватить Гранаду, столицу противоборствующей фракции. С 1856 по 1857 г. он был президентом Никарагуа. Казнен в 1860 г. властями Гондураса.
[Закрыть]. Этот факт характеризует майора. Сказать, что человек служил майором под командованием Уокера и вышел из этого побоища пожалованным его похвалой, означает сказать, что майор был не просто храбрецом, но что он был храбр в высочайшей степени. Все бойцы Уокера были таковы. Я близко знавал семью Гиллис. Отец тоже воевал под началом Уокера, и вместе с ним – один из сыновей. Они участвовали в памятной битве и держались до последнего против превосходящих сил противника, как и все люди Уокера. Сын погиб на глазах у отца. Отец получил пулю в глаз. Старик – ибо он уже был стариком в то время – носил очки, и пуля вместе с одним стеклом прошла внутрь черепа и там осталась. Впоследствии, когда я столовался в доме старика в Сан-Франциско, всякий раз, когда он, бывало, разволнуется, я видел, как он роняет слезы и вместе с ними – то самое стекло, что выглядело бесконечно трогательным. Удивительно, как стекло может множиться при подходящем случае. Стекло было все разбито и испорчено, поэтому не имело рыночной ценности, но с течением времени он источил достаточно влаги, чтобы открыть магазин очков. Были у него и другие сыновья: Стив, Джордж и Джим – совсем молодые ребята, просто мальчишки, которые хотели участвовать в экспедиции Уокера, поскольку обладали неустрашимым духом своего отца. Но Уокер категорически отказался их взять, сказав, что это серьезная экспедиция и там не место детям.
Майор Грейвз представлял собой внушительную личность: с величественной, полной достоинства фигурой и выправкой, по натуре и воспитанию он был обходителен, вежлив, любезен, обаятелен и обладал тем качеством, которое, думаю, встречалось мне только еще в одном человеке – Бобе Хоуланде, – таинственным свойством, которое гнездится в глазах, и когда эти глаза предостерегающе обращены к отдельному человеку или целому отряду, этого достаточно. Человек, обладающий таким взглядом, не нуждается в том, чтобы носить оружие, он может двинуться на вооруженного головореза, сокрушить его взглядом и взять в плен, не сказав ни единого слова. Я видел, как однажды так сделал Боб Хоуланд: хрупкого сложения, беззлобный, приветливый, воспитанный, добродушный – не человек, а скелетик с нежными голубыми глазами, которые завоевывали ваше сердце, когда улыбались вам или когда леденели и его замораживали, смотря по ситуации.
Майор поставил Джо по стойке «смирно», поставил Стива Гиллиса в пятнадцати шагах, велел Джо повернуться к Стиву правым боком, взвел курок своего морского шестизарядного револьвера – этого изумительного оружия – и направил его вертикально вниз у ноги, сказав, что именно таково должно быть правильное положение оружия, что та манера, которая обычно применялась в Виргиния-Сити (то есть когда пистолет направлен вертикально в воздух, а затем медленно опускается, нацеливаясь в противника), в корне неверна. При слове «раз» вы должны поднять пистолет, медленно и твердо, до нужного уровня на теле человека, которого желаете заставить осознать свой проступок. Затем, после паузы произносятся слова: «два, три – огонь – стоп!». При слове «стоп» вы можете стрелять – но не раньше. Вы можете подождать сколько вам угодно после этого слова. Затем, когда стреляете, вы можете двигаться вперед, продолжая стрелять в свое удовольствие, – если можете извлекать из этого удовольствие. А тем временем ваш противник, если его правильно проинструктировали и если он, к собственному удовольствию, остался в живых, двигается на вас и стреляет – и всегда вероятно, что дело кончится большими или меньшими неприятностями.
Естественно, когда револьвер Джо поднялся на нужный уровень, он был нацелен Стиву в грудь, но майор сказал: «Нет, это не благоразумно. Возьмите на себя весь риск быть убитым самому, но не подвергайте себя риску убить другого человека. Если вы останетесь в живых после дуэли, то вам нужно выжить так, чтобы память об этом не шла с вами до конца дней и не мешала вам спать. Цельтесь противнику в ногу, не в колено, не выше колена, ибо это опасные места. Цельтесь ниже колена, покалечьте его, но оставьте в живых ради его матери».
Благодаря этим истинно мудрым и превосходным инструкциям Джо свалил своего противника, прострелив ему голень, что оставило того навсегда хромым. А Джо не потерял ничего, кроме клока волос, без которых мог тогда обойтись лучше, чем сейчас. Ибо, когда я видел его здесь, в Нью-Йорке, год назад, шевелюра у него отсутствовала, не осталось почти ничего, кроме бахромы по краям с возвышающимся над ней куполом.
Примерно год спустя и я получил свой шанс. Но я за ним не гонялся. Гудман уехал в недельный отпуск в Сан-Франциско и оставил меня исполнять обязанности главного редактора. Я-то предполагал, что это легкая должность, где не надо ничего делать, кроме как писать по одной передовице в день, но я был разочарован в этом своем предрассудке. В первый день я не смог найти, о чем бы написать статью. Затем меня осенило, что, поскольку то было 22 апреля 1864 года, на следующее утро должна наступить 300-я годовщина со дня рождения Шекспира – и какой лучшей темы мог я желать? Я раздобыл энциклопедию, изучил ее, выяснил, кто такой был Шекспир и что он сделал, позаимствовал все это и выложил перед общественностью. Того, что сделал Шекспир, было недостаточно, чтобы написать передовицу необходимого объема, но я заполнил свободное место описанием того, чего он не делал, – что во многих отношениях было более важным, потрясающим и интересным для чтения, чем самые прекрасные поступки, которые он действительно совершил. Но на следующий день я снова оказался в затруднении. Шекспиров, которых можно было бы пустить в разработку, больше не нашлось. Не нашлось ничего в предыстории либо в мировой перспективе, чтобы создать из этого передовую статью, подходящую для тамошней общины, поэтому оставалась всего только одна тема. Этой темой был мистер Лэйрд, владелец «Виргиния юнион». Его редактор тоже уехал в Сан-Франциско, и Лэйрд пробовал себя в редакторском деле. Я разбудил мистера Лэйрда какими-то (несколькими) любезностями того сорта, которые были модны среди газетных редакторов в тех краях, и он на следующий день отплатил мне той же монетой, в самом ядовитом духе. Он был уязвлен чем-то, что я сказал про него, какой-то мелочью, уж не помню теперь, что это было, – возможно, назвал его конокрадом или одним из тех словосочетаний, которые обычно использовались для описания другого редактора. Они были, безусловно, справедливыми и точными, но Лэйрд оказался очень чувствительной натурой и ему это не понравилось. Поэтому мы ожидали вызова от мистера Лэйрда, ведь согласно правилам – согласно дуэльному этикету в том виде, как он был реконструирован, реорганизован и усовершенствован дуэлянтами той местности, – всякий раз, когда вы говорили о другом человеке что-нибудь такое, что ему не нравилось, ему было недостаточно огрызнуться в том же оскорбительном тоне: этикет предписывал ему послать вызов, – поэтому мы ждали вызова, ждали весь день. Вызов не пришел. И по мере того как час за часом проходил день, а вызова все не поступало, парни стали впадать в уныние, пали духом, но я был бодр и весел, чувствовал себя все лучше и лучше. Они не могли этого понять, но я-то мог. Таков уж мой склад характера, который позволял мне пребывать жизнерадостным, когда другие были подавлены. Так вот, мы почувствовали необходимость отступить от этикета и самим послать вызов мистеру Лэйрду. Когда мы пришли к такому решению, парни потихоньку воспрянули духом, зато я стал понемногу терять свое оживление. Однако в предприятиях такого рода вы находитесь в руках своих друзей, вам не остается ничего иного, кроме как следовать тому, что они считают наилучшим курсом. Даггет сочинил за меня вызов, потому что владел необходимым языком – верным языком – убедительным языком, – а я был его лишен. Даггет излил на мистера Лэйрда поток неаппетитных эпитетов, заряженных энергией и ядом точно рассчитанной силы – такой, чтобы его убедить, а Стив Гиллис, мой секундант, отнес вызов и вернулся дожидаться ответа. Ответа не последовало. Парни были вне себя, но я сохранял хладнокровие. Стив отнес еще один вызов, еще неистовее прежнего, и мы опять стали ждать. Из этого опять ничего не вышло. Я почти совсем успокоился. Даже сам почувствовал интерес к этим вызовам, какого совершенно не чувствовал прежде: мне показалось, что я при совершенно небольших затратах зарабатываю превосходную и ценную репутацию, – и по мере того как отклонялся вызов за вызовом, мой восторг рос и рос, пока ближе к полуночи я не начал думать, что в мире нет ничего более желанного, как возможность подраться на дуэли. Поэтому я стал поторапливать Даггета, заставляя его отправлять вызов за вызовом. Что поделать, я перестарался: Лэйрд принял вызов. Я мог бы и предвидеть, что такое произойдет, – Лэйрд был не тем человеком, на которого можно положиться.
Парни ликовали неописуемо. Они помогли мне составить завещание, что увеличило мой дискомфорт – с меня уже было довольно. Потом они отвели меня домой. Спать я не мог совершенно – мне не хотелось спать. Многое надо было обдумать, и на все это только четыре часа – потому что на пять утра была назначена трагедия, мне предстояло потратить один час – начиная с четырех, – чтобы попрактиковаться с револьвером и выяснить, какой стороной наводить его на врага. В четыре мы спустились в небольшой овраг, примерно в миле от города, и позаимствовали в качестве мишени дверь амбара – позаимствовали у человека, который уехал погостить в Калифорнию, – и мы прислонили к этой двери посередине жердь от забора, чтобы она изображала мистера Лэйрда, и встали напротив нее. Но жердь была не вполне подходящей заменой мистеру Лэйрду, потому что он был выше и тоньше жерди. Ни за что и никогда невозможно было бы в него попасть, а если бы и удалось, то весьма вероятно, что он расщепил бы пулю – наихудший материал для дуэльных целей, который только можно себе вообразить. Я начал тренироваться на жерди – и не мог в нее попасть. Тогда я стал стрелять в дверь амбара, но мне не удавалось попасть и в нее. Никто не подвергался опасности, кроме окрестных бродяг, по сторонам от этой мишени. Я был совершенно обескуражен и нисколько не взбодрился, когда мы вскоре услышали пистолетные выстрелы в соседнем овраге. Я знал, что это такое, – это Лэйрда натаскивала его шайка. Они услышат мои выстрелы и, конечно, переберутся через край оврага, чтобы посмотреть, что за рекорды я ставлю, – оценить, каковы их шансы против моих. Что ж, у меня не было никаких рекордов, и я знал, что если Лэйрд переберется через бугор и увидит мою дверь амбара без единой царапины, то так же страстно захочет драться, как хотел я, – то есть как я хотел в полночь, прежде чем пришел этот его катастрофический положительный ответ на мой вызов.
И вот как раз в тот момент маленькая птичка, не больше воробья, пролетала мимо и села на куст шалфея, ярдах в тридцати. Стив выхватил свой револьвер и отстрелил ей голову. О, он был меткий стрелок – гораздо лучше меня. Мы побежали туда подобрать птицу, и, конечно же, как раз в этот момент, уж будьте уверены, из-за бугра показался мистер Лэйрд со своими людьми и подошел к нам. И когда секундант Лэйрда увидел ту птицу, с отстреленной головой, он побледнел, спал с лица, и было видно, что его это взволновало. Он спросил:
– Кто это сделал?
Прежде чем я успел ответить, Стив небрежно и спокойно бросил:
– Это сделал Клеменс.
Секундант сказал:
– О, это удивительно. Как далеко находилась птица?
Стив ответил:
– О, недалеко – ярдах в тридцати.
Секундант сказал:
– О, так это поразительная меткость. Как часто он может такое проделывать?
Стив ответил со смехом:
– О, примерно четыре раза из пяти, верно?
Я знал, что этот шельмец лжет, но промолчал. Секундант произнес:
– Это просто ошеломительная меткость: я-то предполагал, что он не способен попасть даже в здание церкви.
Его предположение было очень недалеко от истины, но я ничего не сказал. Секундант отвез домой мистера Лэйрда, у которого слегка подгибались ноги, и Лэйрд прислал мне собственноручно написанную записку, в которой вежливо отказывался со мной драться на каких бы то ни было условиях.
Что ж, моя жизнь была спасена – спасена волей этого случая. Я не знаю, что об этом вмешательстве Провидения подумала птица, но я почувствовал себя при этом очень и очень приятно и комфортно. Так вот, мы узнали впоследствии, что Лэйрд поразил свою мишень четыре раза из шести подряд. Если бы дуэль состоялась, он бы так изрешетил мне шкуру, что она бы не удержала моих основных начал.
Когда подошло время завтрака, весь город облетела новость, что я послал вызов, а Стив Гиллис его отнес. И это, согласно недавно принятому закону, давало основания приговорить каждого из нас к двум годам тюремного заключения. Судья Норт не известил нас самолично, но это сделал один из его близких друзей. Он сказал, что нам было бы неплохо покинуть Территорию первым же почтовым дилижансом: таковой отправлялся на следующее утро, в четыре часа, – а тем временем нас будут разыскивать, но без особого рвения. Если же мы будем находиться на Территории после отбытия дилижанса, то станем первыми жертвами нового закона. Судья Норт горел желанием раздобыть какие-нибудь наглядные примеры действия этого закона и непременно продержал бы нас в тюрьме полные два года. Никому в угоду не стал бы он нас миловать.
Что ж, мне показалось, что наше общество больше не желательно в Неваде, поэтому мы весь день сидели в наших жилищах и соблюдали надлежащую осторожность – кроме одного раза, когда Стив отправился в гостиницу, чтобы уделить внимание еще одному моему клиенту. Им был некий мистер Катлер. Видите ли, Лэйрд был не единственным человеком во время замещения мною редакторской должности, кого я пытался реформировать. Я огляделся, отобрал еще нескольких людей и влил в них новую струю жизни путем доброжелательной критики и порицаний – так что, когда я отложил свое редакторское перо, то имел четыре удара хлыстом и мне причиталось две дуэли. Удары хлыстом нас не интересовали, они не сулили славы, ради них не стоило стараться, но понятия чести предписывали обратить внимание на эту вторую дуэль. Мистер Катлер прибыл из Карсон-Сити и отправил вызов из отеля, через посыльного. Стив отправился туда, чтобы его умиротворить. Стив весил всего девяносто пять фунтов, но по всей Территории было хорошо известно, что своими кулаками он мог превзойти любого, кто ходил на двух ногах, каковы бы там ни были его вес и мастерство. Стив был истинным Гиллисом, а когда кто-нибудь из Гиллисов встречался с кем-то лицом к лицу и намеревался сделать какое-то предложение, от этого предложения было не так просто отмахнуться. Когда Катлер обнаружил, что Стив является моим секундантом, он поостыл, сделался спокойным и рассудительным и приготовился слушать. Стив дал ему пятнадцать минут на то, чтобы убраться из отеля, и полчаса на то, чтобы убраться из города, а не то будут последствия. Таким образом, и эта дуэль прошла успешно, потому что мистер Катлер немедленно отбыл в Карсон полностью убежденным и реформированным человеком.








