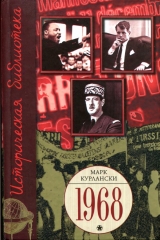
Текст книги "1968. Год, который встряхнул мир"
Автор книги: Марк Курлански
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 36 страниц)
Глава 4
НАШЕПТЫВАЯ ПОЛЯКАМ НА УХО
Я хочу править так же, как и Ты, всегда тайно
Адам Мицкевич. «Дзяды, или Канун»
Столкновение противоположностей, характеризующее стиль политиков и коммерсантов, является одним из путей, с помощью которых речь и диалог предохраняют их от выражения протеста и отказа.
Герберт Маркузе. ♦Человек одного измерения», 1964
Ни для кого развертывание студенческого движения в «самом счастливом бараке социалистического лагеря» не было такой неожиданностью, как для самих студентов. «Счастливый барак» – это своеобразный польский юмор. Это не значит, что поляки были счастливы, но все же им удавалось отстаивать некоторые свои права, такие как право на передвижение, отсутствовавшее в других странах Восточной Европы. Они, несомненно, были счастливее, чем граждане новотновской Чехословакии. Польское правительство даже установило таксу в пять долларов в твердой валюте для тех поляков, которые хотели выехать за границу.
К 1968 году в западных академических кругах уже несколько лет как распространилось мнение о том, что советский блок рушится. Летом 1964 году группа экспертов по вопросам экономики и бизнеса провела в Москве, Польше, Чехословакии и Югославии серию семинаров по проблеме дезинтеграции блока. Принимавший в них участие президент Университета штата Калифорния в Беркли Кларк Керр ощущал разлад в коммунистическом мире, но не имел ни малейшего представления о том, что, вернувшись в университет осенью, он окажется перед лицом первого крупного студенческого выступления.
Теперь многие решили, что пришел последний час восточного блока. Когда Дубчек пришел к власти в Чехословакии и Брежнев бросился в Прагу, опытные советологи сразу же вспомнили октябрь 1956 года, когда Никита Хрущев поспешил в Варшаву и встретился с Владиславом Гомулкой, недавно находившимся в опале, вернувшимся в политику и пользовавшимся чрезвычайной популярностью. Несмотря на вмешательство Хрущева, Гомулка пришел к власти, и это неповиновение, проявленное Польшей, воодушевило венгров на восстание против Москвы. Была ли неудачная поездка Брежнева в Прагу прелюдией к мятежу в советском блоке?
Великий страх охватил Москву. Вновь взбунтовались Румыния и Югославия. Даже Куба Фиделя Кастро давала Советскому Союзу основания для беспокойства. В разгар трений между СССР и Румынией встречу коммунистических партий в Будапеште бойкотировала Куба, где вовсю шла антисоветская чистка в правительстве. В январе Коммунистическая партия Кубы «разоблачила» просоветскую «микрогруппировку» в своей среде, и девять просоветских кубинских высокопоставленных чиновников были преданы суду и осуждены за «предательство революции». Один из них был приговорен к пятнадцати годам тюрьмы, восемь – к двенадцати, а еще двадцать шесть человек – к срокам от двух до десяти лет лишения свободы.
Но хотя поляки и имели в Восточной Европе репутацию смутьянов, не Польша была главной головной болью Москвы в 1968 году. Хотя Гомулка в свои шестьдесят три года пережил Хрущева в политическом отношении, он понимал, что польский национализм и необходимость строить отношения с Москвой требуют лавирования и что нужно избежать всплеска, подобного произошедшему в Венгрии в 1956 году. Но вторжение в Венгрию и вызванное им возмущение в мире также создали трудности для Советов. Гомулка понимал, что Кремль совершил ошибку, и это давало шанс для получения уступок. Советская экономика находилась не в лучшем состоянии, и СССР не мог позволить себе отреагировать на враждебность Запада, вызванную разгромом Венгрии в 1956 году. Поскольку Москва проявляла колебания, это, как казалось, было удобное время, чтобы выяснить пределы возможного. Каковы эти пределы, было неизвестно, но все лидеры социалистического блока, включая Дубчека, понимали, что есть по крайней мере две вещи, которых
Кремль им не позволит: выход из организации Варшавского Договора и оспаривание монополии Москвы на господство.
Владислав Гомулка представлял собой такую загадку, что для агентов ЦРУ и КГБ попытка проанализировать его действия вполне оправдывала их жалованье. Он был антинационалистом с жилкой польского национализма, человеком, бунтовавшим против Москвы и в то же время лидером, страстно желавшим хороших отношений с СССР, человеком, подозреваемым в антисемитизме, но женатым на еврейке. Польские евреи острили, что брак с такой женщиной кого хочешь сделает антисемитом. Мариан Турский, обозреватель еженедельника «Политыка», говорил, что «между ним и де Голлем было нечто общее... чрезвычайно эгоистичный человек с безграничным самомнением».
Гомулке пришлось столкнуться с тремя проблемами сразу, каждая из которых требовала особого внимания: неудовлетворенность населения, обусловленная провалами в экономике; паранойя Москвы; внутренняя борьба за власть с амбициозными генералами, составлявшими заговоры для свержения Гомулки. Согласно Яну Новаку, руководителю польской службы радиостанции «Свободная Европа», министр внутренних дел Мечислав Мочар составил заговор с целью свержения Гомулки еще в 1959 году.
Мочар не читал ни Маркса, ни Ленина, да и, если на то пошло, других авторов. Необразованный и неотесанный, он любил власть и хотел превратить «самый счастливый барак социалистического лагеря» в полицейское государство, управляемое им самим. Он являлся представителем группировки крайних националистов, известных как «партизаны». Последние боролись с нацистами в самой Польше и были злейшими врагами так называемых «московитов», группировки, поддерживавшей Гомулку. Те, в свою очередь, боролись с немцами, бежав в Россию и присоединившись к Советам. Евреи, вынужденные оставить Польшу, становились «московитами», а не «партизанами». Чтобы обеспечить себе и «партизанам» приход к власти, Мочар сделал то, что не раз уже делалось в польской истории: разыграл еврейскую карту.
В восемнадцатом веке Польша была местом проживания множества евреев, после того как в 1492 году их изгнали из Испании. Однако мало-помалу поляки становились антисемитами, и во время Второй мировой войны многие из них, оказывая сопротивление немцам, объединялись для истребления евреев, уничтожив почти двести семьдесят пять тысяч из трех миллионов проживавших в Польше. После войны выжившие евреи по-прежнему становились жертвами убийств и погромов со стороны поляков. Социализм не означал конца антисемитизма, как то обещали, и евреи волна за волной покидали Польшу в ответ на периодические вспышки такого рода. Польское правительство поощряло выезд евреев в Израиль, выдавая им паспорта и отправляя их в Вену. В среде польских евреев ходила такая шутка: «Как поговорить находчивому еврею с немым?» Ответ: «По телефону из Вены».
В середине 60-х в Польше оставалось лишь около тридцати тысяч евреев, и большинство из них отождествляли себя скорее с Коммунистической партией, чем с иудаизмом. Несмотря на периодические всплески польского фанатизма, они чувствовали себя на удивление уютно, считая, что коммунизм – единственная надежда на построение справедливого общества и исчезновение антисемитизма. В действительности для коммунизма иудаизм и антисемитизм были устаревшими понятиями. Антисемитизм, как и иудаизм, оставался фактом прошлого Польши.
В 1967 году Мочар выступил с разоблачениями: правительство Гомулки засорено евреями. Многие «московиты», поддерживавшие Гомулку, были евреями, и некоторые из них занимали высокие посты в правительстве.
Польские антисемиты соглашались с этим, не нуждаясь в доказательствах того, что евреи – чужаки, агенты иностранных правительств и нелояльны Польше. В Польше польских евреев всегда называли евреями. Поляк по определению христианин. Евреев часто обвиняли в том, что они принимают сторону Советов против Польши или Израиля против Советов. Теперь Мочар заявил, что они виновны и в том и в другом.
Все эти события совпали по времени – они произошли в
1967 году, когда арабы были разгромлены израильтянами во впечатляющей Шестидневной войне. Поляки поздравляли Израиль. Гомулке доставляли расшифровки поздравительных телефонограмм, поступавших в израильское посольство от высокопоставленных польских чиновников еврейского происхождения. Разумеется, эти расшифровки фабриковались группировкой Мочара, на самом же деле такие контакты не имели места. Но едва ли Гомулка игнорировал такие обвинения.
Израильское посольство получало цветы и телеграммы с поздравлениями со всей Польши, хотя и не от лиц, работавших в правительстве. Поздравления поступали не только от евреев. Поляки спрашивали, не являются ли поляками израильтяне, участвовавшие в Шестидневной войне, – те люди, которые покинули Польшу через Вену. Неожиданно польские евреи стали поляками. Не были ли израильские силы обороны, Хагана, сформированы поляками? На самом деле они были созданы евреем из Одессы, Владимиром Жаботинским, но многие израильские солдаты действительно были выходцами из Польши. Не исчез ли во время этой войны «йойне», антисемитский стереотип трусливого еврея? «Jojne poszedl па woine» – «йойне» пошел на войну» – это даже рифмовали по-польски. И «йойне» даже победили, побив обученные Советами арабские войска за шесть дней. Это была чудесная шутка, и все – не евреи, а поляки – смеялись, пожалуй, слишком громко.
Гомулка не являлся горячим поклонником русских, но знал, что сейчас не лучшее время для насмешек над ними. После поражения Советского Союза стало известно, что во время Шестидневной войны Брежнев направил советские атомные подводные лодки в Средиземное море. Затем он напрямую позвонил Джонсону, и оба лидера добились прекращения израильского наступления на Дамаск. Пока все это происходило, Гомулка и другие руководители стран Восточной Европы встретились с Брежневым. Записи секретаря Гомулки показывают: что новости о неудачах арабов приходили во время встречи Брежнева с Гомулкой и другими лидерами одна за другой. Русские чувствовали себя не только побежденными, но и униженными. Гомулка вернулся в Варшаву в сильном волнении. Он говорил, что мир сползает к войне. Затем к нему поступили сообщения от министра внутренних дел и главы тайной полиции Мочара о выявленной симпатии евреев Израилю. В сообщении умалчивалось о том, что аналогичные чувства испытывают и собственно поляки.
18 июня 1967 года в речи на съезде профсоюзов Гомулка говорил об активности «пятой колонны», и эту речь истолковывали как признак того, что чистка евреев, или, как тогда выражались, «антисионистская кампания», может вот-вот начаться. Выражения «пятая колонна» (для обозначения тайных предателей) и «сионист» теперь означали почти одно и то же. Сионизм следует вырвать с корнем, а сионистов убрать с ответственных постов. Но слово syjoninci, обозначавшее сионистов, было мало известно, и некоторые рабочие, которым приказывали участвовать в демонстрациях против syjoninci, несли плакаты: «Syjoninci do Syjamu!» – «Сионисты, убирайтесь в Сиам!»
В то время как на Гомулку с одной стороны давил Мочар, а с другой – Москва, стало шириться диссидентское движение среди польских студентов. То, что студенты университетов стали источником беспокойства для верхов, явилось неожиданностью, поскольку они происходили из добропорядочных коммунистических семей и потому были на привилегированном положении. Из грубого материала – общества, ставшего кошмаром, – их родители создали благодаря коммунизму общество большей социальной справедливости и, если говорить о тех, кто был еврейского происхождения, общество, не терпевшее расизма.
В конце Второй мировой войны, когда Красная армия быстро гнала немцев на запад, польская Армия Крайова подняла восстание в Варшаве, ожидая прихода советских войск. Но советские войска не пришли, и Армия Крайова, равно как и столица Польши, была уничтожена. Советская сторона утверждала, что ей помешало сопротивление немцев, поляки же говорили, что немцы хотят сокрушить Польшу и поставить ее на колени. Поданным советской стороны, Варшава была уничтожена на 80%, по данным польских историков – на 95%.
Когда Красная армия вступила в польскую столицу, лишь одна десятая ее населения, сто тридцать тысяч человек, продолжала жить в городе. Люди жили в тесноте на другом берегу Вислы или обитали в руинах, готовых окончательно рухнуть.
Польские коммунисты едва ли не первым делом принялись восстанавливать исторический центр Варшавы, культурную витрину столицы с ее прекрасными старыми живописными домами, построенный в романском стиле национальный театр с высокими колоннадами и барельефами и университет с кампусом, известным своими воротами и садом. Здесь, за черными железными воротами, в восстановленном историческом центре разрушенной столицы, мирно учились дочери и сыновья коммунистов, которые строили новую Польшу.
Это не было настоящей демократией. Это не было настоящей свободой слова. Это слегка напоминало пьесу немецкого драматурга Петера Вайсса (1964) «“Преследование и убийство Жана Поля Марата”, поставленное обитателями сумасшедшего дома Шарантон под руководством маркиза де Сада», или «Марат/Сад», – название, получившее известность после английской постановки Питера Брука и фильма 1966 года. Эта пьеса не только дала начало моде на длинные названия, но также стала одной из самых обсуждаемых во всем мире театральных постановок середины 60-х годов. Выражая стремление молодежи во многих странах мира к свободе, автор «Марата/Сада» переносит действие вдень накануне годовщины взятия Бастилии в 1808 году. Лишь недавно закончилась Французская революция, и люди еще не совсем привыкли к свободе. В конце звучала песня «Четырнадцать славных лет», и обитатели сумасшедшего дома пели:
Если у большинства мало, а кто-то обладает многим, вы можете видеть, насколько близка наша цель.
Мы можем сказать, что любим без пристрастия и страха, а то, чего мы не можем сказать, мы нашептываем вам в ухо.
Молодые польские коммунисты не всегда соглашались со своими родителями и испытывали ощущение «несвободы», как это называл другой чрезвычайно популярный немецкий автор середины шестидесятых годов, философ Герберт Маркузе.
Польша и многие другие страны советского блока служили примером для теории Маркузе о том, что столкновение противоположностей мешает дискурсу. Чтобы критиковать правительство или «систему», в Польше нужно было уметь говорить иносказаниями. Еженедельник «Политыка» считался либеральным и свободомыслящим, писал о Дубчеке и Чехословакии, хотя преимущественно в форме критики. Часто о событиях говорилось задним числом. Если студенты устраивали акции протеста, «Политыка» об этом не рассказывала. Но она могла сообщить, что студент отказался от своего письма с выражением протеста, и могла даже перечислить кое-что из того, от чего, по его словам, автор теперь отрекался. Из этого рассказа польские читатели могли узнать о письме с выражением протеста и даже кое-что о его содержании. Когда редактор «Политыки» Мечислав Раковский, который несколько десятилетий спустя стал последним Первым секретарем правящей Польской социалистической партии, хотел подвергнуть правительство критике, он писал о нем хвалебную статью, а неделю спустя давал статью, критикующую его собственную. Он «нашептывал вам в ухо».
Польская молодежь, ставшая более искушенной в диссидентстве, овладела новой техникой распространения информации. Западным журналистам рассказывали по секрету то, что те хотели бы узнать о польском народе. Особенно охотно имели дело с «Нью-Йорк тайме» и «Монд». Но годились не только эти издания, поскольку уже на следующее утро все это прочитывал Ян Новак и его сотрудники в Вене, где находилась польская служба радиостанции «Свободная Европа». Польская и чешская службы работали вместе, так что поляки могли получать сведения о событиях в Чехословакии, а чехи – о событиях в Польше. В1968 году поляки и чехи знали, что в обеих странах имеет место студенческое движение. Они знали, что то же происходит и в США. Они могли легко узнать и из польской прессы о Мартине Лютере Кинге, сидячих забастовках на Юге, американском студенческом движении и студенческих демонстрациях против вьетнамской войны. Главная официальная газета Польши, «Трибуна люду» («Народная трибуна»), сообщала мало новостей о событиях в Польше в 1968 году, но много писала о войне во Вьетнаме и на Ближнем Востоке, в особенности о том, как много земель захватил Израиль, и о том, что он не собирается их отдавать назад. Она также много писала о борьбе за права человека и антивоенном движении в США. В официальной коммунистической прессе сообщалось о сидячих забастовках и маршах протеста, которые стали обычным делом в кампусах американских университетов. Но в 1968 году некоторые польские студенты стали использовать эти методы в Польше.
По иронии судьбы в «самом счастливом бараке социалистического лагеря» зарубежная пресса не была запрещена. Любой поляк мог сходить в библиотеку и почитать «Монд» или британскую «Гардиан». Однако эти издания были доступны лишь тем, кто умел читать по-французски или по-английски, в том числе и многим студентам. Другим полякам приходилось ожидать передач радиостанции «Свободная Европа».
Студенты, туристы, даже бизнесмены, путешествуя за границей, заходили на радиостанцию «Свободная Европа» в Вене и передавали ей различную информацию. Но многие отказывались сотрудничать со «Свободной Европой», поскольку поколение времен «холодной войны» росло, воспринимая капиталистов как врагов, отрабатывая методы защиты в случае американской ядерной атаки в немногочисленных переполненных школах и еще более раздражаясь на их нехватку и тесноту из-за больших расходов на убежища от радиоактивных осадков, которые должна была содержать каждая школа.
Известный диссидент Яцек Куронь рассказывал: «Я знал, что радиостанция «Свободная Европа» была создана ЦРУ. Я этого не знал наверняка, но думал так. Но это было единственное средство, которым я располагал. Я бы предпочел иметь дело с более нейтральными СМИ, но других не было». Однако, несмотря на неприятные чувства, которые он испытывал по отношению к «Свободной Европе», ее руководство восхищалось им и доверяло ему. Ян Новак говорил о Куроне: «Он один из самых замечательных людей, с которыми я встречался в своей жизни».
Альтернативой радиостанции «Свободная Европа» была «Культура», газета на польском языке, которую издавала группа поляков, живших в Париже. В Польшу могло попасть до пяти тысяч экземпляров, чего было слишком мало, да и переправка их происходила слишком медленно.
Куронь вспоминал: «Моей главной заботой было донести информацию до польского народа. Кого избили, кого арестовали. Я был главным добытчиком информации и должен был распространять ее. – Он указал на белый телефон в маленькой темной варшавской квартире. – Этим телефоном я пользовался, чтобы по нескольку раз в день звонить на радиостанцию «Свободная Европа» для передачи им информации, поскольку она немедленно возвращалась в Польшу по каналам СМИ. Однажды я рассказывал им о семерых находившихся в тюрьме, и тут в комнату вошли два агента политической полиции и велели мне идти с ними. «Кого вы собираетесь арестовать?» – спросил я. «Мы собираемся арестовать вас, Яцек Куронь».
Поскольку Куронь все еще находился на связи с радиостанцией «Свободная Европа», о его аресте стало известно и немедленно сообщено по радио.
Радиостанция «Свободная Европа» вещала для Польши с пяти утра до полуночи, все семь дней в неделю. Радиопередачи велись поляками – носителями языка. Здесь были и музыка, и спорт, и новости к каждому часу. Радиостанция декларировала строгую объективность и отсутствие всякого редакторского вмешательства, чему, однако, верили немногие. Это мало кого волновало. Слушатели радиостанции надеялись, что она передает точку зрения Запада, однако значительная часть информации о Польше поступала из самой Польши.
Правительство глушило радиостанцию, но это лишь служило ориентиром. Если поляк настраивался на соответствующую волну и слышал привычный треск в эфире, это означало, что программа была важной. Слова, несмотря на треск, можно было расслышать. «Глушение было нашим союзником, – вспоминает Ян Новак. – Людям становилось интересно, что же от них хотят скрыть».
Однажды в 1964 году на радиостанцию «Свободная Европа» в Вене зашел белокурый поляк среднего роста и приятной наружности – он возвращался в Польшу из Парижа. Ему было всего восемнадцать лет, и он являлся последователем двух других, более старших и весьма известных диссидентов – Куроня и Кароля Модзалевского. Молодой человек с энтузиазмом говорил о своем видении социализма, демократического и гуманного. Через четыре года Александр Дубчек назовет это «социализмом с человеческим лицом».
Новак так вспоминал об этом молодом человеке, которого звали Адам Михник: «На вид он казался совершенным мальчишкой, но его отличала удивительная для такого возраста интеллектуальная зрелость». Михник родился в 1946 году в семье выжившего во времена холокоста еврея из Львова, ныне находящегося на территории Украины, но в тот момент Львов был польским городом. До войны, когда в мире еще царила тишина, его отец происходил из семьи типичных нищих местечковых евреев. Отец и мать Михника были коммунистами, отца перед войной арестовали как партийного активиста. Но Адам рос в коммунистической атмосфере, где о Розе Люксембург и Льве Троцком (оба по совпадению евреи) говорили как о героях.
«Я знал, что я еврей, только потому, что меня называли так антисемиты», – говорил Михник, имея в виду, что до 1968 года он особенно не задумывался о своем еврейском происхождении.
В 1965 году Михник был студентом исторического факультета Варшавского университета, одним из тех пятнадцати студентов младших курсов, которые группировались вокруг Куроня и Модзалевского, опытного двадцатисемилетнего исследователя из исторического департамента и члена Коммунистической партии. Они все были коммунистами. Михник говорил о Куроне и Модзалевском: «Они были героями, лидерами».
Яцек Куронь, как и Михник, был родом из Львова, но родился до войны. В 1965 году ему исполнился уже тридцать один год. Его мать имела ученую степень по юриспруденции и вышла замуж, уже будучи беременной Яцеком. Она потом не раз с горечью жаловалась, что «появилась на свет для лучших дел». Отец Куроня был инженером-механиком, лидером Польской социалистической партии. Он не любил Советы, и чем больше имел с ними дело, тем больше становился антикоммунистом. В 1949 году, когда Яцек решил вступить в Коммунистическую партию в возрасте пятнадцати лет, его отец горячо возражал против этого решения.
Поначалу дискуссионные группы Куроня и Модзалевско-го встречали поддержку со стороны правительства. Молодые коммунисты имели возможность встречаться с партийными функционерами и обсуждать различные проблемы в узких дружеских кружках. Однако в середине 60-х годов стали иногда раздаваться столь неприятные вопросы, что партийные чиновники просто перестали на них отвечать. В ответ на речь Модза-левского к студентам младших курсов партийное руководство запретило деятельность Союза молодых социалистов (ZMS) – дискуссионной группы Модзалевского в Варшавском университете. Изгнанные из университета, члены Союза продолжали встречаться на частных квартирах. В этих встречах принимало участие до пятидесяти студентов.
После многих и долгих обсуждений Куронь и Модзалев-ский пришли к выводу, что система, существующая в Польше, не может или не хочет соответствовать учению Маркса. Это был марксизм лишь по имени, по многочисленным ярлыкам, использовавшимся для того, чтобы сбить с толку и обмануть народ. В 1965 году они решили написать и распространить в фотокопиях открытое письмо, в котором говорилось, что господствующая система является обманом и лишена справедливости и свободы. Молодые люди не поставили своих подписей, не желая знакомиться с польской тюрьмой. Но каким-то образом польская политическая полиция узнала об их деятельности и нагрянула в помещение, где производилось фотокопирование. Полиция просто конфисковала оригинал и предупредила Куроня и Модзалевского, что если они будут распространять фотокопии, то их ждет тюремное заключение.
Если бы за этим не последовало никакого наказания, то они, возможно, вняли бы этому предупреждению. Однако жена Куроня лишилась работы ассистента профессора, и Куроню и Модзалевскому пришлось немало поволноваться. Спустя несколько месяцев они решили, что у них нет иного выбора, кроме как выразить протест, вступив в открытую полемику, и за это пойти в тюрьму.
Куронь и Модзалевский подписали свое открытое письмо, а после подписей добавили слова о том, что ожидают за свои действия трехлетнего заключения. «Мы оказались совершенно правы», – вспоминает Куронь.
Они распространили только двадцать копий, но одну из них они передали Ежи Гедройцу, который издавал в Польше газету «Культура», то есть письмо было распространено более чем в пяти тысячах экземплярах в виде газетной публикации. Письмо было переведено на чешский, а затем и на большинство других европейских языков. Его читали по-испански на Кубе и по-китайски в КНР. Его читали студенты в Париже, Лондоне и Берлине.
В девятнадцать лет Михник впервые попал в тюрьму вместе с героями поневоле Куронем и Модзалевским.
В январе 1968 года диссидентское движение стало набирать силу среди студентов Варшавского университета, но особого резонанса не имело – о нем даже не знали за прекрасными воротами кампуса. Модзалевский говорил, что они блокированы и что нужно выступить. Он всегда предупреждал: когда они сделают это, правительство нанесет удар.
Возможность выступить появилась в связи с постановкой пьесы «Дзяды» поэта начала девятнадцатого века Адама Мицкевича, одного из наиболее чтимых мастеров польской литературы. Неоспоримая репутация Мицкевича, не слишком плодовитого автора, основывалась прежде всего на поэме о сельской жизни в Литве «Пан Тадеуш» и пьесе «Дзяды». Одной из приоритетных задач при восстановлении старого центра Варшавы после войны являлась реконструкция украшенной садом площади, обустроенной в 1898 году в ознаменование столетия Мицкевича. Среди роз и плакучих ив стоит бронзовый памятник поэту. Поставить «Дзяды» в Варшаве было столь же естественно, сколь «Гамлета» в Лондоне или пьесы Мольера в Париже.
При коммунистах, так же как и при прежних режимах, изучению этой пьесы много внимания уделялось в школе. «Дзяды», что иногда переводят на английский как «Канун праздника предков» («Forefathers’ Eve»), начинается с ритуального вызывания дзядов, умерших предков. Герой пьесы, Густав, умирает в тюрьме и возвращается на землю в облике революционера по имени Конрад. В пьесе отчетливо звучит тема бунта, борьбы с властью, равно как и польская национальная тема, поскольку значительная часть пьесы посвящена борьбе политических заключенных, находящихся в руках русских угнетателей. Но здесь есть также демоны, священник и ангелы. Эта пьеса – очень сложное произведение театрального искусства, трудное для постановки, и потому представляет собой большую проблему для польских режиссеров.
1968 год был звездным часом для театров, временем, бросившим вызов традициям, когда спектакли становились важной темой для обсуждений в обществе. В Нью-Йорке Юлиан Бек и его жена Джудит Малина пытались сломать последние барьеры традиционных постановок в своем «Живом театре» («Living Theater»). В своей гостиной в Верхнем Уэст-Сайде, Манхэттен, они занялись постановкой произведений сложных современных авторов, таких как Гарсиа Лорка, Бертольт Брехт, Гертруда Стайн, а также нью-йоркский писатель-абсурдист и обличитель общественных язв Пол Гудмен. Они устраивали спектакли в театрах и мансардах, где вместо продажи входных билетов собирали пожертвования, а позднее совершили поездку в Париж, Берлин и Венецию, не пользуясь особой известностью и имея очень мало денег. Юлиан делал эффектные и оригинальные декорации из обрезков бумаги. Он занимался постановками лишь время от времени, чаще это делала его жена Джудит (дочь хасидского раввина из Германии и честолюбивой актрисы, устраивавшей чтения классической немецкой поэзии и ставившей пьесы, особенно в стихах). Они все больше и больше увлекались политикой, гордясь тем, что сломали барьер между политикой и искусством. К 1968 году их театр стал серьезной антивоенной силой, и их спектакли обычно заканчивались не только аплодисментами, но и криками «Остановить войну!», «Освободить заключенных!» и «Изменить мир!». В ходе спектаклей мало-помалу налаживался контакт с аудиторией. Иногда актеры подавали еду зрителям, а во время одного из спектаклей прямо на сцене создавалось полотно в духе абстракционистской живописи, которое затем было продано зрителям с аукциона. В Театре шанса дальнейший ход спектакля определяли броском костей. В «Гауптвахте» Кеннета Брауна, темой которой была жестокость в тюрьмах Корпуса морской пехоты, актеры давали волю своей фантазии, изображая издевательства над заключенным.
Оригинальная постановка «Марата/Сада» Питером Бруком также оказала влияние на режиссерское искусство во всем мире. В Нью-Йорке в январе была поставлена пьеса Тома Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», трактующая сюжет шекспировского «Гамлета» с точки зрения этих двух второстепенных персонажей. Тогда же Джозеф Папп поставил «Гамлета» с декорациями «под современность» и с Мартином Шином в главной роли. Клайв Барнс писал в «Нью-Йорк тайме»: «Гамлет, непонятный для обывателей, которые хотяТ убедиться, что Бард существует для птичек». Ричард Уоттс-младший в «Нью-Йорк пост» отзывался о постановке так: «Безумный бурлеск, временами забавная сатира, временами бессмыслица». Все это было так, однако Паппа хвалили за смелость, смелостью в то время восхищались больше всего. В апреле он поставил новый спектакль, «Волосы. Американский рок-мюзикл из жизни племен», посвященный во многом жизни хиппи и почти не имевший сюжета. Том О’Хорган, перенесший эту постановку на Бродвей, отправил актеров собирать пожертвования и раздавать зрителям цветы. Барнс в очень благосклонной, прямо-таки восторженной рецензии писал: «В одном месте, которое позднее будут называть «голой сценой», известное число мужчин и женщин (надо бы сосчитать, сколько именно) показались в голом виде с ног до головы». По поводу нудизма в «Волосах» в «Пари-матч» указывалось, что были и те, кто возражал против демонстрации голой спины Марата в постановке Брука.
В дубчековской Чехословакии подпольные драматурги вроде Вацлава Гавела и Павла Кохута стали мировыми знаменитостями, сочетая в своих сочинениях чешскую кафкианскую традицию абсурдистского остроумия с опасным слиянием политики и искусства в духе Бека. Излюбленной мишенью служила коммунистическая бюрократия. Публичный театр Паппа поставил пьесу Гавела «Меморандум» с Олимпией Дукакис в главной роли, где служащие борются против введения искусственного языка.







