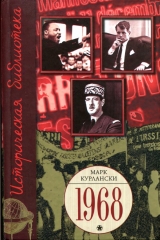
Текст книги "1968. Год, который встряхнул мир"
Автор книги: Марк Курлански
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 36 страниц)
В Братиславе девушки задирали свои мини-юбки, и когда молодые солдаты из советских танковых экипажей останавливали машины, чтобы полюбоваться, появлялись местные парни. Они разбивали камнями фары и даже смогли поджечь баки у некоторых машин. Танковая колонна из Венгрии с шумом прогрохотала и проскрежетала по мосту через Дунай, в то время как студенты университета бросали кирпичи и осыпали войска непристойной бранью. Советский солдат залег за башней танка и стрелял по толпе, убив пятнадцатилетнего учащегося. Это привело в ярость других студентов, но советские солдаты усилили ответный огонь и застрелили еще четверых студентов, в то время как о броню монотонно стучал град камней и кирпичей. По всей стране студенты бросали в танки бутылки с зажигательной смесью. Если они не знали, как их делать, то бросали горящие тряпки. Молодые люди закутывались в чешский флаг и бросались на танки, чтобы заткнуть стволы орудий.
Вскоре войска взяли под контроль страну, но вызывающие надписи вроде «Иван, убирайся домой!» продолжали появляться на стенах. Знаки, указывавшие направление, по всей стране были повернуты на север и заменены на «Москва – 2000 км».

21 августа 1968 г., рядом с пражской радиостанцией
Стены были покрыты плакатами, осуждавшими вторжение, и надписями, гласившими: «Социализму – да; оккупации – нет!», «Прибыл русский национальный государственный цирк, выступают дрессированные гориллы», «Здесь не Вьетнам!», «Ленин, проснись! Брежнев сошел с ума!» На некоторых плакатах буквы ССС в аббревиатуре СССР были изображены в виде молний, как на эмблеме эсэсовцев.
Разъяренные граждане Чехословакии выходили навстречу интервентам и пытались убедить сидевших на танках солдат, что они поступают неправильно и что им следовало бы уйти, – затея столь же бесполезная, как и попытки привлечь на свою сторону молодых национальных гвардейцев со стороны демонстрантов в Чикаго, кричавших: «Присоединяйтесь к нам!» Чехи, используя начальные знания русского языка, который учили в школе, спрашивали солдат в танках, зачем они пришли в чужую страну. Обычные малообразованные восемнадцатилетние сельские парни безучастно смотрели на жителей чешской столицы и твердили, что выполняют приказ. Танки, окруженные пражанами, были обычным зрелищем. То же можно сказать и об иностранцах в Праге, которая вплоть до этой летней ночи была «местом, где можно жить». В течение нескольких дней они покинули ее без инцидентов.
Чехословацкое телевидение, прежде чем его отключили, умудрилось выпустить в эфир документальный фильм о вторжении в страну. Особенно шокирующей оказалась сцена, показавшая молодых людей, которые сидели перед советским танком, а тот угрожающе поворачивал башню. Руководство Би-би-си договорилось с «Юропиэн бродкаст юнион», трансляционной сетью западных радиостанций, о создании своей станции в Вене, на Дунае, прямо напротив Братиславы, чтобы иметь возможность сообщать всю информацию, которую удастся уловить через реку. По иронии судьбы чехословацкая сторона была готова к этому, поскольку здесь находился радио-центр коммунистического блока для трансляции на Запад. В прошлом он использовался в основном для спортивных радиопередач. Чехам удалось переправить почти сорокапятиминутный фильм о сопротивлении, а также обращение к Генеральному секретарю ООН У Тану. Хватило нескольких кадров для полного опровержения заявления Советов о том, будто их войска радостно встретили в Чехословакии. Фрагменты фильма были показаны в вечерних теленовостях в США, странах Западной Европы и по всему миру.
В Америке все это, в свою очередь, привело к эксперименту Вечерние теленовости теперь длились полчаса. Несколько минут уделялось рекламе, а остальное время посвящалось репортажам о съезде в Чикаго, которые велись как в помещениях, так и на улице, вторжению в Чехословакию, дебатам в ООН по этому вопросу, худшей за прошедшее лето неделе вьетнамской войны и некоторым другим сюжетам. С осени 1963 года, когда программы радионовостей увеличились с пятнадцати минут до получаса, больше места уделяя вопросу о правах человека, Уолтер Кронкайт стал подталкивать Си-би-эс к тому, чтобы эти программы длились час. После того как сюжет о вторжении в Чехословакию 21 августа перебил репортажи о съезде и беспорядках в Чикаго, телекритик «Нью-Йорк тайме» Джек Гулд поблагодарил общественное телевидение за гибкость, позволившую увеличить время новостей в такой исключительный день, наполненный сенсационными событиями. Это контрастировало с радионовостями, которые длились лишь по полчаса и не могли должным образом осветить события. В конце концов Уолтер Кронкайт добился чего хотел, и вечером 22 августа Си-би-эс увеличила его программу до часа. Гулд приветствовал эксперимент и с особой похвалой отзывался о том, что было выделено время для репортажа, тайно вывезенного из Чехословакии. Но сотрудники телевидения доказывали, что большинство зрителей не захотят сидеть у экрана целый час и смотреть новости и, что важнее, филиалы, опираясь на тот же аргумент, приводившийся против увеличения длительности программы теленовостей до получаса несколько лет назад, не захотят терять полчаса ценного эфирного времени, которое смогли бы гораздо более выгодно использовать, употребив под рекламу. Эксперимент удался. Кронкайт выиграл сражение, но проиграл войну. В сентябре, однако, Си-би-эс начала выпускать часовой тележурнал новостей дважды в месяц – «60 минут».
Популярный чешский певец Карел Чернох записал новую песню: «Я надеюсь, что все это только дурной сон». Но для Москвы это тоже был дурной сон. Кадры хроники были сразу же показаны телевизионными станциями всего мира, попали на первые полосы газет и обложки журналов, и вместо кадров с приветствиями в адрес освободителей все видели молодых безоружных чехов, размахивавших «проклятыми» чешскими флагами и вызывающе становившихся перед тяжелыми советскими танками. Телезрители наблюдали противостояние длинноволосых бородатых пражских студентов и коренастых светловолосых запуганных русских крестьянских парней.
Когда в Москве отдельные политики возражали против вторжения, по-видимому, они опасались именно таких результатов. Официальные заявления СССР и его союзников, что они пришли на помощь Чехословакии, оказались откровенной ложью. Дубчек выступил по радио, заявив, что в страну вторглись без ведома президента, председателя Национального собрания и его самого. Советская сторона быстро убедилась в том, что народ Чехословакии верит своему правительству и тому, что говорят его лидеры, особенно Дубчек, Черник и Смрковский. Советам было бесполезно спорить с ними. Советский план А провалился, и то, что президиум не стал свергать Дубчека, ни для кого не явилось неожиданностью. Просоветские элементы не смогли взять ситуацию под контроль даже после прихода войск, и это стало большим сюрпризом. То, что безоружное население не захотело подчиниться вооруженным до зубов армиям пяти стран Варшавского Договора, приводило их в ярость. То, что это было записано на пленку и распространено благодаря средствам массовой информации по всему миру, нанесло Советам огромный урон.
СССР вынужден был разыграть последнюю карту. Речь шла о Людвике Свободе, офицере, которому было уже за семьдесят, к неудовольствию молодежи, занявшем пост президента. Секретарь ЦК КПЧ Зденек Млынарж говорил о Свободе, что он «не только не был сторонником политических реформ, он вообще не был политиком. Он был солдатом. По иронии судьбы во время Второй мировой войны Свобода возглавил в СССР чехословацкие силы, сражавшиеся бок о бок с Советской армией. Было ясно: начиная с того времени он придерживался мнения, что Чехословакия должна безоговорочно поддерживать Советский Союз».
Но когда члены просоветской группировки нанесли визит президенту в пражском замке Градчаны, где его держали под стражей советские солдаты, и попросили подписать документ, одобряющий советское присутствие, семидесятидвухлетний офицер крикнул: «Вон!»
Казалось, все шло вразрез с советскими планами. Обычно вторгающаяся армия или группа заговорщиков первым делом захватывает радио и телевизионные станции. Однако в планы Советов это не входило, поскольку они думали, что уже будут контролировать всю страну к тому моменту, когда войска вступят в Прагу. Когда наконец они прервали работу Пражского радио, подпольные радиостанции начали передавать новости о советских репрессиях и чехословацком сопротивлении. Эти передачи разоблачали советскую пропаганду. Так, когда советская сторона сообщила о нарушении Словакией своих обязательств, подпольные радиостанции заявили, что это ложь. Они также передавали сведения о советских передвижениях, о том, кого пытались арестовать и кого уже арестовали. Пока чешское радио продолжало вещание, сохранялось ощущение, что Советы не полностью контролируют страну. Лозунгом подпольного радио были слова: «Мы с вами. Будьте с нами». Ян Заруба, чиновник министерства внутренних дел Чехословакии, предпочел покончить с собой, но не раскрыть местоположение радиопередатчиков. Попытки советской стороны разыскать их окончились провалом. Она создала свою радиостанцию, но не нашла людей, которые хорошо говорили бы по-чешски и по-словацки. Ее люди пытались разбрасывать листовки, но тексты, распространяемые в Чехии, оказались написаны по-словацки.
Прорывавшийся сквозь помехи голос драматурга Вацлава Гавела, выступившего по радио, казался чем-то удивительным. Гавел говорил: «Я надеюсь, что я один из немногих граждан Чехословакии, кто до сих пор пользуется не контролируемым властями радиопередатчиком. Поэтому я от имени чешских и словацких писателей обращаюсь к вам с настоятельной просьбой о поддержке». Он просил западных писателей выступить с осуждением советской интервенции.
Руководители Югославии и Румынии открыто выразили неодобрение ввода войск в Чехословакию. Улицы Белграда и Бухареста заполнили протестующие. Чаушеску назвал вторжение «большой ошибкой». Польский же лидер Гомулка, в свою очередь, объявил Чехословакию контрреволюционным государством, поставившим себя вне рамок Варшавского блока и вынашивавшим губительные планы в отношении Польши. И разумеется, всего через несколько дней Польша и ГДР «открыли», что за «контрреволюционным» заговором в Чехословакии стояли «сионисты».
Итальянские и французские коммунисты осудили советскую акцию – также как и Коммунистическая партия Японии. В Токио, где университет был закрыт уже третий месяц, студенты даже поначалу устраивали демонстрации перед советским посольством. Фидель Кастро одобрил вторжение, сказав, что это дело неприятное, но необходимое. За пределами Восточной Европы только коммунистические партии Кубы, Северного Вьетнама и Северной Кореи одобрили интервенцию. Из восьмидесяти восьми коммунистических партий мира лишь десять поддержали вторжение. Марксистский философ Герберт Маркузе назвал вторжение в Чехословакию «самым трагическим событием послевоенной эпохи».
В ГДР многие молодые люди распространяли листовки с осуждением случившегося. Сотни рабочих в Восточной Германии отказывались подписывать заявления в поддержку интервенции. Многие польские диссиденты из числа остававшихся на свободе составляли письма протеста против ввода войск. Ежи Анджеевский, ведущий польский романист, написал послание Союзу писателей Чехословакии, в котором осуждал участие Польши во вторжении и заявлял, что «польские коллеги с вами, хотя и лишены свободы слова в своей стране». «Я понимаю, – продолжал он, – что мой голос, выражающий протест, не заглушит и не может заглушить то недоверие, которая вызвала Польша у всего прогрессивного человечества». Хуже всего было то, что появились сообщения о перестрелках между советскими и болгарскими, а также советскими и венгерскими союзниками.
Даже в СССР семеро протестующих сели на Красной площади с плакатом «Руки прочь от ЧССР!». В состав группы входили Павел Литвинов, внук покойного министра иностранных дел, жена поэта Юлия Даниэля и широко известная поэтесса Наталия Горбаневская. Они были немедленно арестованы, некоторых из них избили. Горбаневская писала: «Но мои друзья и я были счастливы, что смогли – пусть на короткий миг – остановить поток разнузданной лжи и прервать трусливое молчание и при этом показать, что не все граждане нашей страны согласны с насилием, совершенным от имени советского народа». На следующий день после вторжения поэт Евгений Евтушенко отправил телеграмму Председателю Совета Министров СССР Косыгину и Генеральному секретарю ЦК КПСС Брежневу, которую также распространил в западной печати:
«Я не могу уснуть. Я не знаю, как жить дальше. Я знаю только одно: у меня есть моральная обязанность излить чувства, переполняющие меня.
Я глубоко убежден, что наши действия в Чехословакии являются трагической ошибкой и страшным ударом по советско-чехословацкой дружбе и мировому коммунистическому движению.
Это снижает наш престиж в мире – и в наших собственных глазах.
Это препятствие для всех прогрессивных сил, для мира во всем мире и мечты людей о грядущем братстве.
И также это личная трагедия, поскольку у меня много друзей в Чехословакии и я не знаю, как смогу смотреть им в глаза – если мне будет суждено встретиться с ними вновь.
И мне кажется, что это самый большой подарок для всех реакционных сил мира, и мы не можем предвидеть последствий этой акции.
Я люблю свою страну и свой народ; я скромный наследник традиций русской литературы, таких писателей, как Пушкин, Толстой, Достоевский и Солженицын. Эти традиции научили меня, что иногда молчание позорно.
Пожалуйста, примите к сведению мое мнение об этой акции – мнение честного сына своей страны и поэта, некогда написавшего песню “Хотят ли русские войны?”»
Де Голль и премьер-министр Великобритании Гарольд Вильсон были первыми из многочисленных лидеров стран мира, осудившими вторжение, – один из немногих случаев за долгие годы, когда оба деятеля пришли к полному согласию. Де Голль сравнил советскую интервенцию в Чехословакию с высадкой американского десанта на территорию Доминиканской Республики в апреле 1965 года. Генерал еще раз попытался отстоять свою политику, отличную от политики двух сверхдержав. Эта идея не нашла поддержки, поскольку в результате советского вторжения европейцы почувствовали, что Москва представляет собой куда более реальную угрозу, чем Вашингтон. Но 24 августа уде Голля был хороший день – он объявил, что Франция провела испытание атомной бомбы в Тихом океане. Де Голль объявил это испытание «блистательным научным, техническим и промышленным успехом, достигнутым ради независимости и безопасности Франции лучшими из ее сынов».
Сенаторы Юджин Маккарти и Джордж Макговерн, как и де Голль, чья политическая репутация была подорвана советским вторжением в Чехословакию, также сравнили его с агрессией США против Доминиканской Республики и Вьетнама. Советская интервенция создала трудности и для Ричарда Никсона, который всего за несколько недель до этого, впервые за много лет смягчив свою антикоммунистическую позицию, сказал, что Советы не представляют более угрозы и теперь настало время для переговоров. Проблема для многих западных политиков состояла в том, что вторжение произошло в тот момент, когда они не ожидали от Советского Союза чего-либо подобного.
Странно, но едва ли не в самую мягкую форму был облечен протест, последовавший со стороны Вашингтона. Советский посол в США, А.Ф. Добрынин, встретился с президентом Джонсоном вскоре после начала вторжения. Джонсон созвал внеочередное заседание Национального совета безопасности, за это Юджин Маккарти, пытаясь принизить значение случившегося, подверг его критике. В Чикаго, как кажется, последний маленький шанс на включение в программу партии пункта о проведении мирной политики был погублен вторжением в Чехословакию. «Холодная война» возвращалась. Но Джонсон, очевидно, не хотел принимать каких-либо иных мер, за исключением сурового осуждения интервенции в ООН. Он сказал, что в деле советско-амери-канских переговоров достигнут слишком большой прогресс, чтобы можно было им теперь пренебречь. В тот момент, когда танки пересекали границу, государственный секретарь Дин Раск произносил речь на заседании комитета по выработке платформы демократической партии о прогрессе на переговорах с СССР.
ООН осудила советскую акцию, но СССР воспользовался правом вето, чтобы не допустить соответствующего решения.
Москва сосредоточила особое внимание на президенте Чехословакии, поведение которой совершенно неожиданно доставило ей столько проблем. В случае непризнания Свободой смены руководства, осуществленного советской стороной, оказывалось невозможным объявить о законном характере вторжения. Но Свобода, который всегда демонстрировал полную лояльность по отношению к Советскому Союзу, до сих пор не желал признать свершившееся. Ему угрожали, и он в ответ пригрозил самоубийством, что для Советов означало бы крах. Политика кнута потерпела провал, оставалось прибегнуть к прянику, пообещав оказать Чехословакии беспрецедентную помощь со стороны СССР. Это никак не повлияло на позицию семидесятидвухлетнего Свободы, равно как и обещание предоставить ему самому высокий пост и право назначения на другие крупные должности. Все попытки советской стороны воздействовать на старого генерала оказались неудачными. Единственно приемлемым в этих условиях шагом для Москвы было выпустить из бараков КГБ на Украине Дубчека, Черника, Свободу, Смрковского и других законно назначенных чехословацких руководителей и привезти их в Москву для урегулирования вопроса с помощью переговоров. Когда советская сторона выработает соглашение с этими руководителями, какими бы, по мнению Свободы, ни были его условия, его можно будет рассматривать как легитимное решение проблемы. Свобода считал, что, если удастся начать переговоры, он сможет разрешить проблему. «И когда наконец советские солдаты уйдут отсюда, – сказал он хладнокровно, – вы увидите, что люди будут бросать им цветы, как это было в сорок пятом году».

Чехословацкий студенческий плакат после вторжения, отражающий контраст в восприятии советских войск в 1945 и 1968 гг.
Свобода не был сторонником Пражской весны и на самом деле поддерживал репрессии, которые продолжались несколько лет после вторжения, но в тот критический момент помешал Советам перепахать всю страну танками. Свобода отказался признать ввод войск законным. Но он также был обеспокоен решимостью народа Чехословакии и считал, что эта самоотверженность может принести вред. Неизвестная женщина каким-то образом дозвонилась до него и стала убеждать генерала застрелиться в знак протеста. Он объяснил ей, что это не лучший выход и что на нем лежит ответственность за преодоление кризиса. Женщина настаивала: «Ах, господин президент, как было бы прекрасно, если бы вы застрелились!»
Когда арестованные руководители прибыли в Москву, их вид говорил о тех испытаниях, через которые им пришлось пройти. Они были бледны и выглядели больными. Дубчек казался совершенно измотанным, на лбу его была рана – он говорил, что получил ее, когда заснул в ванне. В течение переговоров в Москве Дубчеку, который стал заикаться, пришлось лечить расшатанные нервы.
В пьесе Вацлава Гавела «Меморандум», написанной более чем за год до вторжения, есть сцена, в которой люди понимают, что план Крауса о введении искусственного языка – полная катастрофа. Они вышвыривают Крауса, затем зовут обратно и впервые называют его Джо, словно старые друзья. Именно это произошло между Брежневым и Дубчеком.
Брежнев стал обращаться к Дубчеку «наш Саша» и фамильярно говорить ему «ты», чем поразил Дубчека, тем более что они никогда не были близко знакомы прежде. Дубчек продолжал обращаться к Брежневу официально, на вы.
В течение четырех дней чехословацкие руководители встречались с советскими – иногда с Брежневым, иногда с некоторыми членами Политбюро, а иногда и со всем его составом. По одну сторону стола сидели чехи и словаки, а по другую – советские лидеры. Это не была дискуссия по всей форме. Ее участники спорили и с теми, кто сидел по другую сторону стола, и друг с другом. Свобода очень хотел прийти к согласию, считая, что чем дольше такового не будет, тем более непоправимым окажется вред, нанесенный отношениям между двумя странами. Он также опасался, что напряжение для советских войск станет слишком сильным и дисциплина может рухнуть. По состоянию на 2 сентября было убито уже семьдесят два гражданина Чехословакии и семьсот ранено. Все чаще и чаще причиной смертей и травм становилось пьянство среди советских военнослужащих, иногда – стрельба для забавы или просто автокатастрофы. Лесорубы боялись выходить на работу из-за шатавшихся по лесам пьяных солдат. В то время как проходила встреча в Москве, на улице Яна Оплетала в Праге, названной так в честь казненного нацистами студента, учащийся Мирослав Баранек был застрелен в упор пьяными советскими солдатами.
Раздраженный Свобода яростно давил на свое правительство, чтобы оно пошло хоть на какое-то соглашение. Свобода обрушивался на Дубчека: «Вы ничего не можете сделать, но болтаете и болтаете все больше. Вам недостаточно того, что вы своей болтовней спровоцировали оккупацию вашей страны? Делайте выводы из уроков прошлого и действуйте, помня о них!»
Но Дубчек, в отличие от Свободы, не спешил. Он казался более неуверенным и осторожным, и, как всегда, трудно было понять его позицию. По словам Млынаржа, большинство чехословацких руководителей, в отличие от Дубчека, чувствовали, что у них уже нет больше времени для проволочек или какой-либо свободы действий, «поскольку советское Политбюро действовало подобно банде гангстеров». Раздраженный Кадар предупреждал Дубчека во время последней встречи: «Разве вы не понимаете, с какими людьми вы имеете дело?»
Даже когда советские представители начинали оказывать давление со своей стороны стола, чехословацкая сторона продолжала демонстрировать широкий спектр мнений, отражавший природу дубчековского режима. Свобода задавал тон, он постоянно добивался принятия решения. Франтишек Кригел, шестидесятилетний доктор, избранный в президиум Центрального Комитета КПЧ как один из либералов в правительстве, чей состав имел компромиссный характер, был более изменчив. Он происходил из еврейской семьи из Галиции, области на юге Польши. Кригел был арестован и попал в заключение вместе с Дубчеком, и когда их привезли в Москву на переговоры, недовольный Брежнев спросил: «Что здесь делает этот еврей из Галиции?» Советские представители выгнали Кригела из-за стола переговоров, и чехословацкие лидеры смогли вернуть его, лишь отказавшись вести переговоры. Кригел всегда был одним из наиболее радикально настроенных деятелей режима и видел в качестве альтернативы отношениям с Советским Союзом диалоге Китаем. Теперь же, во время переговоров, советская сторона пыталась воздействовать на Кригела, страдавшего диабетом, не давая ему инсулин. Кригел обратился к Свободе: «Что они могут сделать со мной? Они или отправят меня в Сибирь, или застрелят». Это был один из тех редких моментов, когда Свободе пришлось замолчать. Кригел оказался единственным членом делегации, который не подписал никаких соглашений, сказав: «Нет! Убейте меня, если хотите».
Советская сторона позволяла себе неоднократные антисемитские выпады не только против Кригела, но и против заместителя премьер-министра Ота Шика и Первого секретаря Пражского горкома партии Богумила Шимона. В действительности Шимон не был евреем, но для славянского уха его фамилия звучала как еврейская.
Когда Брежнев открыл встречу, Дубчек выглядел таким подавленным, с таким трудом сохранял спокойствие, что вместо него от чехословацкой стороны выступил Черник. Он говорил очень прямо и откровенно, не спекулировал стандартными рассуждениями о советско-чехословацкой дружбе, но защищал «Пражскую весну» и действия Коммунистической партии Чехословакии, заявив, что военное вмешательство со стороны СССР не принесет пользы делу социализма. Несколько раз Брежнев прерывал его и возражал. Когда Черник закончил, Дубчек попросил слова. Это противоречило процедурным правилам, но он настаивал – сначала на плохом, а через несколько минут и вполне приличном русском. Млынарж описывал его речь как «трогательную и страстную защиту» реформ в Чехословакии и осуждение интервенции. Его речь представляла собой импровизацию, импровизацией был и ответ Брежнева. Он заявил, что Пражская весна нанесла Москве ущерб, и изложил свою точку зрения на суверенитет и советский блок. Брежнев обратился к Дубчеку: «Вначале я пытался помочь вам в борьбе с Новотным». По-видимому, его глубоко задевало то, что Дубчек никогда не разговаривал с ним доверительно. «Я верил в вас и защищал вас от других, – сказал Брежнев Дубчеку. – Я говорил им, что наш Саша, несмотря ни на что, наш добрый товарищ, а вы подвели нас».
Величайший грех Дубчека, как ясно дал понять ему Брежнев, состоял в том, что он не консультировался с Москвой – отказывался посылать свои речи в Москву на одобрение, не советовался по кадровым вопросам. «Здесь [в Москве] даже я сам даю свои речи всем членам Политбюро, чтобы они мне посоветовали, как их улучшить. Разве я не прав, товарищи?» – обратился Брежнев ко всем членам Политбюро, и они с готовностью закивали. Но у Дубчека были и другие грехи: «Выпячивание антисоциалистических тенденций, разрешение прессе писать все, что ей захочется, постоянное давление со стороны контрреволюционных организаций...» И наконец, как всегда это случалось, когда происходило совещание с советскими чиновниками любого уровня, Брежнев напомнил о понесенных Советским Союзом «жертвах во время Второй мировой войны». Ни одна из сторон не забывала, что при освобождении Чехословакии погибло сто сорок пять тысяч советских людей.
Дубчек не боялся обнаружить свое несогласие с Брежневым. Наконец лицо Брежнева покраснело, и он закричал, что бесполезно вести переговоры с такими людьми. Он медленно расхаживал по комнате, а за ним покорно, медленным церемониальным шагом, следовали все члены Политбюро.
Это была угроза. Дубчеку сказали, что он предстанет перед трибуналом. Пока советское руководство считало, что сможет заменить Дубчека и его коллег правительством из числа чехословацких коллаборационистов, угроза расправы была вполне реальной, но когда Свобода отказался уступить и события стали приобретать все менее благоприятный для советской стороны оборот, с арестованными чехословацкими руководителями начали обращаться учтивее. В соглашении нуждались обе стороны: без него действия СССР не были бы легитимными, но и деятели Пражской весны не смогли бы оказывать влияние на будущее своей страны и их жизни находились бы под угрозой. Взрыв негодования со стороны Брежнева напомнил им о том, какая судьба ожидает их страну в том случае, если не будет достигнуто соглашение.
Наконец стороны составили обоюдоприемлемый документ. В нем почти не была отражена точка зрения Праги. Не признавались законность и ценность всего сделанного правительством Дубчека. Чехословацкие представители и впрямь оказались очень слабы. В действительности советская сторона могла быть достаточно безжалостной для управления без всякой законности, если это требовалось. Когда документ был почти готов для подписания, Дубчек впал в глубокое уныние, его била дрожь, и опасались, что он не сможет принять участие в заключительной церемонии. Ему вновь назначили уколы. Дубчек неожиданно напугал всех участников переговоров отказом от каких-либо уколов, «или, – заявил он, – я ничего не буду подписывать. Они могут делать что хотят. Я не буду подписывать». После продлившихся целую ночь переговоров он наконец согласился на укол.
Наконец Московский протокол, который вынудили признать взятых за горло пленных чехословацких лидеров, в то время как их страну оккупировали танки, был готов для официального подписания. Неожиданно массивные двустворчатые двери открылись, и каждый член Политбюро по очереди поднимался, изображал на лице улыбку, разводил руки и шел через комнату, чтобы обнять измученных и побежденных чехословацких пленников.
Делегация прибыла в аэропорт, чтобы возвратиться в Прагу, и неожиданно обнаружила отсутствие Кригела. Одни считали, что будет лучше, если его не окажется в составе возвращающейся делегации, но другие, в том числе Свобода и Дубчек, настаивали, чтобы советские власти вернули его. После двухчасовых переговоров советские представители привезли его в аэропорт.
Делегация вернулась в Прагу, имея на руках документ, по сути, лишенный конкретного содержания. Советская сторона соглашалась обеспечить КПЧ «понимание и поддержку с целью совершенствования методов общественного руководства». Войска отводились с территории Чехословакии в течение срока, зависевшего от степени «нормализации». Народ Чехословакии постигал двусмысленный советский язык. «Нормализация» была новым словом, но граждане знали, что оно означает – возвращение к прежней диктатуре. Требования советской стороны были вполне определенно изложены в Московском протоколе, а удовлетворение желаний чехословацкой стороны, таких как отвод войск, являлось делом будущего и зависело от капризов Москвы. Но сейчас, неделю спустя после вторжения, полмиллиона иностранных солдат и шесть тысяч танков продолжали оккупировать страну.
27 августа Дубчек (заметно было, что он с трудом держится на ногах) произнес речь перед народом, упрашивая выказать ему свое доверие и уверяя, что имели место только «временные меры». Он мог произносить лишь расплывчатые фразы. Но Дубчек и некоторые другие лидеры считали возможным в будущем проведение реформ. Поначалу правительство во главе с вернувшимся к власти Дубчеком проявляло независимость. Национальное собрание даже приняло резолюцию, объявлявшую советскую оккупацию незаконной и нарушающей Устав Организации Объединенных Наций. Руководители могли увольнять просоветски настроенных чиновников из своих рядов.
В сентябре в стране были приняты усиленные меры для обуздания свободной прессы, хотя по советским стандартам она продолжала вести себя на удивление бунтарски и независимо. Дубчека преследовала навязчивая идея – уступить Советам в настоящий момент, чтобы в будущем настоять на своем. В октябре на встрече руководителей пяти стран, участвовавших в интервенции, Брежнев назвал операцию «Дунай» крупным успехом, но все, что произошло после нее, по его словам, стало провалом. Гомулка высказался еще более резко, заявив, что Чехословакия до сих пор представляет собой очаг угрозы контрреволюции. Считая целесообразным проявлять осторожность по отношению к контрреволюционерам в своей стране, он был мало склонен к терпимости, когда дело касалось Чехословакии, где студенты до сих пор сражались с полицией.







