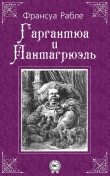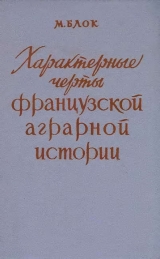
Текст книги "Характерные черты французской аграрной истории"
Автор книги: Марк Блок
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 22 страниц)
IV. Стремление к аграрному индивидуализму: общинные угодья и огораживания
Повсюду в старой Франции ланды, болота и леса были предназначены для коллективного пользования жителей. Даже там, где земледелец был полным хозяином своего поля (в районах огороженных полей), эта свобода пашен была возможна лишь благодаря существованию общинных пустошей. Кроме того, в значительной части королевства сама пахотная земля была строго подчинена сервитутам в пользу общины. Агрономы новой школы начали войну против этой общинной практики. Общинным угодьям, «остаткам нашего древнего варварства»{193}, они ставили в упрек непроизводительное использование многих хороших земель, способных при разумной обработке дать богатые урожаи или, по крайней мере, кормить более многочисленные стада. «Какое упущение, – писал известный специалист граф д'Эссюиль[150]150
Жан-Франсуа де Барандьери, граф д'Эссюиль – автор трудов по юридическим и экономическим вопросам. – Прим. ред.
[Закрыть], – в производстве для общей массы продуктов питания или продуктов торговли!»{194} Иногда они преувеличивали продуктивность этих земель, которые часто оставались необработанными только потому, что не поддавались обработке. Однако они не всегда были неправы. Ибо если уж заботиться о производительности, то как не согласиться с герцогом Роганом, когда он жаловался, что, «потроша» пустоши, чтобы ликвидировать на них кочки, «вплоть до обнажения скал», бретонские крестьяне сделали их «навсегда бесплодными»? {195}Что касается обязательного выпаса, не представлявшего (как говорили не без некоторого основания его враги) реальных выгод для скота, который ценой утомительных блужданий добывал себе лишь жалкую, редкую траву, то он препятствовал уничтожению пара и разведению кормовых культур либо сам по себе, либо из-за дополнительных стеснений, которые он делал необходимыми. Эти теоретические соображения вовсе не были слабыми. Но, конечно, сами по себе они были бы неспособны породить столь сильную ненависть. Более глубокие и полубессознательные чувства руководили реформаторами: это были соображения выгоды. Многие из них были крупными собственниками, и их богатство страдало от этих оков; кроме того, предоставляя мелким земледельцам и батракам возможность скудного существования за счет легких доходов, общинные угодья и пастбищные права способствовали их «бездельничанью», то есть отвлекали их от обслуживания крупных хозяйств; кроме того, склонность к индивидуализму: они утверждали, что эти стеснения «бесчестили» собственность.
Итак, оказалось, что к середине века власти приняли сторону новых идей. Провансальские штаты, как штаты Беарна с 1754 года и штаты Лангедока и Бургундии, с большим упорством начали дело аграрных преобразований. Это были интенданты и их бюро и даже министры и высокопоставленные чиновники. Бертен, генеральный контролер с 1759 по 1763 год, а затем государственный секретарь, которому помогал до января 1769 года его друг и постоянный советник Даниэль Трюдэн, выработал проект умеренных реформ, проникнутых осторожным эмпиризмом. Особенно в Генеральном контроле, практически ведавшем до 1773 года сельским хозяйством, интендант финансов д'Ормессон, прикрываясь именами недолговечных министров, направлял твердой рукой управление по пути, который его суровый и последовательный ум считал истинным прогрессом.
Эти теоретические воззрения вылились в целую серию законодательных мероприятий, осуществленных, как правило, после проведения обследований. Конечно, это происходило постепенно в одной провинции за другой; объединение Франции при старом режиме было довольно несовершенным. С 1769 по 1781 год раздел общинных угодий был разрешен эдиктами в Трех епископствах[151]151
Три епископства – область лотарингских епископских городов: Меца, Туля и Вердена с их округами. – Прим. ред.
[Закрыть], в Лотарингии, Эльзасе, Камбрези, Фландрии, Артуа, Бургундии, в генеральстве Ош (Auch) и По (Pau). В других районах ордонансы и постановления чисто местного значения, исходящие от королевского совета или местных властей, разрешали провести ту же операцию в отдельных деревнях. В Бретани продолжается в широких масштабах сдача ланд в аренду путем простого использования судебной практики в интересах сеньоров. Кроме того, распространявшиеся на расчищенные земли всякого рода льготы, особенно, налоговые, побуждали обрабатывать многие земли, давно превращенные – в силу обычая или попустительства – в общее пастбище, и практически поощряли их захват либо богатыми людьми, либо массой мелких распахивателей целины.
Такой же натиск был направлен против коллективных сервитутов. В 1766 году штаты Лангедока добились от Тулузского парламента постановления, согласно которому в значительной части провинции был запрещен, в принципе, обязательный принудительный выпас, кроме тех случаев, когда общины высказывались против этого. Руанский парламент полностью запретил его на некоторых полях, где росли кормовые культуры, то же сделали Верховный совет Руссильона и Парижский парламент (в некоторых районах, подлежащих его компетенции). В других местах аналогичные решения в пользу искусственных лугов принимали суды бальяжей, интенданты, даже простые общины, обычно по внушению вышестоящих властей. В 1767 году под воздействием д'Ормессона королевское правительство включилось, в эту кампанию. Просто-напросто уничтожить обязательный выпас – этот переворот кажется слишком значительным, способным вызвать народные «волнения», чтобы можно было решиться на него. Но, во всяком случае, считается разумным и уже эффективным бороться против двух старинных обычаев: прежде всего против запрещения огораживаний (отныне собственник свободен огородить свои владения, и если он согласен потратиться на сооружение изгороди или рва, то он действительно будет хозяином своего поля и сможет во всякое время воспрепятствовать доступу на него соседского скота), затем против межобщинного выпаса, который, ставя всякое преобразование в зависимость от согласия многих деревень, сделал практически невозможным для каждой группы в отдельности ограничение на ее собственной территории (если она того хотела) пастбищных прав. С 1767 по 1777 год целая серия эдиктов установила свободу огораживания в Лотарингии, Трех епископствах, Барруа, Эно, Фландрии, Булонэ, Шампани, Бургундии, Франш-Контэ, Руссильоне, Беарне, Бигорре и на Корсике. С 1768 по 1771 год был официально отменен межобщинный выпас в Лотарингии, Трех епископствах, Барруа, Эно, Шампани, Франш-Контэ, Руссильоне, Беарне, Бигорре и на Корсике.
Эта попытка (которая была в какой-то степени подражанием делу, предпринятому по ту сторону Ламанша английским парламентом) была грандиозна. Она прервалась довольно внезапно. Эдикт для Булонэ от 1777 года знаменует собой конец эдиктов об огораживаниях. К тому же этот эдикт был лишь результатом переговоров, начатых восемью годами ранее. Фактически движение прекратилось с 1771 года. После этого эти мероприятия проводятся лишь кое-где и носят чисто местный характер. Кажется, будто дух робости и уныния охватил умы; администраторы, информируемые при случае относительно результатов прежних реформ и о возможности новых, почти всегда советовали на будущее осторожность и воздержание. Дело в том, что эта попытка большой аграрной политики столкнулась с трудностями, о которых ее инициаторы и не подозревали. Сельское общество старого режима в силу самой сложности своей структуры создало многочисленные препятствия для ниспровержения прежних обычаев, которые было тем более трудно предвидеть и преодолеть, что они варьировали от района к району.
* * *
Оставим в стороне, если угодно, некоторые побудительные мотивы оппозиции, хотя они имели подчас большое значение. Некоторые дворяне опасались, что новые изгороди повредят их охоте, составлявшей удовольствие и гордость их класса. Разве не по этой причине егери его величества запрещали огораживания на землях, зависевших от королевских егермейстерств? Многие администраторы и особенно судейские чиновники испытывали уважение к старым правам, к «этому виду собственности, принадлежащему общинам», как говорил об обязательном выпасе генеральный прокурор Парижа. Экономисты, не желавшие видеть в собственности ничего, кроме ее частного характера, были по-своему революционерами. Большое число лиц, часто из тех же самых кругов, боялось всякого потрясения, которое, затрагивая установившийся порядок, могло бы пошатнуть все социальное здание и особенно те сеньориальные привилегии, которые самые смелые из агрономов охотно осуждали наряду с коллективными сервитутами. Наконец, просто-напросто культ самой традиции. Эта власть привычки, которая противодействовала одновременно и техническим новшествам, и реформам земельного права, но была присуща всем слоям населения. Питаемая неудачами некоторых скорее восторженных, чем умелых новаторов, она вызывала отвращение у многих богатых и относительно образованных лиц (таковы сеньоры из парламента Нанси, высмеивающие предвзятые агрономические мнения интенданта Ла Галезьера). Но нигде эта власть привычки не была более распространенной и сильной, чем в крестьянских массах, где она сливалась со смутным сознанием тех опасностей, которыми угрожал мелкому люду агротехнический переворот.
Если даже рассматривать этот процесс несколько упрощенно, что отчасти искажает живую реальность, и подходить к нему с точки зрения элементарных интересов, надо сказать, что преобразования в технике и законах повсюду по-разному затрагивали различные классы, которые прямо или косвенно жили за счет земли. Ярко выраженные местные различия еще более усиливали эти контрасты. Конечно, классы не всегда ясно представляли себе свое экономическое положение; даже их контуры были иногда неопределенными. Но как раз этот переворот и привел к усилению и прояснению у них чувства неизбежного антагонизма и, следовательно, к самоосознанию. Он дал представителям этих классов возможность сговориться о их действиях (сеньорам – на провинциальных штатах или в парламентах, крестьянам всех слоев – в общинных собраниях), пока политическая революция 1789 года не представила им случай выразить в наказах свои пожелания, в которых часто звучат отголоски споров предшествующих лет.
Что касается отмены коллективных сервитутов и, тем более, уничтожения паров, что грозило уменьшением пастбищ, то позиция батраков, к которым нужно присоединить мелких земледельцев, постоянно находившихся под угрозой превращения в пролетариев, не вызывала никаких сомнений. Не имея земли или имея ее незначительное количество, привыкшие обрабатывать изо дня в день свои клочки, слишком мало образованные, чтобы приспособиться к новым методам, и слишком бедные, чтобы пытаться ввести улучшения, неизбежно требовавшие некоторых, хотя бы самых малых капиталовложений, – они совершенно не были заинтересованы в этой невыгодной для них реформе. Больше того, они имели все основания опасаться ее, ибо большинство из них имело несколько голов скота, который они могли пасти только на общинных угодьях и на подчиненных общему выпасу сжатых полях. Разумеется, правила, регламентировавшие выпас, устанавливали обычно долю каждого жителя пропорционально размерам его недвижимости, следовательно, давали преимущества богатым. Но либо сами эти правила, либо простая снисходительность, которую агрономы охотно рассматривали как узурпацию{196}, почти всегда давали возможность бедняку, даже если он не владел и пядью земли, посылать на поля несколько голов рогатого скота. Лишенные этой помощи, эти обездоленные люди были обречены или умереть с голоду, или же попасть в еще более тесную зависимость от зажиточных крестьян или крупных собственников. Могли ли они не понимать этого? Единодушные в своем сопротивлении, они повсюду создавали боевые крестьянские отряды, враждебные как усовершенствованиям, которые пытались провести отдельные собственники, так и самим эдиктам об огораживаниях. Их руку можно узнать во всех разрушениях изгородей, которые были выражением общественного недовольства, вызванного в Оверни и Эльзасе начинаниями отдельных лиц, а в Эно, Лотарингии и Шампани – законодательством.
С гораздо меньшим единодушием относились они к проблеме общинных угодий. Конечно, всякое посягательство на коллективную собственность сильно ущемляло пастбищные права, за которые мелкий люд не без основания так цепко держался. Однако для деревенских пролетариев раздел мог иметь и свои привлекательные стороны. Разве не предоставлял он им возможность реализовать издавна лелеемую ими мечту – стать в свою очередь собственниками? Само собой разумеется, при одном условии: чтобы способ распределения был наиболее благоприятным для самых бедных людей. Вместе с большинством крестьян батраки оказывали энергичное сопротивление коварным или грубым захватам общинных пастбищ, осуществляемым сеньорами или «деревенскими петухами»[152]152
«Деревенские петухи» – самые богатые и самые влиятельные люди в деревне. – Прим. ред.
[Закрыть] без всякой компенсации беднякам, или, например, бретонской «сдаче в аренду». Сопротивлялись они и решениям некоторых общин, которые под давлением крупных собственников делили общинную землю лишь для того, чтобы распределить ее пропорционально величине уже существующих владений. Королевские указы проявляли больше заботы об интересах масс. Они предписывали осуществлять разделы в соответствии с числом хозяйств, что является знаменательным проявлением той традиционной заботы о деревенском населении, которая, однако, у администраторов все более и более уступала место заботе о производстве[153]153
Однако эдикт, относящийся к Эльзасу, предоставляет общине выбор между разделом и сдачей общинных угодий в аренду тому, кто больше даст. Я не знаю причин этой своеобразной системы, гораздо более благоприятной для богатых.
[Закрыть]. Задуманное таким образом мероприятие нравилось батракам, готовым превратиться в распахивателей нови. Исключение составляли горные районы, где, по правде говоря, никто из сельских масс не был заинтересован в уменьшении высокогорных пастбищ. В Лотарингии, например, батраки иногда использовали то подавляющее большинство, которым благодаря своей численности они располагали в приходских собраниях, чтобы навязать упрямым зажиточным земледельцам проведение в жизнь законов о разделе.
На другом конце социальной лестницы находились сеньоры, интересы которых определялись различными соображениями, иногда противоречивыми и очень разнообразными, в зависимости от местности. Они были крупными собственниками и к тому же обычно владели компактными землями, которые представляли благоприятную почву для сельскохозяйственных улучшений и для вполне самостоятельного хозяйства. Кроме того, в очень многих провинциях они пользовались коллективными сервитутами не только на тех же основаниях, что и другие жители, но в гораздо более широком масштабе, чем крестьянские массы. Они могли содержать на общинных угодьях или на паровых полях почти неограниченные стада либо на основании определенных признанных обычаем привилегий, вроде «отдельного стада» в Лотарингии и в части Шампани или беарнской «сухой травы», либо, как во Франш-Контэ, благодаря злоупотреблениям, принявшим полностью или частично силу закона. Эти льготы оказывались тем более доходными, что перемены в экономике обеспечивали скотоводу ценные рынки сбыта и открывали ему в то же время возможности ведения капиталистического хозяйства: взятое на откуп богатыми предпринимателями лотарингское право «отдельного стада» обеспечивало шерсть для многочисленных мануфактур, а для Парижа – мясо. Необыкновенно ясным выражением сознательного классового эгоизма является политика беарнских сеньоров, бывших хозяевами в парламенте и обладавших большинством на штатах: на землях временной запашки, на холмах, где они владели обширными участками земли, они были за свободу огораживания; «а равнинах, где все участки, даже их собственные, были слишком малы и слишком запутанны, чтобы имело смысл их ограждать, они были против огораживаний; но они требовали сохранения, даже при наличии оград, права «сухой травы» или же большой выкуп за него. По второму пункту они вынуждены были уступить; по двум другим, наиболее важным, они одержали верх. Нигде, за исключением беарнских равнин, сеньоры не препятствовали свободе огораживания; они знали, что на своих обширных полях они одни могли извлечь из этого выгоду. Зато уничтожение межобщинного выпаса, которое привело бы к уменьшению пастбищных привилегий, ущемляло их самые насущные интересы; почти везде они противодействовали ему; в Лотарингии и во Франш-Контэ при поддержке парламентов им действительно удалось помешать этому.
На общинные угодья они зарились всегда. В течение всего столетия они не прекращали попыток захватить их. Но даже и раздел по закону был им обычно выгоден; эдикты предусматривали в принципе применение права триажа, но не определяли детально формы раздела; они открывали путь для юридической практики, благосклонно относившейся к любым притязаниям. Соблазнительная перспектива – получить без всяких затрат треть подлежащих разделу земель. В Лотарингии сеньоры объединились с батраками, чтобы оказать давление на общины[154]154
Однако парламент оказал здесь противодействие эдиктам о разделе, быть может потому, что он признавал право триажа лишь за сеньорами, обладавшими правом высшей юстиции, которые были в герцогстве малочисленны; однако здесь что-то неясно.
[Закрыть].
Пахари же (laboureurs) не представляли собой, однако, совершенно однородного класса. Но почти повсюду они были единодушны относительно одного особенно важного пункта. Они единодушно противились разделу общинных угодий, если он должен был происходить по хозяйствам и с изъятием сеньориальной трети. Подобный раздел увеличил бы их земли лишь в ничтожном, по их мнению, размере. Он лишал их пастбищных прав, которыми они тем более дорожили, что общинное стадо состояло главным образом из их скота. Наконец, превращение батраков в мелких собственников привело бы к тому, что они лишились бы рабочей силы, в которой очень нуждались. Ведь роль батрака в деревне, заявляли в 1789 году в своем наказе крупные и средние крестьяне из Френель-ла-Гранда (Frenelle-la-Grande), в том и состоит, «чтобы оказывать помощь земледельцу»{197}. Характерно, что штаты Лангедока, фактически решавшие вопросы аграрной политики, отдали предпочтение не разделу, а отдаче в аренду; этим они одновременно удовлетворяли как сеньоров, за которыми они позаботились сохранить право требовать при случае раздела общинных угодий, так и зажиточных крестьян, которые одни только могли выступить в качестве арендаторов{198}. Это означало искусную организацию союза собственников. В Лотарингии, где объединение сил пошло по иному пути, битва из-за общинных угодий (пахари против союза батраков и сеньоров) приняла характер настоящей борьбы классов. В остальном интересы пахарей были очень различны. Наиболее богатые, чаще арендаторы, чем собственники, имели почти те же интересы, что и земельная буржуазия. Они стремились в одиночку присвоить себе часть общинных земель. Иногда они содействовали разделу – когда можно было добиться от общин, чтобы раздел осуществлялся пропорционально земельной собственности или сумме уплачиваемых налогов. Будучи собственниками или арендаторами довольно обширных полей, созданных в результате собирания парцелл, они, естественно, стали сторонниками непрерывной обработки и кормовых культур. Они стремились огородить свои владения, тем более что в результате странного правонарушения эдикты (за одним-единственным исключением – Фландрия и Эно) разрешали огораживателям без какого бы то ни было ограничения участвовать в обязательном выпасе на оставшейся открытой части территории. Сплошной выигрыш и никакого убытка!
Наоборот, масса крестьян, в том числе и собственники, была гораздо более привержена к старым обычаям. Косность? Несомненно. Но в то же время это был очень верный инстинкт, предупреждавший о грозившей опасности. Приспособление к новому экономическому строю было бы, во всяком случае, весьма затруднительно для этих людей скромного достатка, чьи владения были подчинены еще старому расположению земель. Реформы, которые служили совершенно другим интересам, добавляли к этим тревожным соображениям еще и новые угрозы.
Обычно лугами владели богачи, причем луга давали им необходимые ресурсы, возмещавшие им коллективные пастбища; свобода огораживания давала им возможность полностью присваивать эту драгоценную траву. Средние крестьяне чаще всего не имели лугов или же имели их очень мало; чтобы прокормить свой скот, они нуждались в общинных пастбищах, в коллективных сервитутах на чужих пашнях и лугах. По правде говоря, кормовые травы могли расти и на их «полях. Но это земледельческое нововведение таило в себе много трудностей, особенно в районах длинных полей. Севооборот мог быть там изменен лишь в пределах целых картье. Нужно было договориться друг с другом. В сущности, соглашение вовсе «е было невозможным. Во многих лотарингских общинах в конце XVIII века удалось выделить, обычно по краям земель, пространства, регулярно используемые под искусственные луга. Но как защитить в течение года, посвященного пару (и, следовательно, обязательному выпасу), эти особые клинья против посягательств всех тех, кто был заинтересован в сохранении прежних пастбищ: не только против батраков, но и против имевших отдельное стадо сеньоров, против крупных собственников, которые, огородив свои собственные владения, не желали отказываться от пастбищных прав во владениях своих соседей? Изъять в принципе все кормовые культуры из-под действия коллективных прав? Как было сказано, в некоторых провинциях ордонансы или указы решили дело именно в таком духе, в других местах это сделали аналогичные постановления общин. В Камбрези и в Суассонэ эти последние, по-видимому, как правило, соблюдались. Но в других районах их часто оспаривали в судах и кассировали, особенно в областях, на которые распространялись эдикты об огораживаниях[155]155
В Эльзасе эдикт об общинных угодьях от 15 апреля 1774 года разрешал изымать из обязательного выпаса по одному арпану искусственных лугов на каждую голову тяглового скота. Это единственная мера в этом отношении, которую предприняла при старом режиме центральная власть.
[Закрыть]. Так как эти эдикты были категорическими, то, чтобы избежать обязательного выпаса, нужно было огораживать поля. Но для крестьян среднего достатка именно это было очень трудным. Изгородь всегда стоила дорого, особенно в те времена, когда дороговизна леса вызывала бесчисленные жалобы. Более того, по правде говоря, это становилось поистине неосуществимым, когда речь шла о том, чтобы огородить узкие и очень вытянутые участки, границы которых по сравнению с их площадью были чрезмерно длинны. Огораживание, осуществлявшееся свободно, но бывшее необходимым для защиты полей, фактически превратилось в своего рода монополию богачей. Оно преграждало другим земледельцам доступ к техническим усовершенствованиям, к которым стремились наиболее опытные из них. Можно ли удивляться тому, что в целом крестьяне, конечно вполне способные постепенно расстаться со старыми обычаями, но при условии облегчения этой эволюции, оказались почти везде в одних рядах с батраками, требовавшими просто-напросто сохранения традиционного порядка вещей, и вместе с ними протестовали против аграрной политики монархии?
В основе попыток реформаторов лежало, по определению парламента Нанси, полное изменение старой «экономики полей» и даже больше – социального порядка. Не следует, однако, думать, что они совершенно закрывали глаза на серьезность такого потрясения. Конечно, они не оценили должным образом сопротивления большинства крестьян. Но они хорошо понимали, что мелкий люд, особенно батраки, мог быть раздавленным. Разве архиепископ Тулузский, хотя он и был сторонником новой агрономии, не признавал в 1766 году на заседании штатов Лангедока, что обязательный выпас может «рассматриваться как следствие товарищества, необходимого между жителями одной и той же общины и осуществляющего всегда справедливое равенство»? Агрономы не относились легко к опасным последствиям агротехнического переворота. Эти последствия заставляли колебаться министра Бертена и его помощника Трюдэна. Умному наблюдателю, президенту Мецского парламента Мюзаку, они внушали опасения массовой эмиграции из деревни, которая приведет к обезлюдению сельских местностей и лишит крупных собственников как рабочей силы, так и потребителей их продуктов[156]156
Впрочем, это массовое бегство стало, кажется, ощущаться уже в XVIII веке; см. докладную записку (несомненно, д'Эссюиля) относительно раздела общинных угодий, «Arch. Nat.», H 1495, No 161 (необходимость приостановить эмиграцию в города и бродяжничество «бедных подданных» выдвигалась как один из мотивов, требующих раздела, и притом раздела по хозяйствам); для Эно см. «Annales d'histoire économique», 1930, p. 531.
[Закрыть]. Самые смелые люди, Однако, не отступали перед этой вечной трагедией, связанной с прогрессом человеческого общества. Они жаждали прогресса и считали, что жертвы должны быть принесены. Они нисколько не испытывали отвращения к экономической организации, которая поставила бы пролетариат в более тесную, чем прежде, зависимость от крупных производителей. Зачастую предложения реформаторов не лишены были жестокости. Орлеанское сельскохозяйственное общество, сильно озабоченное нехваткой и высокой ценой рабочей силы, отвергло, правда, в 1784 году, мысль о том, чтобы заставить ремесленников наниматься на период жатвы, ибо «в большинстве своем они совсем не приучены к тяжелой работе». Но оно предложило запретить деревенским женщинам и девушкам собирать колосья после жатвы: вынужденные искать других источников существования, они стали бы хорошими жницами. Действительно, разве не привыкли они «склоняться к земле»? Администраторы охотно рассматривали нищету только как результат преступного «бездельничанья»{199}.[157]157
В 1765 году интендант Бордо писал по поводу неурожая хлебов: «Эта дороговизна, которая неизбежно ведет к обогащению вследствие стремления к наживе, легко может вызвать жалобы кое-кого из черни, которая вынуждена влачить нищенское существование, ибо она ленива; но жалобы этого рода заслуживают только презрения» (см. «Arch, de la Gironde», С 428). Собрать подобные тексты, касающиеся общинных угодий или законодательства об огораживаниях, не составляет труда, и я попытался это сделать в другом месте.
[Закрыть]
По правде говоря, столь жестокая бесчеловечность способна была возмутить чувствительные души. Но они находили утешение в, удивительном оптимизме, светоч которого господствующая экономическая наука, кузина доктора Панглосса[158]158
Доктор Панглосс – персонаж романа Вольтера «Кандид». – Прим. ред.
[Закрыть], должна была передать «классической» школе следующего столетия. Разве не было признано, как писал об этом в 1766 году субделегат в Монтьеан-Дер (Montier-en-Der), что «все, что выгодно народу, обязательно становится выгодным и для бедняка». Другими словами, благополучие бедняка, все чаяния которого должны состоять в том, чтобы легко находить работу и не знать голода, зависит в конечном счете от процветания богача. «Вообще, – говорил Кдлонн, в то время молодой интендант в Меце, – поскольку батраки и поденщики являются по отношению к сельским хозяевам не чем иным, как дополнением к главному, не нужно беспокоиться об их участи, если улучшается участь сельских хозяев. Постоянно действующий принцип состоит в том, что увеличение продукции и средств существования в каком-либо округе вызывает улучшение благосостояния всех тех, кто в нем проживает, независимо от их положения и состояния: перемена совершается сама собой, и сомневаться в этом хоть сколько-нибудь – значит не понимать естественного хода вещей». Во Франции, как и в Англии, агротехнические проблемы раньше, чем проблемы промышленные, впервые предоставили капиталистической доктрине (назовем ее так, за неимением лучшего слова) возможность выразить с наивностью молодости и простосердечные иллюзии, и жестокость ее чудесного плодотворного творческого задора.
* * *
Однако ни юридическим реформам последней трети столетия, ни тем более движению за технические усовершенствования не удалось изменить заметным образом аграрное лицо страны. Единственными районами, претерпевшими настоящую метаморфозу во всем, вплоть до пейзажа, были те, которых агротехнический переворот коснулся уже тогда, когда они переставали быть пашнями и почти полностью превратились в пастбища, – это восточная окраина Эно, Булонэ. В течение XVIII века успехи транспорта и экономического обмена, близость больших хлебных равнин, способных прокормить скотоводов, и городов, готовых поглощать мясо, позволили в этик районах отказаться наконец от прежнего господства хлеба и использовать особо благоприятные условия, которые почва и климат создали здесь для скотоводства и кормовых культур. Этими преобразованиями руководили крупные собственники, которые одни только и способны были извлечь выгоду из новой экономики. Свободу огораживания, которой они добились, они использовали для насаждения вокруг своих старых или новых лугов многочисленных живых изгородей, защищавших их от коллективных прав, осуществление которых грозило расхищением сена. Вместо пустынных пашен повсюду появились зеленеющие огороженные участки. В других провинциях тоже кое-где появились ограды, обычно на сеньориальных или буржуазных землях. И там также по большей части вокруг лугов. Особую заботу проявляли именно о защите травы. О защите полей заботились гораздо реже. Та же нерешительность наблюдалась и в собственно агрономическом прогрессе. За исключением нескольких особенно развитых провинций, вроде Нормандии, на огромном большинстве крестьянских участков и даже во многих более крупных владениях к концу века продолжали широко практиковать пар. Нет сомнения, что улучшения вводились, но медленно. Это объясняется тем, что в значительной части королевства, особенно в районах длинных полей, для торжества новой агрономии необходимо было еще более глубокое потрясение, чем то, которое проектировали аграрные реформаторы, а именно – полная перестройка землевладений, как это было в Англии и во многих районах Германии.
Прежде всего существовало одно препятствие, которое мешало земледельцу возвести изгородь или, вообще говоря, освободить свою землю от всяких сервитутов и сковывало попытки даже самых богатых собственников. Этим препятствием была раздробленность – закон мелких хозяйств. Избежать его целиком не удавалось даже крупным хозяйствам, несмотря на объединение земель. Сгруппировать эти разбросанные поля незначительной протяженности и неудобной формы в несколько обширных цельных кусков, из которых каждый имел бы доступ к дороге и, следовательно, был бы независим от других, на бумаге было совсем просто. В Англии это осуществлялось на деле. Всякий или почти всякий акт об огораживании предписывал здесь одновременно и перераспределение имуществ. Земледельцам оставалось только подчиниться этому приказу; Но подобное принуждение, естественное в стране, где большинство держаний так и не стало наследственным, – было ли оно мыслимо во Франции? Экономисты и администраторы не могли даже представить себе такой возможности. Они ограничивались тем, что требовали всячески способствовать обмену земель. Это означало положиться на силу убеждения. Но, связанные старыми привычками, зная свою землю, питая недоверие к земле соседа, желая уменьшить, согласно старому правилу, риск сельскохозяйственных случайностей (orvales, как говорили во Франш-Контэ) путем распределения своих участков по всей округе и, наконец, будучи склонными (и не без оснований) опасаться мероприятий, которые неизбежно были бы проведены сеньорами и богачами, крестьяне даже в таких провинциях, как Бургундия, где закон посредством налоговых льгот старался способствовать обмену, лишь в виде исключения соглашались на это, а еще реже на всеобщие переделы, которые пытались провести в жизнь некоторые дворяне-агрономы. Прочность крестьянской собственности, рожденная обычаем в то время, когда земли было больше, чем людей, и укрепленная затем королевской юрисдикцией, не только уменьшала завоевания сельского капитализма, но и задерживала агротехнический переворот, замедляя его и не давая ему возможности слишком жестоко задеть сельские массы. Батраки, которые так и не добились собственной земли или потеряли ее, оказались неизбежными козлами отпущения этих технических и экономических преобразований. Зато пахари сохранили надежду постепенно приспособиться к ним и извлечь из них выгоду.