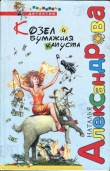Текст книги "Маска времени"
Автор книги: Мариус Габриэль
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Мариус Габриэль
Маска времени
Посвящается Линде и Теодору
ПРОЛОГ
РОЖДЕНИЯ, СМЕРТИ, БРАКИ
1945
ИТАЛИЯ
Роды начались ночью. К концу следующего дня роженица совсем обессилела. Эту красивую, с блестящими карими глазами и черными как смоль волосами девушку нельзя было узнать. От былого очарования не осталось и следа: волосы облепили изможденное лицо, глаза впали, губы потрескались. Когда тело при каждой новой схватке выгибалось огромным животом, то из груди вырывался только слабый хрип: у роженицы не было сил выразить боль в крике.
Повитуха провела губкой по лицу:
– Отдохни. Отдохни пока, Кандида.
Кандида посмотрела на женщину затуманенным взором и прошептала:
– Не хочет… Не лезет он.
– Что ты, он просто обязан. Не волнуйся, и отдохни, пока не началось снова.
– На, выпей, дорогая, – мать подошла с другой стороны и поднесла чашку к самым губам. Кандида попыталась отпить немного, но сил хватило только на то, чтобы смочить губы. Она закрыла глаза, и голова ее упала на подушку.
Для роженицы застелили кровать в лучшей комнате нелепого старого деревенского дома. Ее обычно использовали в особых случаях – когда кто-нибудь появлялся на свет Божий, умирал или становился чьим-то супругом. Но эти роды не были большим событием для семьи, и все вокруг, казалось, подчеркивало это чувство небрежения. Только две женщины дежурили у постели будущей матери, да в дальней комнате, съежившись у самого огня и вздрагивая при каждом крике, сидел Тео, брат роженицы. Больше никого в доме не было.
Повитуха взглянула на мать Кандиды и кивнула в сторону двери. Они вышли и начали шептаться.
– У Кандиды очень узкие бедра.
– Где этот чертов доктор?
– Он в пути, Роза, скоро будет здесь. – Повитуха положила руку на ладонь матери Кандиды. – Но я боюсь, ребенок мертв – я не слышу, как бьется его сердце.
– Для нас это было бы милостью Божьей. – Неожиданный гнев исказил выразительные черты лица Розы Киприани. Мать произнесла с горечью:
– Господь проклял это дитя.
– Не говори так, – шикнула на нее повитуха.
– Господь проклял нас всех. А кое-кого уже успел послать в ад, – сквозь зубы прошептала мать.
Новый стон заставил женщин вернуться в комнату. Кандида приподнялась на локтях. Схватки возобновились. Голова девушки откинулась назад, вены вздулись на шее.
– О Господи! – кричала Кандида. – Помоги! Помоги мне!
Наконец появился доктор. Маленький, лысый, он вошел с заднего входа, стряхнул с раздражением грязь с сапог и прошел в дальнюю комнату. Тео поднял голову и встретился с ним взглядом.
– Надеюсь, этот выродок наконец-то появится на свет, – мрачно заметил доктор. Врача вызывали уже третий раз, и он возненавидел долгий подъем к дому – по грязной дороге на вершину холма. Доктор вошел в комнату, где была Кандида, и с силой захлопнул дверь.
Тео поднял глаза и посмотрел на распятие, висящее над очагом. Конец света настал. Война закончилась, но в последние месяцы она успела смести с лица земли большие города, затопить в крови страны, громоздя ужас на ужасе. И среди всеобщего опустошения и смерти появление новой ничтожной жизни, еще одного воробушка, казалось бессмысленным. Эта мысль ошеломила Тео.
– Что? Доволен? – прошептал он, обращаясь к распятию. – Хочешь забрать и эту жизнь?
Из соседней комнаты вновь донеслись крики роженицы. Эти ужасные вопли рвали душу Тео на части, обессиливая и выматывая.
Дверь распахнулась, и повитуха пронеслась мимо. Лицо ее было напряжено. Она схватила тряпку и взялась за чан с кипящей водой. Пар поднимался над посудиной.
– Началось? – нетерпеливо спросил Тео. Ничего не ответив, она понесла кипяток в комнату, и дверь с грохотом закрылась за ней.
Безмолвие воцарилось в ночи.
Кандида уже не кричала. Долго, слишком долго она не издавала ни звука. Кажется, все должно было кончиться. Но ребенок тоже молчал. Тео сжал кулаки, чтобы заставить себя не думать о том, что сделал коротышка-доктор там с Кандидой. Ее надо было отправить в больницу для нормальных родов, а не прятать здесь, в горах, с ее позором и горем.
Тео ждал, и страх прижимал его к полу.
Наконец дверь открылась, и на пороге появился доктор с черным саквояжем в руке. Изможденное лицо пьяницы, а глаза почти закрыты. Роза Киприани шла следом – казалось, у нее нет лица, только маска, высеченная из камня. Тео почувствовал, как острая боль пронзила сердце.
Доктор достал два листа бумаги, сел за стол и начал писать. Заполнив оба листа, он придвинул их к Розе, но та даже не взглянула.
– Пусть повитуха приберет там все, – приказал доктор. – Надеюсь, она знает, что делать.
Он навинтил колпачок на ручку и посмотрел на Розу:
– Все понятно?
Роза слегка кивнула в ответ.
– Зовите священника.
И с этими словами доктор защелкнул саквояж и ушел.
Роза Киприани продолжала стоять на том же месте. Тео хотел что-то сказать матери, но не нашел в себе сил. Мать сняла с крючка у самой двери шаль и как слепая вышла в ночь.
Тео понадобилось немало времени, чтобы встать со стула. Еще в 1941 году в Греции пуля повредила ему левое бедро, и врачи решили, что у него туберкулез кости. Очень скоро он уже не сможет передвигаться, разве что в инвалидной коляске. С трудом опершись о стол, Тео стал вглядываться в то, что написал доктор. Это были два свидетельства о смерти. Первое – для Кандиды Киприани, а второе для ее дочери, все-таки появившейся на свет, – Катарины Элеоноры.
ЛАТВИЯ
– Я американец!
Он повторял эти слова уже столько раз, что они начали терять всякий смысл даже для него самого. Он выкрикивал, шептал, говорил их размеренно и спокойно или выл как дикий зверь. Он кричал на всех известных и даже неизвестных ему языках: английском, итальянском, немецком, французском, русском, литовском, еврейском, польском. Но его не слышали, потому что его вопль, его слова тонули в общем потоке других слов, в этом разноязыком, разъяренном море. И хотя охранники носили форму русской армии, лица их больше напоминали монголов, и только Господь ведал, какой язык понятен им.
Он продирался сквозь тела, преграждавшие ему путь, расталкивая их и отбрыкиваясь.
– Я американец! Я американец!
Но ветер бесследно уносил его слова.
В этом мире они ничего не значили, потому что он, американец, был всего лишь одним из многих заключенных, ничем не отличающихся друг от друга. Они находились теперь в лагере, а значит, в полной власти у Красной Армии. Этот хаос грязных изможденных тел в серых лохмотьях был окружен кольцом колючей проволоки. А за оградой простирались зловещие поля, опустошенные отступающими нацистами.
Мир изгоев казался пропастью, гиблым местом, где обитали сирые, беглые, несчастные. Миллионы жизней, перемолотых жерновами войны и разбросанных по всей Европе за эти шесть бесконечных лет. Это был мир нравственного падения и голода, где полное безразличие давно уже вытеснило всякое сострадание и нормой считалась жестокость.
Но даже здесь был особый страх, перед которым все остальное меркло и казалось ничтожным. Это был страх эвакуации в Литву, Латвию, Эстонию, Польшу, Чехословакию, Венгрию, Югославию или Румынию. Страх быть отправленным назад, в сталинские владения, недавно отвоеванные у Гитлера, страх оказаться за «железным занавесом», который уже успел опуститься над половиной Европы. Такая участь казалась пострашнее судьбы обычного заключенного в лагере беженцев, ибо означала полное, абсолютное уничтожение.
Он знал, что, если сейчас упустит свой последний шанс, судьба раздавит его. Впрочем, это знал не только он, об этом догадывался здесь каждый.
– Я американец! – не переставая кричал он, продираясь сквозь тела. Чей-то локоть ударил по ребрам, пальцы пытались выцарапать глаза, но он упрямо стремился к грузовику. Удар кулака разорвал ему губу. Не тратя понапрасну времени на защиту плоти, он даже не остановился, чтобы вытереть кровь. Его взор впивался только в этого чиновника из Москвы, который стоял на подножке грузовика, брезгливо отгораживаясь дверью и защищая свою новенькую форму от стаи полулюдей, полуволков, что копошились вокруг.
– Я американец! – кричал он, карабкаясь по спинам престарелой пары, которую подмяла толпа. – Американец! Американец! – кричал заключенный, чувствуя, как под подошвой его ботинка спина одного из стариков согнулась еще ниже. Вытянув вперед руки, ни на что не обращая внимания, он рвался к человеку, стоящему на подножке грузовика.
Ведь у него помимо слов было что-то более существенное.
У него были бумаги.
Бумаги, которые удостоверяли, что его действительно зовут Джозеф, он американец и не имеет ничего общего с этим адом.
Сейчас Джозеф был у самой кабины, глаза блестели, каждый мускул изможденного тела вибрировал от напряжения и нечеловеческих усилий. Одной рукой он схватился за ручку дверцы, подтянулся и сделался чуть выше всех этих тел, и голос его уже не могли заглушить другие голоса.
Чиновника это явно испугало. У человека на подножке был ухоженный вид, нафабренные усики, нос «картошкой» и пухлые губы, – словом, само воплощение порядка. Вот оно – Спасение. Все эти полки вокруг только портили дело. Взгляд Джозефа и взгляд чиновника встретились на мгновение. «Я американец!» – закричал Джозеф прямо в лицо офицеру.
Чиновник отвел взгляд. Его круглое лицо выражало одновременно замешательство и беспокойство. Он протиснулся в машину и попытался закрыть дверь.
Но Джозеф так вцепился в ручку, будто от этого зависела вся его жизнь. Толпа смяла престарелую пару, и Джозеф повис теперь в воздухе, как полураспятый Христос, но руку с бумагами он успел поднять вверх.
Мотор кашлянул и завелся, выбросив в воздух выхлоп. Паника усилилась. Все набросились на Джозефа, пытаясь отодрать его руку от дверцы. Он отбивался как мог, размахивая бумагами.
Кто-то со знанием дела нанес ему удар палкой по почкам – это подоспела охрана. Только она могла так действовать. Ужасная боль парализовала Джозефа, у него перехватило дыхание, в глазах потемнело, кричать не было сил, но Джозеф, не выпуская ручку дверцы, в последний миг сумел забросить в кабину свои бумаги.
Он бросил их, прекрасно сознавая, что тем самым он выбросил, может быть, большую часть своей жизни, единственную вещь, которая хоть как-то могла подтвердить существование его призрачной личности. Может быть, он швырнул с бумагами свою последнюю надежду на избавление от этого ада. Он бросил бумаги как последний шанс в его жизни.
На этот раз удар палкой пришелся по шее. Было ясно, что это конец. Джозеф упал на землю и пополз по грязи, прекрасно сознавая, что если он не будет шевелиться, то сапоги русских просто сломают ему ребра и останется только умереть.
Он поставил на смерть. Поставил и проиграл. У него уже не осталось чувств. Он израсходовал все.
– Подождите.
Голос прямо над Джозефом произнес по-русски:
– Вот этот. Притащите его сюда.
Джозефа схватили и поволокли. Он попытался поднять голову, его глаза остекленели.
– Это твои документы?
Чиновник из Москвы открыл дверцу кабины и стоял сейчас на подножке, держа в руке бумаги. Потом он спрыгнул вниз и очутился рядом с Джозефом. Охранники уже гнали серую массу обездоленных назад в ворота, за колючую проволоку.
– Это твои документы? – вновь спросил чиновник. Джозеф кивнул в ответ, он по-прежнему не мог говорить.
– Так ты американский солдат? Джозеф кивнул еще раз, и на его изможденном лице выразились одновременно боль и радость. Чиновник все понял. Он понял!
– Джозеф Красновский?
– Да, – выдавил Джозеф.
Чиновник придвинул круглое лицо вплотную к Джозефу, и в глазах его мелькнуло сомнение.
– Тогда скажи что-нибудь по-английски, – скомандовал он.
– Я американец. Вы можете сами убедиться даже при этом свете, – закашлявшись, он не смог дальше говорить и согнулся почти вдвое. Солдаты заставили Джозефа выпрямиться. Приступ кашля был настолько сильным, что на лбу и на шее у него выступили вены. Болезнь сидела в нем уже давно, и он знал, что это – пневмония. Чиновник откинулся назад, с отвращением вытирая слюну со своей новенькой шинели. В нерешительности он смотрел то на пачку грязных бумаг, то на этого человека дикого вида, стоящего перед ним, и явно не знал, что же делать.
Из-за кашля Джозеф так и не смог произнести ни слова, а сказать ему хотелось многое – ведь вся его жизнь висела сейчас на волоске.
Но чиновник принял наконец решение и сунул бумаги Джозефу.
– Хорошо, – обратился чиновник к солдатам, – запихните его в фургон вместе с остальными.
А сам залез в кабину с неловкостью штатского, не привыкшего к военной форме и военной жизни. Какой-то невероятный ангел-хранитель.
Солдаты подтащили Джозефа к фургону и нетерпеливо забарабанили в дверь.
– Еще один.
Дверь открылась, и чьи-то руки крепко схватили человека по имени Джозеф Красновский. Он не выдержал и заплакал, но не тихо, с облегчением, а навзрыд, плачем страдания и освобождения от мук. И пока его затаскивали в фургон, он продолжал сжимать бумаги обеими руками.
Перед тем как дверь закрылась, Джозеф еще раз взглянул на то, что оставлял навсегда: грязь, лагерные бараки, серые фигуры, облепившие колючую проволоку… Последний взгляд на весь этот ужас и ад.
Наконец дверь захлопнулась, и грузовик с рычанием тронулся с места.
НОРТАМБЕРЛЕНД, АНГЛИЯ
Ее представили ему раньше, но он не придал этому особого значения, решив, что пока не время. Вежливо и легко оставив ее, он направился к другим гостям, прекрасно зная, что делает.
Об Эвелин Сандз он знал все. Ему пришлось приложить немало усилий, чтобы сегодня она все-таки оказалась в его доме. Эвелин шел двадцать второй год, и она была дальней родственницей семьи Черчилль. В конце восемнадцатого месяца войны девушка стала сотрудником личного аппарата премьер-министра, а совсем недавно ей пришлось оставить это место. После смерти отца, Роберта Сандза, она должна была получить в наследство около семи миллионов фунтов стерлингов.
Сейчас она стояла в дальнем конце комнаты и без всякого оживления разговаривала с молодым офицером артиллерии по имени Фредди, вертлявым типом, которого Дэвид знал как зануду. Не подавая виду, Дэвид продолжал болтать с двумя молодыми леди, расспрашивающими его о войне. Однако все его внимание было направлено на Сандз.
Она не была лишена приятности. Высокая и стройная, Сандз одевалась в определенном стиле, что выделяло ее среди других собравшихся здесь женщин. Ни одна из них не могла носить скучные платья военного времени с таким щегольством. Черты се худощавого лица, с тонкими губами и прекрасными серыми глазами, свидетельствовали об аристократическом происхождении. При разговоре ее брови почти всегда были вопросительно, даже иронично приподняты. И хотя Дэвиду Годболду не очень нравилась в женщинах ирония, но ее прекрасные каштановые с отливом волосы, се гибкое тело были так хороши, что Дэвид инстинктивно почувствовал: она должна быть хороша и в постели, и если не сладострастна, то любопытна, во всяком случае. Порода в ней чувствовалась во всем. Нет, положительно, она не была лишена приятности.
Однако она была ужасно скованна. С неловкими манерами, скрывающими глубокую застенчивость, она не чувствовала себя свободно в компании. У нее не было дара, как бы порхая, легко и свободно болтать о пустяках, что просто необходимо в обществе.
Она девственница – не совсем обычно для девушки се круга и происхождения, но Дэвид был полностью в этом уверен. Застенчивая, скованная, несметно богатая девственница.
Стало быть – само совершенство.
Естественно, он решил вступить в игру и играть долго, сколько потребуется, – два, три года. Смутно сознавая, что банк в этой партии уже удалось сорвать, он инстинктивно почувствовал: вступать в игру надо сейчас же, не медля, пока кто-то другой не опередил его.
Легкое подрагивание век и плотно сжатые губы явно сулили ему успех в этом флирте. В лагере для военнопленных он здорово похудел. И его вид способен был вызвать жалость и сострадание. В таком деле это могло быть только на руку.
В очередной раз взглянув в другой конец комнаты, он чуть не улыбнулся. Оставив Сандз одну, Фредди двигался сейчас по направлению к другой группе гостей. Дэвид увидел, как щеки девушки слегка покраснели, и она взглянула на свой бокал.
Бедный Фредди! Даже светские приличия не удержали такого зануду возле девушки. Семь миллионов фунтов стерлингов словно висели в воздухе, позвякивая и раскачивая над головой Сандз. Она стояла в углу – стройная, застенчивая, одинокая, глядя в свой бокал, словно желая найти в нем ответ на какой-то вопрос.
Дэвид подождал немного, желая узнать, кто же еще подойдет к Сандз. Никого. Он почувствовал, что сердце его возбужденно забилось. Вот он, его час. Неужели так добываются состояния? Тот, другой, проморгал сейчас удобный случай, и фортуна сама указывает путь.
Дэвид улыбнулся своим собеседницам, блеснув красивыми зубами.
– Извините меня, старушки, – сказал он с легким вздохом, – но я немного устал и оставлю вас на минуту.
Женщины проводили Дэвида томными взглядами. Он удалялся от них, пробираясь между гостями и желая скорей оказаться там, где стояла Сандз, все также разглядывая свой бокал.
– Ну, не надо так грустить. Уверен, что предмет ваших мыслей не стоит этого, – мягко произнес Дэвид в качестве приветствия.
Она взглянула на него с некоторым испугом в широко раскрытых глазах. Дневной свет слегка позолотил пушок ее щек, придал блеск ее каштановым волосам.
Мгновение она была сама застенчивость, сама нерешительность. Затем брови с вызовом приподнялись.
– Вы не правы, капитан Годболд. Мои мысли стоят многого.
– Зовите меня просто Дэвид.
– Хорошо.
И она вновь покраснела, но уже не как школьница, опустив голову, а глядя ему прямо в глаза; впрочем, краска довольно скоро сошла с ее щек:
– Вы пришли сюда, чтобы спасти меня от одиночества?
– Скорее, чтобы выразить сочувствие.
– О! – При этом она как-то выпрямилась, а взгляд стал холодным. – По какому поводу?
– По поводу того, что случилось с премьер-министром.
– Что же с ним случилось?
– Он проиграл на выборах, – пояснил Дэвид. – Еще не смолкли пушки и – на тебе. И это после всего того, что Уинстон сделал для страны, причем я имею в виду не только войну. Не могу поверить в то, что британцы оказались настолько неблагодарными, что просто выпихнули своего спасителя. Это ужасно, это национальный позор. Я готов лично выпороть каждого, кто голосовал против. Неблагодарные свиньи.
– Боюсь, это непосильный труд, – заметила Эвелин Сандз. – У лейбористов подавляющее число мест в парламенте, но ведь они получили на выборах вдвое больше голосов, чем консерваторы.
– Вот этого-то я и не могу понять.
– Демократия, – произнесла она спокойно, – за которую мы и боролись эти шесть лет.
Он быстро взглянул на нее, слегка отступив назад. Дэвиду показалось, что над ним подсмеиваются. Но ее худощавое лицо и губы сохраняли спокойствие.
– Вы не теряете присутствия духа.
– У меня просто нет выбора. – С этими словами она пригубила вино из бокала, продолжая смотреть ему прямо в глаза: – А почему именно мне вы решили посочувствовать?
– Потому, – произнес Дэвид с некоторой нерешительностью, – что мне известно, как близки вы были к Уинстону. Я подумал, что для вас это тоже могло оказаться немалым потрясением. Так или иначе, но работу вы потеряли.
В ответ она только кивнула:
– Правда. Но я не рассматривала себя работающей только на Уинстона. Скорее на правительство. На всю страну. От моих услуг просто отказались.
Дэвид смотрел на губы Сандз – слегка влажные от вина и чуть поблескивающие в дневном свете. Не самое соблазнительное из всего, что он успел увидеть в Англии после возвращения домой. Однако он почувствовал возникшее в нем желание. Дэвид протянул руку, чтобы взять пустой бокал из рук девушки.
– Принести вам еще чего-нибудь?
Она слегка улыбнулась ему.
– Согласна, если вам так хочется.
Бокал уже был в его руке.
– Фруктовый пунш?
– Скорее джин с тоником.
– Хорошо, – проговорил он, отходя от девушки. – Может быть, продолжим на террасе? Смотрите, какой прекрасный день.
– Согласна, – с той же интонацией отозвалась Сандз, – как вам угодно.
Дэвид улыбнулся в ответ. У него появилось предчувствие скорой и легкой победы. А скорые победы доставляли немалое удовольствие.
– Не уходите отсюда.
ИТАЛИЯ
Повитуха вышла из комнаты, вытирая руки.
– В доме есть выпивка? – обратилась она к Тео. Он так и застыл в одной позе, склонившись над столом.
– Поищи в шкафу, – прошептал Тео.
Повитуха принялась шарить по полкам, нашла полбутылки бренди. Затем налила стакан и ушла на кухню.
Наконец Тео нашел в себе силы сделать первое движение. С трудом развернувшись и опираясь на палку, он захромал к комнате роженицы. Войдя в комнату, Тео сразу же ощутил запах бойни.
Повитуха положила мать и дочь рядом, укрыв одной окровавленной простыней. Дрожащей рукой Тео откинул ее и застыл над телом сестры и младенца.
Лицо Кандиды было мраморно-белым, глаза полуоткрыты и смотрели куда-то в потолок. Капли молока выступили на сосках.
Девочка лежала, уткнувшись в тело матери. Мраморно-белое личико со щечками херувима, нежным пушком черных волос, на голове – следы от щипцов. Глаза закрыты, а маленький ротик полуоткрыт. Похоже скорее на сон, чем на смерть.
Но все кругом напоминало скорее преступление, а не роды.
Тео отбросил трость и взял младенца на руки. Тельце оказалось мягким и еще теплым. Одна ручка безжизненно свесилась, а головка упала прямо Тео на грудь.
«Нет, – неожиданно родилась в его сознании мысль. – Я не позволю свершиться этому».
Захромав из последних сил (больная нога, как ветка дерева, готова была переломиться в любую минуту), Тео понес ребенка так быстро, как только мог, через весь дом. Лицо повитухи побелело, когда она увидела калеку.
– Совсем спятил? – выпалила женщина.
– Я не позволю, не позволю, – произнес Тео вслух.
– Тео, ты сошел с ума. Это уж слишком для тебя. Не обращая внимания на женщину, калека проковылял с младенцем мимо и вышел во двор.
– Тео! – продолжала кричать повитуха ему в спину.
Во дворе оказалась бадья с водой, которая уже успела покрыться легкой корочкой льда. Тео склонился, чувствуя, как нестерпимая боль пронзает ногу. Затем, освободив одной рукой воду ото льда, он опустил маленькое тельце в холодную колючую воду.
И сразу же почувствовал, как дрогнул в конвульсиях этот безжизненный комочек.
Сначала он подумал, что ошибся, но движение тут же повторилось. Тогда Тео вытащил ребенка из воды, и она ручейками побежала по черному пушку волос. Девочка поперхнулась, и все личико стало красным, а затем она закричала, и это было как призыв к жизни.
Повитуха оказалась на пороге, она словно окаменела от неожиданности.
– О Господи! Что ты сделал?
Удивившись сам свершившемуся чуду, Тео вновь ступил на больную ногу и, прижимая к груди кричащее дитя, захромал назад, к дому. Краска постепенно покрывала белое тельце. Девочка начала брыкаться и сжимать кулачки. Она кричала и, казалось, вкладывала в этот крик всю неистребимую жажду жизни.
– Ей холодно, – произнес Тео и удивился своему голосу. Он протянул младенца повитухе, но та закачала головой, будто боясь чего-то.
– Ты дал ей жизнь. Вот ты и неси ее теперь, – сказала женщина и побежала за пеленками.
– Катарина Элеонора, отказываешься ли ты от козней дьявольских? – громко спросил священник.
– Да, – ответил за девочку хромой Тео.
Роза Киприани, не отрываясь, молчаливо, смотрела на маленькое создание, что лежало у ее сына на руках, пока священник касался лба младенца. Девочка даже не проснулась во время крещения.
– Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа нарекаю тебя. Аминь.
С этими словами Роза медленно перекрестилась. Повитуха еле сдерживала слезы. Тео как завороженный смотрел на девочку. Он так и не выпустил этот теплый комочек из рук. И казалось, что теперь никто на свете не осмелился бы забрать у него ребенка.
Священник ушел, а повитуха осталась, чтобы присмотреть за девочкой. Она проснулась и заплакала, суча ножками в пеленках. Тео неловко принялся убаюкивать дитя.
– Голодная, – сказал он, вспомнив о капельках молока, выступивших на сосках мертвой сестры, и посмотрел на мать. Она, кажется, не произнесла еще ни слова, и лицо ее по-прежнему напоминало маску. Эта женщина приняла воскрешение младенца без радости и даже без удивления.
Тео протянул ребенка матери.
– Это все, что нам осталось, – сказал он.
Роза взяла наконец девочку. Без всяких чувств она укутала шалью ребенка.
– Без твоей помощи, Тео, ей бы было сейчас намного лучше, – наконец проговорила она.
Сын не знал, что ответить.
– Я сделал то, что должен был сделать, – произнес он.
– Что верно, то верно. – И Роза дала малютке пососать свой мизинец. Ребенок тут же перестал плакать. Тогда мать еще раз взглянула на сына: – Ладно, Тео. Надеюсь, в один прекрасный день она поблагодарит тебя, а пока ей надо немного подрасти.
АНГЛИЯ
Они вместе вышли на террасу. Дом стоял на вершине холма, и его каменный позолоченный фасад смотрел вниз. Там, по склону, спускался сад – до самых пустошей, поросших вереском, а дальше шли леса. Это был почти дворец, с бесчисленными окнами, украшенными великолепной лепниной на первых трех этажах. Четвертый этаж, достроенный специально для слуг, имел более простой, но все же благородный облик. Все было обвито плющом, оттенявшим своей зеленью серый камень.
– Какой прекрасный дом, – заметила Эвелин Сандз.
– Правда? – отозвался Дэвид, пытаясь уловить выражение лица девушки. – Но его следует продать.
Она посмотрела с удивлением.
– Вы действительно хотите продать его?
– У меня нет выбора. – С этими словами он поднес бокал к губам. – Война все так изменила. Трудно даже вообразить, какие средства нужны, чтобы содержать поместье, подобное Грейт Ло. Их у меня просто нет.
Сандз продолжала смотреть на Дэвида, и на лбу у нее появилась легкая морщинка.
– А разве вы не можете что-нибудь сделать?
– Все уже заложено и перезаложено. Мой отец пытался что-то сделать. Вы знаете, наверное, что он умер, пока я был в Италии.
– Да. Знаю.
– Об этом я жалею больше всего на свете. А главное, о том, что не смог сказать старику последнее прости. – Челюсти его как бы сжались сами собой.
Такое обычно сражало наповал других женщин, но Сандз казалась совершенно равнодушной:
– Что же, он так ничего и не оставил после себя? Извините за откровенность, но это просто позор – покидать такое красивое место.
– Да, красивое. Но мне от отца не досталось ничего, кроме долгов.
– Ваш дом таит в себе что-то ужасное, – как само собой разумеющееся заметила Сандз. Она разглядывала трубы, которые, казалось, с угрозой вырастали из темной крыши. – И этот красный викторианский кирпич.
Дэвид только улыбнулся.
– Грейт Ло начали строить еще в 1650 году. Верхний этаж завершили только в восемнадцатом столетии. Здесь, по крайней мере, восемнадцать спален. Прекрасный отель.
– Отель? – с разочарованием переспросила девушка.
– А для чего еще пригодится эта груда камней? Бровь ее слегка приподнялась в ответ.
– Отель, – как эхо повторила Сандз.
Затем она повернулась и пошла вдоль террасы, задумчиво ведя рукой по каменной балюстраде. Дэвид шел следом, улыбаясь самому себе. Кровь его загорелась, он почувствовал такое же воодушевление, какое бывало у него на охоте и на войне, когда начиналась игра со смертью.
Они дошли до цветника, и Сандз остановилась на верхней ступеньке лестницы, глядя в сад. Дэвид склонился к девушке через балюстраду.
– Конечно, земли здесь хватает. Она кончается вон у того леса справа. Прекрасное пастбище, и больше ничего.
– Ну, еще и прекрасный обзор. Можно избежать незваных посетителей, видя их приближение на расстоянии.
– О, я мастер по обзорам. Но все, что я вижу пока что в жизни, – это долги.
Она издала вдруг какой-то странный звук, напоминающий мычание, и присела. Дэвид продолжал смотреть на Сандз. Лиф ее платья чуть отошел, и он поймал себя на том, что рассматривает ее мягкие, белые как слоновая кость груди, слегка поддерживаемые шелковым бельем. Мягкие, девственные бугорки. Не такие как у Кандиды. И тут он вспомнил свои ощущения, когда касался тяжелых, теплых и пышных грудей Кандиды. В горле перехватило от этих неожиданных воспоминаний.
Сандз стояла уже на одном колене, как-то по-детски сосредоточенно собирая маленькие цветочки, что росли меж серых камней. Ее тело уже не казалось девичьим, а груди выглядели твердыми и высокими, и когда она двигалась, то Дэвид мог различить розовые соски в шелковых складках.
Неожиданно она посмотрела вверх и перехватила его взгляд.
– О, простите, – и тут же поправила платье. – Небольшое развлечение, да?
Затем она как ни в чем не бывало встала с маленьким букетом в руке. Дэвид был окончательно заинтригован. Что за странное создание! Странное и колдовское. И вдруг он захотел обнять девушку, прижаться к этим твердым тонким губкам.
– Все временно, конечно, – сказал он неожиданно.
– Что именно?
– Правительство лейбористов. Сомневаюсь, что они продержатся четыре года: они приведут страну к полному упадку. На следующих выборах консерваторы победят, и с триумфом. Эттли с его командой выбросят, и Уинстон вновь станет премьер-министром.
– В 1949 году Уинстону исполнится 75 лет, – заметила она глубокомысленно, – но, может быть, вы и правы.
– Конечно, прав, – ответил он с уверенностью.
– Вас интересует политика?
– Очень, – сказал он. И вздохнув, добавил: – Я подумываю о том, чтобы выдвинуть свою кандидатуру в парламент в 1949 году.
Она даже не шевельнулась, но выражение лица изменилось, будто девушка смотрела теперь на Дэвида по-новому, впервые отнесясь к нему серьезно.
– Это правда? – несколько манерно спросила Сандз.
– Да. Я действительно хочу стать членом парламента. Но больше всего я хочу стать членом правительства.
– Понимаю.
– У меня немало преимуществ. Я из этих мест. Герой войны и все прочее, – с этими словам он коснулся орденской планки на груди. – А зачем же еще это нужно. Впрочем, у меня есть и слабые стороны.
– Какие же, например?
– Безденежье, отсутствие всякого политического опыта, никаких связей, – ответил он, прямо глядя в ее холодные серые глаза. Затем спокойно добавил: – А также у меня нет жены.
Наступило довольно продолжительное молчание. На террасе был слышен гул голосов, доносившихся из дома.
Сандз по-прежнему продолжала смотреть на него, не говоря ни слова и сжав плотно губы. «Ее серые глаза так и светятся умом и пониманием», – вдруг пришло на ум Дэвиду. Он почувствовал, что она обдумывает и как бы взвешивает его слова.
Не слишком ли далеко он зашел, да еще так быстро? Возвращаясь к последним минутам разговора, он осознал вдруг, что не имел даже времени для размышлений. Она будто загипнотизировала Дэвида взглядом своих серых глаз, и незаметно для себя он раскрыл перед ней всю душу. Наверное, это была ошибка. Причем ужасная.