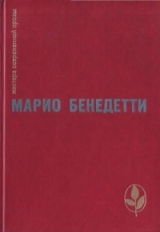
Текст книги "Спасибо за огонек"
Автор книги: Марио Бенедетти
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 14 страниц)
Он уже на десять минут опаздывает. Глория наклоняется к журнальному столику, берет «Ла Гасета» и открывает ее на пятой странице. Редакционная статья Будиньо начинается более агрессивно, чем обычно. Неужели верно, что у этой страны нет дна? А у нее, Глории Касельи, есть дно? Разве Будиньо не делал и с нею всегда то, что ему было угодно, а она всегда уступала, не возмущаясь, не протестуя? Не станет ли он ее презирать за эту податливость, которую Глория прежде называла любовью, а теперь называет пониманием? Поймет ли он ее? Сорокалетняя Глория, еще привлекательная, еще желанная, представляет себе на секунду, какой была бы ее жизнь, если бы в то десятое сентября, когда он ей сказал: "Хочешь быть моей любовницей?», она просто ответила бы: «Нет». Всего один слог. Возможно, она вышла бы замуж, как ее сестра Берта, и было бы у нее двое ребятишек и муж, вроде Фермина, который способен говорить только о футболе да о лотерее, Фермина, который знает в точности все места, какие занимала команда «Пеньяроль» в последние пятнадцать лет, и который в программе «Вопросы и ответы» не выиграл десять тысяч песо лишь потому, что его обманули, ведь он приготовился по теме «Профессиональный футбол высшей лиги, матчи, сыгранные на стадионе Сентенарио» с 1940 года по нынешний день», а тот мошенник спросил у него, какая любимая книга Хуана Альберто Скьяффино[97]97
Скьяффино, Хуан Альберто – в то время один из ведущих игроков уругвайской футбольной команды «Пеньяроль».
[Закрыть]. Возможно, она бы располнела, как Берта, которая уже не носит пояса и не делает гимнастику и примирилась с варикозными узлами, и окончательно похоронила бы свои претензии на семейную идиллию и роняла бы слезинку в каждый День Матери, когда ее малыш вручал бы ей ежегодное сочинение, которое им задают в колледже по случаю такого волнующего праздника, и два раза в неделю она обнимала бы потное, жирное тело Фермина или кого-нибудь другого, не менее отталкивающего, примиряясь с чувством рутины, как грузчик примиряется с тюками или исповедник – с грехами. В таком случае она выиграла, сказав «да», ну конечно, сказав по-своему, то есть: «Я так счастлива, профессор». Не беда, что теперь сложилась иная ситуация; зато это было настоящее любовное приключение, почти как в кино или в романах, приключение, в котором она была главным действующим лицом. Но несомненно и то, что ни в первые годы, ни даже в первые месяцы она не чувствовала, что это ее мужчина. Как ни была она ослеплена, у нее все же было ощущение, что она некое орудие, ничтожное орудие этого сложного, непроницаемого, жесткого человека. Ощущение, что ею наслаждались, но не любили; что она желанна, но не необходима. Она была для мужчины орудием наслаждения и имела ценность до тех пор, пока он находил в ней приманку для своей чувственности. После всего, когда он издавал последний удовлетворенный хрип и тело его опадало, как мягкое тесто, почти придушив се, Глория знала, что будет дальше: его явное холодное отчуждение, взгляд, устремленный в потолок, и ее ощущение того, что в эту минуту она для мужчины значит меньше, чем комод, или шкаф, или стул. Этап доверительных бесед начался не тогда, а только в последние годы, с тех пор как мужская его сила уже не играет роли в их свиданиях. Глория закуривает сигарету и выпускает колечки дыма – этому научил ее он в тот вечер, когда уговорил курить. И, выпустив третье колечко, она задает себе первый вопрос: нынешнее состояние – это вид общения или же новая форма, придуманная им, чтобы продолжать пользоваться ею как орудием, наслаждаться ею без любви, искать в ней стимул уже не его чувственности, но умственной живости, чтобы затем опять ее покидать и водворять на положение мебели? Задолго до того, как она завершает свой вопрос, колечко, спасаясь от ответственности, тает и исчезает. И когда она выпускает второй клуб дыма, раздается звонок.
Глория открывает дверь. Он стоит, отставив одну ногу, шляпа сдвинута на затылок. Вздох усталости раздается за два сантиметра от поцелуя в щеку – Глория помогает ему снять пиджак, подает шлепанцы. Каждая туфля падает на пол с обычным стуком. Из спальни Глория видит, как он моет себе руки и лицо. Затем Эдмундо Будиньо идет к плетеному креслу, берет стакан виски с двумя кубиками льда и содовой на три пальца и с улыбкой, в которой все же чувствуется что-то жесткое, спрашивает:
– Как провела время?
8
– Ты в центр?
– Да. Хочешь, подброшу?
– Ладно, высадишь меня у Университета.
– Ты опять поспорил с дедушкой?
– Нет. После той стычки мы заключили перемирие.
– Мать огорчается.
– Да, она мне уже выдала несколько проповедей.
– Дело в том, что она действительно огорчена.
– А ты – нет?
– Не слишком. Мне кажется, я тебя понимаю лучше, чем твоя мать.
– Ты уверен?
– Почти уверен… Во всяком случае, постарайся быть с нею поласковей, не пугай ее. Ты же знаешь, какая она нервная.
– Просто она всего пугается. Многие слова вызывают у нее панический ужас.
– Так ты их не произноси. Что тебе за радость, если в доме не будет покоя. Думай себе что хочешь, только не говори целый божий день об одном и том же.
– Ты тоже считаешь, что не стоит говорить о том, что творится?
– Конечно, я так не считаю. Мне только кажется, что не стоит об этом говорить с твоей матерью. Ее ты не убедишь. А дедушку и подавно.
– Дедушка – совсем другое дело. Мама всерьез пугается и, кроме этого, ничего не понимает. Дедушка, напротив, все отлично понимает, но предпочитает пугать других, чем самому пугаться.
– Мужчины скроены по другой мерке. Они держатся за свой привычный мир.
– Это я знаю. И пойдут на все, чтобы его не потерять. Но что меня бесит, так это его поза человека с незапятнанным прошлым, человека безупречной честности, необычайной чистоты. Я имею в виду его статьи в газете, а не то, что он мне говорит. Когда он разговаривает со мной, он из кокетства старается казаться хуже, чем есть на самом деле.
– Все люди в какой-то мере рабы условностей – они, мы, да и вы. Но дело в том, что условности-то разные.
– Разве и мы рабы условностей?
– В тот день Старик это тебе сказал. И это было одно из немногих его утверждений, с которым я мысленно согласился. Вы думаете, что революция – это когда ходят без галстука.
– С чего-то надо начинать, вы и этого не делаете.
– Да, знаю, знаю. Но вы начинаете говорить, кричать, устраивать митинги, воспламенять сами себя и приходите к убеждению, будто страна и есть то, что вы провозглашаете, и только это. Но страна – нечто совсем иное и, возможно, намного хуже, чем тот идеальный край, который вы придумали.
– Кто тебе рассказал эту сказку?
– Слушай, Густаво, в основе мы оба мыслим одинаково. Надо покончить с накоплением денег и земли в немногих руках, с отсутствием самостоятельности и самобытности в нашей международной политике, с коррупцией властей, с торговлей пенсиями, с мелкой и крупной контрабандой, с протекцией, с клубными вождями, с пытками, с автомобилями по дешевке для депутатов. Разумеется, со всем этим надо покончить, но чего вы не понимаете, так это того, насколько иссякли ресурсы нашей чувствительности.
– В каком смысле?
– Видишь ли, однажды я слушал выступление по телевидению депутата от партии «Колорадо», и он открыто издевался над народом. Основной его тезис был таков: «В течение четырех лет вы жалуетесь на то, что депутаты вроде меня и многих других импортируют для себя дешевые автомобили. Вы считаете это ужасно безнравственным. Но когда приходит пора голосовать, вы выбираете нас, а не тех, кто не пожелал воспользоваться этой небольшой льготой. Это означает, что народ не придает значения таким мелочам».
– Вот наглец.
– Ясно, наглец. И все же по существу он, к сожалению, был прав. Люди придают все меньше значения тому, что связано с нравственностью в политике. Люди знают, что в высших сферах совершаются крупные и прибыльные махинации. И они полагают, что устранить подобные аферы не в их власти. Тогда человек с улицы, чье участие в политике ограничивается подачей голоса, примирившись, старается тоже провернуть свое маленькое дельце, свою скромную аферу. Пойми, самый серьезный кризис в нашей стране – это отсутствие хорошего примера.
– Лучше скажи, что с этого началось. Но теперь одними хорошими примерами дело не поправишь. Надо изменить нашу экономическую систему.
– Согласен с тобой, Густаво. Однако, стремясь изменить экономическую систему, вы выбрасываете за окно мораль – и делаете большую ошибку.
– Но ведь кризис у нас экономический, а не моральный. Во всяком случае, моральный кризис-следствие определенной экономической структуры.
– Видишь ли, вам, у которых Маркс разобран по цитатам и с уст не сходит теория относительной прибавочной стоимости, не мешало бы время от времени вспоминать, что Маркс говорит о политической экономии, науке о богатстве, как о подлинно моральной науке, самой моральной из всех наук. Не приходилось ли вам задуматься над тем, что, обличая отчуждение индивидуума при капиталистическом строе, марксизм, по сути, предлагает изменить знак этой моральной науки? Что будете вы делать, ты и все твои безгалстучные революционеры, если осуществится изменение структуры, как любите вы говорить, и эта новая, измененная структура перейдет немедленно во власть кучки безнравственных, честолюбивых, коварных подлецов? Согласен, изменить структуру – это великолепно, но вам надо позаботиться о том, чтобы одновременно изменилась мораль этого народа, иначе от перемены не будет проку и, будет ли это эволюция или что еще, она окажется бесполезной. Не задумывался ли ты о том, что в этой стране царит беспробудная политическая апатия, некое коллективное пожимание плечами – возможно, потому, что былые социальные завоевания достались народу, который их еще не требовал. По этой причине нас, находившихся в авангарде континента, теперь все опередили, теперь у всех в Америке больше социальной сознательности, чем у нас, все они быстрее осваиваются с переменами в мире, и, когда настанет момент той Великой Перемены, о которой вы мечтаете, ты увидишь, что наш Уругвай, такой чистенький, демократический, уравновешенный, такой образцовый для Америки, славившийся своей свободой и, однако, оказавшийся в безнадежном застое, самым последним, поймет урок истории, последним расстанется со своим пышным ритуалом лицемерия.
– Вот все вы такие: понимание как будто у вас есть, но, по сути, вы сеете разложение. Вы умеете только перечислять недостатки, изъяны.
– О нет, Густаво, различие лишь в темпе. Я полагаю, что единственно надежная перемена может быть достигнута политическим просвещением, а это требует времени. Ты же считаешь, что перемена будет внезапной, что она сразу созреет или что-то вроде того. Помню по себе, что, когда человеку нет двадцати лет, все кажется неотложным, да и в самом деле неотложно. Но признать некую потребность безотлагательной еще не означает, что ее удастся удовлетворить немедленно. Дай бог, чтобы ты и твои друзья оказались правы, но, на мой взгляд, есть только, два пути приобретения политической сознательности: один – это голод и разорение, второй – просвещение. Мы не испытали ни голода, ни разорения, по крайней мере в такой степени, как другие народы в Африке или в Америке, и вдобавок не знали надлежащего просвещения. Потому нас так мало волнует подлинная политическая перемена, зато очень волнуют злоупотребления и аферы политиков. Я разумею тупой бюрократический карьеризм, систему клубов, блаженную нирвану пенсионеров, продажность всех оптом и в розницу. Вы строите свои планы, исходя из народа, предварительно вами идеализированного, но сам-то этот народ еще не дал своего согласия на декларированную вами идеализацию. И пойми, все, что я говорю, отнюдь не направлено ни против народа, ни против вас. Вы замечательные парни, и у вас самые лучшие намерения, я это признаю, но вы делаете ошибку, увлекаясь экономическими схемами – вдобавок чужими – и забывая о реальности; народ у нас тоже замечательный, и это изумительный сырой материал, но, чтобы этот материал был годен к употреблению, необходимо его просветить. У нас здесь все умеют читать и писать, но не умеют политически мыслить, кроме как с точки зрения своей должности или своей пенсии. Одни проблемы можно решить лозунгами, другие – нет. Попробуй, например, провести опрос об аграрной реформе, и ты столкнешься с тем, что самые ярые ее защитники – это люди с образованием, интеллектуалы, студенты. Средний класс стремится вверх, у большинства из них есть и кое-какой запасец в виде недвижимости. Но я предложу тебе проехаться по сельской местности, и если ты встретишь крестьянина, молодого или старого, который при упоминании об аграрной реформе не испугается или откровенно и решительно не отвергнет эту возможность, придется тебя наградить орденом или, что куда проще, тебе не поверить. Пойми, что – по крайней мере теперь – у нашего пеона нет привязанности к земле, ему нравится чувствовать себя кочевником. Таково его смутное и авантюрное представление о свободе – знать, что нынче он может объезжать лошадей здесь, завтра стричь овец там, знать, что он ни к чему не прикреплен, или хотя бы верить в это; чувство, унаследованное от гаучо, по мнению людей сведущих. Так что, прежде чем наряжать их в чирипа[98]98
Штаны из цельного куска ткани, элемент одежды гаучо.
[Закрыть] из флага аграрной реформы, надо им внушить привязанность к земле, и подумай еще вот о чем: если этой привязанности у них нет, стоит ли ее внушать? Нет ли других способов осуществить социальную справедливость – ну, разумеется, покончив с латифундиями, нашим национальным бичом? Нет ли других вариантов, более пригодных для нашего темперамента и – почему не сказать? – для наших национальных комплексов? Пока вы будете списывать под копирку уроки Боливии, Кубы или Ганы, пока вы смотрите на нашего пеона, заранее установив его тождество с кубинским крестьянином или шахтером из Оруро[99]99
Департамент в Боливии и его административный центр, главный район горнорудной промышленности и цветной металлургии страны.
[Закрыть], дело не пойдет. Ты мне скажешь, что завтра или послезавтра может что-то произойти в Бразилии или в Аргентине, что-то потрясающее и притягательное, что может внезапно захлестнуть нас более или менее революционной волной. Возможно, это так, но зрелость не приобретается по декрету. Если у нас случится взрыв – не вследствие собственного нашего развития, а лишь потому, что взрыв произошел у соседей и огонь распространился дальше, – то, вероятней всего, заимствованный огонь принесет нам не пользу, а только гибель. Пока мы не изготовим наш собственный фитиль и наш собственный порох, пока не обретем внутреннюю уверенность, что нам необходим собственный взрыв и от собственного огня, не будет ничего глубокого, подлинного, закономерного, все будет пустой оболочкой, как является пустой оболочкой, да, пустой, наша хваленая демократия. И если наши магнаты, включая твоего дедушку, могут безнаказанно утверждать, будто руки у них чистые, причина в том, что наше понятие о политической гигиене оставляет желать многого. А теперь выходи, здесь нельзя долго стоять.
9
Еще рано: двадцать минут третьего. В контору идти не хочется. Наверняка меня ждет там целая толпа. Пусть подождут. А я лучше посижу в кафе да почитаю газеты. Утром спешил, взглянул только на заголовки. Редакционная статья Старика меня еще не успела расстроить. О чем он сегодня пишет? Против негров выступает? Или в поддержку Исаака Рохаса[100]100
Рохас, Исаак – аргентинский адмирал, один из руководителей военного переворота в Аргентине в 1955 г., когда было свергнуто диктаторское правительство Перона.
[Закрыть]? Или против бастующих? Или поддерживает ограничение прав профсоюзов? Да что говорить, любая тема годится. Но почему Старик превращает все свои статьи в шедевры мерзости?
– А, Вальтер, как поживаешь?
– Я видел, как ты вошел. Я сидел за столиком возле окна. На днях чуть не позвонил тебе. Да не решился.
– С каких пор такая робость?
– Л дело, знаешь, деликатное. Сперва я подумал, что нельзя обсуждать его по телефону. А потом махнул рукой; словом, не позвонил.
– Уж так было неудобно?
– Даже очень. Речь идет о твоем отце.
– Ах.
– Ты же знаешь, я работаю секретарем директора Молины. И недавно совершенно случайно узнал об одном весьма некрасивом деле.
– Наверно, в нем замешан Старик?
– Вот именно.
– Ну что ж, это меня не удивляет.
– Крупная махинация, связанная с фабрикой. Твоему отцу может перепасть полмиллиона.
– Да ну! А Молине?
– Столько же.
– И что ты думаешь делать?
– Ничего. Но если я ничего не делаю, хочу тебе сказать, что не ради твоего Старика, и не ради Молины, и даже не ради денег. Вдобавок никому не известно, что я в курсе. Я ничего не делаю, потому что знаю наперед, как все будет. Если я разоблачу их, меня начнут допрашивать, Молина переведет меня в какую-нибудь дыру вроде архива, где я буду погребен до конца дней, а твой отец в своей газете тиснет статеечку о том, что есть-де слухи, что в таком-то учреждении такой-то служащий сочувствует коммунистам и, несмотря на это, занимает весьма ответственную должность и имеет доступ к информации, жизненно важной для государственной безопасности, и истинные демократы в нашей свободной стране не должны этого терпеть. Наперед все знаю.
– А почему ты хотел мне звонить?
– Предупредить. Я знаю, что ты в этом свинстве не участвуешь, однако оно может тебе повредить. Тебе, твоему агентству, даже твоему сыну. О махинации проведал один журналист, и, понимаешь, он только ждет, пока дело оформится окончательно, чтобы бросить свою бомбу. Я думал, ты можешь поговорить с отцом, предупредить его, что дело может обнаружиться, в общем, убедить, что он на этом проиграет.
– Кто этот журналист?
– Ларральде.
– Алехандро Ларральде? Из «Ла Расон»?
– Да.
– О, он наверняка поднимет большой скандал.
– Еще бы. Этот церемониться не будет.
– Благодарю тебя, Вальтер.
– Что ты намерен делать?
– Еще не знаю. Мне так трудно говорить со Стариком.
Отношения у нас неважные. Но этого нельзя допустить, нельзя допустить.
– Добрый день, сеньор Будиньо. Было семь звонков, и вас ждут четверо посетителей.
– В чем дело? Разве Абелья сегодня не явился?
– Сеньор Абелья принял человек двадцать, но эти четверо желают побеседовать лично с вами.
– Ладно. Дайте мне список тех, кто звонил.
– Еще я хотела вас попросить кое о чем, сеньор.
– Говорите, сеньорита.
– Сегодня у меня день рождения, и я хотела бы уйти чуть пораньше.
– Черт возьми, а я как раз надеялся, что сегодня мы приведем в порядок переписку с Соединенными Штатами.
– В таком случае, сеньор…
– Ну ладно, можем отложить на завтра. В честь вашего дня рождения.
– Спасибо, сеньор.
– Вы, наверно, еще совсем маленькая.
– Сегодня исполнился двадцать один год, сеньор.
– Приятное, должно быть, это чувство, когда тебе исполняется двадцать один год, у тебя хорошая работа и такая симпатичная внешность.
– То же самое говорит мой жених, сеньор.
– С чем вас поздравляю. Вижу, он человек разумный и с хорошим вкусом.
– Благодарю за разрешение, сеньор. Пойду скажу сеньору Риосу, что он может войти.
– Минутку погодите, сеньорита. Я хочу раньше прочесть это сообщение.
Здорово отбрила меня пышнотелая секретарша. Только я сказал ей «симпатичная», и она тут же выпалила про жениха. Вроде заклинания. А этого парня я знаю. Видел однажды, как они обнимались в последнем ряду в кинотеатре «Калифорния». Ну, уж сегодня он ее хорошенько обцелует. Happy birthday to you[101]101
Счастливого дня рождения (англ.).
[Закрыть]. Ha здоровье. A теперь – как сказать Старику? Грязные махинации – я всегда этого боялся. В конце концов, мне-то что? Ну а Густаво? Я не хочу, чтобы ему пришлось стыдиться своей фамилии. Фраза, достойная Александра Дюма. Забавно, а ведь иначе и не скажешь о том, что я не хочу, чтобы ему пришлось стыдиться своей фамилии. Между прочим, она и моя фамилия. Но мне это так не повредит. Восемь – шесть – четыре – пять – три.
– Хавьер? Говорит Рамой. Как ревматизм вашей супруги? Рад, очень рад. Скажите, пожалуйста, отец у себя? Будет в пять?
Хорошо, Хавьер, к этому часу я приеду.
Ну а теперь пусть пышнотелая секретарша пригласит сеньора Риоса.
– Сеньор Будиньо?
– Очень приятно.
– Прошу извинить, что я настаивал на разговоре с вами лично. Я знаю, вы человек занятой.
– Не беспокойтесь, сеньор Риос. Для того мы здесь и находимся.
– Понимаете ли, я к вам по вопросу, связанному с поездкой. Ну ясно, потому я и обращаюсь в агентство.
– Естественно.
– Просто о поездке я мог бы побеседовать с сеньором Абельей, с которым я, кстати, знаком – он человек вполне компетентный. Но мой случай – не совсем обычный, и я, главное, хотел бы сохранить дело в тайне. – в тайне ваш маршрут или в тайне вашу просьбу?
– И то и другое. Видите ли, сеньор Будиньо, мне шестьдесят три года, я вдовец, у меня два сына, две дочери и только одна внучка. Теперь я решил съездить в Европу.
– На какой срок, сеньор Риос?
– Максимум на три месяца.
– Когда бы вы хотели выехать?
– Как можно раньше.
– Один?
– Нет, с внучкой. Это очень важно.
– Морем или самолетом?
– Морем.
– Класс?
– Первый.
– И вы желаете, чтобы я вам наметил маршрут, заказал номера в отелях и прочее?
– Разумеется, но у меня есть еще другая просьба. Такая, с которой редко обращаются в агентство путешествий. Должен сказать, что обращаюсь к вам, потому что мне вас рекомендовали наилучшим образом. Ваш друг Ромуло Сориа.
– Вы друг Ромуло Сориа?
– Он мой врач. Вдобавок он единственный, кому известно то, что я собираюсь вам сообщить. Доктору Сориа было нелегко сказать мне об этом, и признаюсь, мне сейчас тоже нелегко сказать это вам. По правде говоря, Сориа и сказал-то мне, когда я сам догадался. Фактически я вынудил его к этому. Но вам никогда не догадаться.
– Честно говоря, нет.
– А в общем-то все довольно просто. У меня рак.
– О, сеньор Риос. У меня нет слов.
– Вы побледнели.
– Возможно, но, право же, у меня нет слов.
– Ничего не говорите. Я понимаю вас.
– При таких обстоятельствах полезно ли вам путешествовать?
– Мне уже ничто не может быть полезно. Но именно ввиду таких обстоятельств, как вы тактично выразились, я вправе доставить себе последнее удовольствие. Доктор Сориа гарантирует мне пять месяцев жизни, и, по его мнению, только на четвертый месяц начнутся осложнения, которые будут очень быстро развиваться и сделают для меня невозможным передвижение. Таким образом, мои планы нормальной жизни не могут идти далее трех месяцев. Вам, конечно, хотелось бы знать, зачем я вам все это говорю.
– Да.
– Видите ли, я хотел бы поехать в путешествие со своей внучкой. Это последний подарок, который я себе делаю. Но внучке всего пятнадцать лет, и, если мои сын и невестка узнают, что надо мной нависла неотвратимая опасность, да еще с точным сроком, они не только не разрешат девочке ехать со мной, но каким-нибудь способом помешают мне поехать. В лучшем случае со мной отправится все семейство, чтобы заботиться обо мне во время путешествия.
– А не думаете ли вы, сеньор Риос, что это было бы весьма разумно?
– То же самое сказал мне ваш друг доктор Сориа, но потом он меня понял. И я надеюсь, что вы тоже поймете. Перспектива разъезжать три месяца с целым семейным батальоном из сыновей, дочерей, невесток и зятьев, которые весь день будут стараться шутить, чтобы меня подбодрить, а стоит мне отвернуться, будут смотреть с состраданием и с мокрыми глазами, – такая перспектива, признаюсь, совершенно меня не привлекает. Я хочу нормально путешествовать со своей внучкой, она самое дорогое, что у меня есть в мире. И чтобы внучка была довольна, ничего не знала, наслаждалась всем, что увидит, и чтобы я был ей опорой, хотя в действительности опорой будет она мне. Ваш друг поклялся, что не скажет ни слова моим домашним о моей болезни. Вы, сеньор, тоже мне поклянитесь.
– Конечно, но все же…
– Разумеется, вам все же не вполне понятно. Видите ли, я хотел бы, чтобы вы, кроме того, что обеспечите нам билеты и отели, организуете экскурсии и дадите советы относительно достопримечательных мест, лучших музеев и так далее, кроме этих более или менее обычных обязанностей, – я хотел бы, чтобы вы известили всех владельцев отелей на нашем маршруте: если со мною что-нибудь произойдет – ведь ваш друг Сориа мог и ошибиться в своих расчетах, – словом, на случай, если со мною что-нибудь произойдет, чтобы моя внучка ни о чем не тревожилась и ее тотчас же отправили в Монтевидео самолетом. Излишне говорить, что за эту особую услугу я внесу в ваше агентство дополнительную сумму.
– То, о чем вы просите, я, конечно, могу исполнить. Но, с вашего позволения, замечу, что хозяева отелей, узнав, что вы путешествуете при таких обстоятельствах, будут относиться к вам с таким же затаенным сочувствием, которого вы хотели бы избежать со стороны родных.
– О, понятно. Я тоже об этом думал. Но, знаете ли, случайное и мимолетное, я бы даже сказал, профессиональное сочувствие хозяина гостиницы, метрдотеля или официанта – это не то же самое, что искреннее – как я полагаю – и полное горя сочувствие сына или дочери. Вы имеете полное право считать, что у меня каменное сердце, но должен признаться, именно в этом случае искренность была бы мне в тягость. Будь они лицемерами, их поведение меня бы не трогало, тогда я мог бы их презирать, но я горячо люблю своих сыновей и дочек, и они тоже мною дорожат – по крайней мере я так думаю. Кроме того, ведь вы, наверно, путешествовали и, конечно, заметили, что в сочувственных взглядах европейцев нет того трепета, какой бывает у наших земляков. У тех, я бы сказал, сочувствие менее гнетущее, менее острое. Это сочувствие людей, испытавших бомбежки, концлагеря, пытки, голод, ампутации.
– Я думал, вы не бывали в Европе.
– И верно не был. Но я видел глаза европейцев, приехавших сюда после войны.
– Слушая вас, я начинаю чувствовать себя ужасно легкомысленным человеком.
– О, нам только и остается, что позволить себе чуточку легкомыслия. Поверьте, у меня его было больше, чем у многих. Вы, я думаю, слыхали, что у слепых наблюдается особое развитие прочих органов чувств. Так вот, с тех пор как предо мной конкретно предстала мысль о смерти, я бы даже сказал, дата моей смерти, у меня развилась способность особенно острого восприятия жизни, как если бы некий бог-шутник решил, что моя прежняя антенна уже не годится, и поставил мне другую, новенькую, с исключительной дальностью приема.
– К счастью, вы не утратили чувство юмора.
– Видите ли, при всех этих переживаниях перспектива путешествия с внучкой – некий стимул если не жить, то, во всяком случае, хорошо закончить жизнь.
– Ну что ж, надеюсь, я вполне понял, чего вы хотели бы от нашего агентства.
– Собственно, не столько от агентства, сколько от вас, в порядке личной услуги.
– Тогда приходите сюда завтра в три часа с паспортами, справками о прививке оспы – вашими и вашей внучки – и кратенькой запиской о маршруте, который вы сами наметили. Я охотно уделю вам часок, и мы уточним все детали. А если увидите Ромуло, передайте ему мой привет.
Это хуже, чем видеть покойника, намного хуже.
– Сеньорита, прошу предупредить, что сегодня я больше никого не приму.
– Но как же, сеньор, там еще три человека, и они знают, что вы здесь. К тому же они видели, что вы приняли сеньора Риоса.
– Я себя неважно чувствую. Скажите им, пожалуйста, пусть придут завтра. Да, да, скажите, что я плохо себя почувствовал и должен был уйти, и предложите прийти завтра с утра, потому что во второй половине дня я не смогу их принять.
– Вы в самом деле плохо себя чувствуете?
– Небольшая мигрень, только и всего.
– Вам чем-нибудь помочь?
– Нет, благодарю. Избавьте меня от этих людей и ступайте праздновать свой день рождения.
– Благодарю вас, желаю, чтобы ваша мигрень прошла.
Куда мне теперь принимать посетителей. Этот человек. И с виду он так спокоен. Меня это потрясло больше, чем тот мертвый на Рамбле. Это хуже, чем видеть мертвого. Гораздо хуже. Потому что Риос, так сказать, объявлен мертвым и вместе с тем в достаточной мере жив, чтобы сознавать свою обреченность. Не понимаю, как он может смотреть на свое будущее, на свое куцее будущее, с таким спокойствием. Вдобавок у меня впечатление, что он неверующий. Он слегка подшутил над богом. Я не в силах этого понять. Наверно, тут что-то нечисто – в этом странном спокойствии, в этой любви к внучке, в этой сознательной покорности судьбе, в этой вере в приговор Ромуло, в этом холодном отношении к сочувствию детей. И однако лицо у него доброе, в глазах нет обозленности. Все мы должны умереть, но ужасно, если знаешь, когда придет конец. Пусть бы дата моей кончины была назначена через сорок лет, мне все равно не хотелось бы этого знать. Как мучительно должно быть ощущение, что тратишь минуты, неотвратимо приближаешься к определенной, точной дате. Что чувствует человек, твердо уверенный в дне казни? Ему, наверно, кажется, что время мчится с головокружительной быстротой: закроешь глаза на секунду, а откроешь – прошло полдня. Как будто катишься под уклон в машине без тормозов. Однажды у меня было ощущение неминуемой близкой смерти. Куда более близкой, разумеется, чем отсрочка на пять месяцев, которую Ромуло гарантирует Риосу. Было это при переходе через железнодорожные пути, между Колоном и Саяго[102]102
Колон, Саяго – железнодорожные станции, находящиеся в городской черте Монтевидео.
[Закрыть], в некую ночь тысяча девятьсот тридцать восьмого, а может быть, тридцать девятого года. Я возвращался от Венгерки. Как всегда, было лень идти до шлагбаума. Обычно я перескакивал через ограду и переходил то здесь, то там – где придется. Ночь стояла, нет, стоит безлунная. Я шагаю, все еще думая о Венгерке. Как ее зовут, я не знаю, хотя однажды мне назвали ее имя. Эрзи – или что-то вроде этого. Но на подготовительном курсе мы все называем ее Венгеркой. Какая девчонка. Смесь секса, фольклора и истории ее родины. Спать с ней – все равно что спать с ордами Арпада[103]103
Арпад (ум. 907) – первый князь мадьяров, которые под его предводительством заняли территорию современной Венгрии. Основатель венгерского государства.
[Закрыть], со святым Владиславом [104]104
Святой Владислав – Владислав I, венгерский король (1077–1095).
[Закрыть] с Дебреценским сеймом[105]105
В венгерском городе Дебрецене в 1848 г. заседал сейм, провозгласивший независимость Венгрии от Австрии.
[Закрыть] и с битвой при Темешваре[106]106
У города Темешвара (теперь Тимишоара, Румыния) в 1849 г. венгерская армия потерпела поражение от австрийцев.
[Закрыть]. Она умеет целовать как королева, и в ту же ночь, между одним поцелуем и другим, между одним объятием и другим – которые вроде объятий спрута, так они лихорадочны, неуемны и быстры, – между одной лаской и другой – настолько бурными, что тело мое делается красным, как при крапивнице, – между одной простыней и другой – потому что она никогда не пользуется одеялом, даже в июле месяце, и я мог бы замерзнуть, если бы от нее не исходил могучий животный жар, куда более сильный, чем от жаровни или от грелки, – словом, между одной любовной забавой и другой она посвящает меня в детали претензий Яна Запольи[107]107
Ян (Янош) Заполья (1487–1540) – воевода трансильванский, король Венгрии в 1526–1540 гг. В борьбе с Австрией опирался на турок.
[Закрыть], отношений этого господина с турками и, естественно, также мира, заключенного в Надьвараде[108]108
В городе Надьвараде в 1538 г. Ян Заполья заключил мир с Австрией, которая признала его королем, однако наследником его был объявлен Фердинанд Австрийский.
[Закрыть]. Лишь в редких случаях она говорит мне о своих братьях Дьёрде и Жигмонде – оба они скрипачи, один в венском симфоническом оркестре, другой в оркестре Лейпцигского радио, – которые пишут ей только на рождество, сообщая о политических сплетнях в Центральной Европе и о своих кутежах. Так как мои сексуальные возможности кончаются намного раньше, чем история Венгрии, Венгерка говорит: «Прощай», и я говорю: «Чао, Венгерка». Неудивительно, что после свидания с такой особой шагаешь безлунной ночью в некоторой рассеянности; и я иду, погруженный в воспоминания о ее порывах и вспышках, о бесконечных перечнях имен и дат, и так преодолеваю первую ограду, затем вторую и перехожу, вернее, пытаюсь перейти где-нибудь пути, но, не заметив, что нахожусь у стрелки, я ставлю правую ногу на рельсы как раз в тот момент, когда со станции Колон стрелку переводят, так как сейчас должен пройти поезд, прибывающий в час семь минут, и я оказываюсь в капкане, самым глупейшим образом, и пугает меня не боль, а твердая уверенность в том, что через четыре минуты, самое большее – через пять, пройдет поезд, прибывающий в час семь, и что мне не вырваться, так как железные клещи обхватили мою ногу возле щиколотки, а ступня болтается внизу и ее никак не вытащить, и от этой ступни вверх по телу ползет ужас, в котором не только страх смерти, но и сознание своей глупости, и из моих уст сыплются проклятия, что я так по-идиотски попал в капкан, который никто для меня не готовил, и я сознаю, что, ступи я на десять сантиметров дальше или ближе, я бы понятия не имел о том, что тут притаилась опасность, или, самое большее, услыхав скрежет рельсов, подумал бы, что сейчас пройдет поезд, прибывающий в час семь, а тут еще холодно и ветрено, но меня прошибает пот, я дергаюсь и повторяю:, «Чума на эту Венгерку», как будто бедная Эрзи, которая так славно умеет любить и так замечательно знает историю, виновата в моей глупости, и я обещаю, что если спасусь, то всегда буду проходить под шлагбаумом, но знаю, что обет мой совершенно напрасен, ведь вырваться из этих оков не в силах человеческих, и я извиваюсь и слышу отдаленный шум поезда, и лавина отрывочных и сливающихся образов проносится в моей голове, и я начинаю думать, как бывает с утопающими, о самых разных, меж собой не связанных вещах, «Мама дает мне пирог с мясом», а почему не со шпинатом или не с курятиной, нет, «Мама дает мне пирог с мясом, косы Хулии, одна из них наполовину расплелась, туфля Старика жмет на педаль сцепления», только туфля, почему «на плоской крыше висит сорочка и машет рукавами, будто руками», и опять Мама, но теперь «она моет мне ноги в голубом тазу с синей каемкой», я этот таз никогда не вспоминал, и когда Мама могла мне мыть ноги, «мои маленькие, розовые детские ноги в голубом тазу с синей каемкой», и еще Млечный Путь, но этот образ уже не в моей голове, а наверху, в небе, которое я вижу, и шум поезда слышится все громче, все страшнее, все ближе, я дергаю ногу, уже совершенно обезумев, она сжата, будто кольцом, вокруг щиколотки, и мне очень больно, и тут поезд, и я хочу молиться, но выученные много лет назад молитвы путаются, «Отче наш, ты, что на небесах, благословенна ты», не знаю, ничего не знаю, «к тому же какое дело богу до меня, до поезда, до моей ноги, до ноги моего отца, теперь она без туфли нажимает на педаль сцепления», и поезд, и огни, они уже освещают меня, «и кожа Росарио, и кожа Росарио, кожа Росарио, Росарио, Мама», и поезд, чудовищный, огромный, с жутким огненным глазом, «отче наш», вот он, вот он, колоссальный, «нет, меня не надо», ааай, я выдернул ногу, и он прошел мимо, «вот моя нога, в моих руках, без туфли», а поезд прошел мимо, «моя нога при мне, я – это моя нога», как я сумел, как, шум удаляется, затихает, «моя дорогая, измученная, окровавленная, счастливая нога, моя счастливая нога, она моя, какая чудесная в ней боль, когда я на нее ступаю, моя нога, она цела, спасибо не знаю кому, а «Отче наш» я забыл, милая Венгерка», я не хочу смотреть, что стало с туфлей, хотя рельсы опять раздвинулись, «какой я потный, и как холодно, как знобит», но моя нога цела. Ну конечно, у Риоса другое: во-первых, ему за шестьдесят, а мне было двадцать или двадцать один, и, кроме того, он может готовиться постепенно, а у меня было едва пять минут, чтобы свыкнуться с мыслью, что поезд обрушится на меня и наверняка искромсает на кусочки. Меньше всего было во мне спокойствия, да и теперь, когда об этом думаю, мороз по коже подирает, и этот жуткий светящийся глаз, этот надвигающийся на меня циклоп долгие годы являлись мне в кошмарах. Все обильные ужины, банкеты, мальчишники, рождественские индейки заканчиваются для меня поездом, который надвигается, глядя на меня, словно заранее наслаждаясь моей гибелью, и странное дело, в моих снах я никогда не спасаюсь, никогда не успеваю выдернуть ногу последним отчаянным рывком. Бедный Риос. Его поезд движется медленней, но тут никакой последний рывок не поможет. Его приготовления, его спокойная предусмотрительность, его забота о внучке – это, по-моему, вроде того, как если бы я, с застрявшей между рельсов ногой, стал беспокоиться о складке на брюках, или причесываться, или насвистывать танго, или считать белые пятнышки на ногтях, или рассуждать с научной точки зрения, почему мои подъязычные железы выделяют больше слюны, чем обычно. Не понимаю, как можно анализировать свой собственный страх – причем не на безопасной дистанции, а в самом центре кошмара, как это делает Риос.








