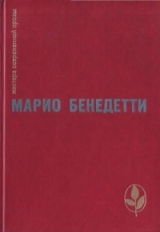
Текст книги "Спасибо за огонек"
Автор книги: Марио Бенедетти
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц)
6
– Сами поглядите, дедушка, – сказал Густаво. – Традиционные партии разлагаются. Где теперь Батлье, Саравия, Брум, Эррера?[91]91
Батлье-и-Ордоньес, Хосе (1856–1929) – уругвайский государственный и политический деятель. С 1880-х гг. – лидер партии «Колорадо». В 1903–1907 и 1911–1915 гг. – президент Уругвая. Провел ряд социально-экономических реформ, способствовавших развитию капитализма в стране и наряду с этим – смягчению социальных конфликтов. Саравия, Апарисио (ум. 1904) – лидер партии «Бланко». В 1903 г. возглавил неудавшееся восстание против X. Батлье-и-Ордоньеса. Брум, Бальтасар (1883–1933) – уругвайский государственный деятель, сторонник буржуазно-демократических реформ X. Батлье-и-Ордоньеса. В 1919–1923 гг. – президент Уругвая. Эррера-и-Обес, Хулио (1841–1912) – уругвайский государственный и политический деятель. Президент Уругвайской Республики в 1890–1894 гг.
[Закрыть] Все в земле. И там же находятся их идеи: в земле.
Зато на земле – Сесар, Нардоне, Родригес Ларрета[92]92
Сесар Батлье-Пачеко-уругвайский политический деятель, журналист. Сын X. Батлье-и-Ордоньеса. В унаследованной от отца газете «Эль Диа» вел самую реакционную пропаганду. Нардоне, Бенито-уругвайский политический деятель, фашиствующий демагог. Владелец радиостанции «Радио Рураль» («Сельское радио»), президент Национального Совета Правительства Республики в 1960–1961 гг. Родригес Ларрета, Эдуардо – уругвайский политический деятель, в 1946 г. выдвинул так называемую «доктрину Ларреты» – о благотворности для Уругвая влияния США.
[Закрыть]. Или перечислим по порядку: антисемитизм, охота за ведьмами, презрение к массам. Сравните, что говорят по радио и в прессе Нардоне и Берро[93]93
Берро, Гарсиа Адольфо-уругвайский юрист и ученый. В 1919 г. был членом Конституционной Ассамблеи, принимал участие в переработке Конституции в буржуазно-либеральном духе.
[Закрыть] и что прежде говорили Сесар и Луис[94]94
Батлье Беррес, Луис-уругвайский политический и государственный деятель, президент Республики в 1947–1951 гг. и президент второго Национального Правительственного Совета в 1955–1959 гг.
[Закрыть], это и есть разложение. В крупных партиях нет даже внутреннего согласия, и народ это понимает. Он не будет вечно голосовать за этих людей. Чего доброго, когда-нибудь им подложат бомбу.
– Не смеши меня, – сказал Старик. – Кому вы будете подкладывать бомбы, вы, молокососы, маменькины сынки, марксисты-пустомели?
– А ваши пресловутые Сыновья Отцов-демократов? Что скажете, дедушка? Они-то разве не молокососы, не маменькины сынки, не капиталисты-пустомели?
– Знаешь, Густаво, мне этого можешь не говорить. Они такие же недотепы, как вы. А то и почище. Я их использую, потому что они мне нужны. И вдобавок не стоят мне ни одного песо. Оплачивать расходы есть кому. Проблема не в том, что вы левые, а они правые. Проблема в том, что и одни и другие принадлежат к поколению хилому, нестойкому, легкомысленному, привыкшему только повторять готовые фразы, не способному мыслить самостоятельно.
– А вы в своей газете, дедушка, не повторяете готовых фраз? Может быть, вы мыслите самостоятельно?
– Я мыслю самостоятельно, когда принимаю решение повторять готовые фразы. Разница в том, что моя газета – дело коммерческое, тогда как ваше дело претендует на то, чтобы быть принципами, политической моралью и так далее. Вы же коллекционируете внешние знаки бунта, как другие коллекционируют бутылки или спичечные коробки. По-вашему, суть революции в том, чтобы ходить без галстука.
– А по-вашему, дедушка, что такое революция?
– Густаво, не придирайся к словам. Ты же знаешь, мне начхать на революцию.
– А на демократию?
– А на демократию мне наплевать, но я на ней деньги зарабатываю, и поэтому я Демократ с самой большой буквы. В том и состоит великое сходство, которого вам никогда не понять, между Соединенными Штатами и твоим покорным слугой. Им тоже нет дела до демократии, их тоже интересует прежде всего коммерция. Демократия для них – прибыльная пропаганда, и они столько шумят о ней, даже по отношению к Кубе, что никто и не вспоминает, чем кормятся Стреснер и Сомоса, двое моих единомышленников.
– Ах вот как.
– Для североамериканцев демократия – это вот что, это когда у них в стране все голосуют и проводят уикенд, читая комиксы, когда каждый – кроме негров, которые не едят вдоволь, – чувствует себя гражданином, а с другой стороны, максимально используется дармовой труд латиноамериканской голытьбы. Для меня, напротив, демократия вот что: давать каждый день редакционную статью в тоне образцового благоразумия и политической умеренности, а затем звонить начальнику полиции, чтобы он дубасил моих бастующих работничков. Сомнения меня не терзают. Раз уж мне выпало родиться в дерьмовой стране, я к ней прилаживаюсь. Использую ее в своих интересах, вот и все. Твой прадед толковал о Родине, твой папочка толкует о Национализме, ты толкуешь о Революции. Я же тебе говорю о себе, малыш. Но, уверяю тебя, по своей теме я знаю намного больше, чем вы по вашей. Мы – колония? Конечно. К счастью. Ты вот скажи мне, кто здесь хочет быть независимым? Ах ваши ребята с бомбочками, ну и пожалуйста. Клянусь, они меня не пугают. Скажу тебе одно. Куда более вероятно, что в один прекрасный день рабочий, которого я уволил или обругал – потому что мне нравится их ругать, – ворча, пойдет домой, поворчит там еще немного, пока пьет мате, потом купит револьвер, вернется на фабрику и пальнет в меня; да, это более вероятно, чем такая немыслимая и небывалая вещь, что твои левые политики из кафе договорятся, сложат наконец свою головоломку из всяческих «однако» и идейных оттенков и решат подложить бомбу в мою машину. Чтобы кого-то убить, надо либо проснуться рогачом, либо быть отчаянным парнем, либо напиться допьяна. А вы пьете кока-колу.
Сусанна ставит баночку на туалетный столик и поворачивает ко мне намазанное кремом лицо.
– Сегодня Густаво рассказал мне о своем споре с дедушкой.
– Я был при этом.
– Как раз об этом я и хотела с тобой поговорить. Недопустимо, чтобы ты присутствовал при разговоре на такую тему – и не сказал ни слова. Тебе следовало поддержать отца по многим причинам. Во-первых, это могло бы улучшить отношения между ним и тобой. А во-вторых, нельзя же, чтобы Густаво продолжал так жить. На днях Лаурита мне сказала – ну просто предупредила, как хороший друг, – что Густаво водится с явно опасной компанией: анархисты, коммунисты или что-то вроде того. Она собственными глазами видела, как они на рассвете расклеивали плакаты.
– Да что ты говоришь! А можно ли узнать, что делала твоя хорошая подруга Лаура на улице в час рассвета, вместо того чтобы мирно спать в своем почтенном доме?
– Нечего острить. Я с тобой серьезно говорю.
– Когда мне было семнадцать лет, я тоже марал стены.
То было совсем другое. Ты это делал из снобизма.
– Ах так? А Густаво по какой причине делает?
– Если бы он это делал из снобизма! Но он считает себя идейно убежденным. Благодаря дурному влиянию.
– Вероятно, он не только считает себя убежденным, но и в самом деле убежден в некой идее.
– Только этого недоставало – чтобы ты его защищал.
– Я его не защищаю, но признаюсь тебе, я предпочитаю видеть его участником этого более или менее спортивного бунта, чем чтобы он бросал вонючие бомбы в Университете.
– Рамон, хочешь, я тебе скажу, что я думаю об этой твоей новой позиции? Ты так поступаешь, только чтобы досадить своему отцу, а попутно и мне.
– Возможно. Как знать.
– Рамон, тебе уже давно перевалило за сорок. Нельзя же всю жизнь вести себя как мальчишка. Это, знаешь ли, смешно.
– Я никогда не чувствовал себя таким взрослым, как теперь. Более чем взрослым – старым.
– Подай, пожалуйста, вон ту баночку. Нет, не эту. Зеленую.
– Сусанна.
– Что?
– А что, если бы ты прекратила мазаться и легла бы в постель?
– Ты с ума сошел.
– Сусанна.
– Сегодня не надо, Рамон, я не могу. Может быть, завтра. К тому же я очень удручена историей с Густаво.
– Какое это имеет значение?
– Очень большое. Ты готов в любую минуту, а я нет. Мне надо, чтобы ты был со мной нежен.
– Ладно, иди сюда.
– Говорю тебе, нет.
– Ну хорошо.
Пусть сидит себе там, мажется своими кремами. На миг у меня проснулось желание, но теперь его уже нет. У меня нет сил два часа настаивать. Вдобавок раз она говорит, что не может. Но она часто уверяет, что не может, а потом оказывается-может. Интересно, наверное, жить в гареме. Вот определение, могу его предложить Академии. Гарем – единственное место в мире, где нет мужского онанизма. Расширенное определение: гарем – единственное место в мире, где мужской онанизм рассматривается как экстравагантность.
– Рамон.
– Чего тебе?
– В последнее время ты стал какой-то странный. Мне все кажется, будто ты думаешь о чем-то другом. Ты никого не слушаешь. Не только меня, я-то уже привыкла. Но и остальных. Ты всегда какой-то рассеянный.
– Да, я тоже это заметил. Но меня это не тревожит, такое со мной уже бывало не раз. Уверяю тебя, это не от surmenage[95]95
Переутомления (франц.).
[Закрыть] работа в агентстве не изнурительная. Пройдет.
– Почему бы тебе не сходить к Роигу?
– Бесполезно. Он всегда находит, что я совершенно здоров. До сих пор самое серьезное, что он у меня нашел, был крохотный жировик. Маловато для того, чтобы платить тридцать песо за визит. Бывает, конечно, что платишь с удовольствием – когда врач тебе говорит: дорогой друг, очень сожалею, но у вас обнаружен рак.
– Ох, Рамон, я не зря тебе сказала, что ты стал странный.
– Рак все больше распространяется, чего тут странного.
– Знаю, знаю, но у меня предубеждение. Мне кажется, что если я его не называю, то я в безопасности.
– Неплохо иметь такие предубеждения, особенно когда от них есть толк. Кроме того, если однажды ты узнаешь, что толку от них нет, что все бесполезно, время, прожитое спокойно, остается при тебе.
– Рамон, хочешь, я лягу с тобой?
– Ты же сказала, что сегодня не можешь.
– Я, знаешь, не очень уверена. Да и ты не слишком настаивал.
– Ах я должен был настаивать.
– И вдобавок мне надо снять крем.
– Сними.
– Так я иду?
– Ладно, иди сюда.
7
Глория Касельи глядится в зеркало и находит, что сегодня выглядит неплохо. Но ей мало видеть себя анфас. Бывает, что профиль готовит тебе пренеприятный сюрприз. Для этого есть боковые зеркала. Глория двигает их, стараясь найти идеальный угол. Да, эта прядь на ухе старит. Хуже того – меняет ее, превращает в кого-то другого. Во всяком случае, уши, несомненно, самое лучшее, самое изящное, самое эстетичное в ее облике, хотя голова в целом на ее вкус несколько тяжеловата. Поэтому уши надо показывать. Спору нет, профиль слева лучше, чем профиль справа. Но, увы, это непоправимо. Пигментное пятно на середине стройной шеи нельзя удалить, и никаким кремом его не скроешь. Оно невелико, в глаза не бросается, но все же заметно. Это от печени, упорно твердят врачи много лет подряд, но она-то знает, что пятнышко это появилось двадцать семь лет тому назад, в тот месяц, когда начались регулы, то есть в такое время, когда еще не было у нее ни печени, ни сердца, ни щиколоток, ни десен, ведь замечать свои органы начинаешь по мере того, как они у тебя заболевают, а в ту пору у нее только иногда побаливала селезенка, когда набегаешься по пляжу или часами играешь в волейбол на университетской спортплощадке.
Лицо в зеркале ей улыбается. Время от времени надо проверять, сохраняет ли ее улыбка свою силу. Конечно, теперь уже не то. Вот эти мелкие, но явные морщинки, появившиеся у углов рта, делают улыбку жестковатой, наполовину лишают ее былой наивности, приветливого радушия. И надо признать, что впечатление соответствует истине. Да, по крайней мере половину своей наивности и своего радушия она утратила. Что до остального, того, что еще и теперь заставляет мужчин медленно поворачивать головы, когда она проходит мимо, и даже отпускать игривые шуточки, – что до остального, она не слишком уверена.
Она мягко поводит плечами, думая, что именно эта часть ее тела удостоилась первой похвалы Эдмундо. «Какие красивые плечи! Будто созданы, чтобы положить на них руки, когда ты устал». Так сказал ей Эдмундо Будиньо десятого сентября тысяча девятьсот тридцать девятого года, и она почувствовала, что впервые ей говорят настоящий веский комплимент, а не пустые нежности, которыми ее потчевали товарищи по факультету. Они говорили комплимент, будто играли в пятнашки: задевали ее намеком на проект эскиза этюда о любви, а потом удирали, чтобы она не приняла это всерьез. В основе же похвалы Эдмундо, напротив, было нечто столь же доподлинное, как его усталость. Разумеется, лишь много времени спустя она пришла к выводу, что замечание это было не случайным, а глубоко характерным для него. Когда он восхищался или отвергал, хвалил или осуждал, он в своем суждении всегда был активной стороной, законом, богом. Например, он говорил: "Эта гора мне нравится, рядом с ней я чувствую себя сильным», или: «Терпеть не могу трамваев – когда еду за ними в машине, я чувствую себя рабом их медлительности».
Да, эту прядь надо убрать. А если ее заложить за ухо? Неплохо. В ту пору он был профессором на втором курсе факультета гражданского права, было ему сорок шесть лет, но в височках уже светилась седина. Снег на висках, говорила пошлячка Анна Мария в перерывах между вздохами. Но не одна Анна Мария – все девушки их факультета глядели на него с болезненным обожанием. И как было ей не вздрогнуть, когда он молча подошел сзади (не на факультете, а в Национальном Салоне Изящных Искусств) и сказал: «Какие красивые плечи! Будто созданы, чтобы положить на них руки, когда ты устал». Она сразу же подумала, что ее рост идеально подходит для той позы, которую он придумал, наметил в предвидении будушего, позы, соединявшей в себе фамильярность, доверие, близость, взаимную симпатию. Она еще не решалась себе сказать «любовь». Но она обернулась, и никогда он не казался ей таким потрясающе, неотразимо, мужественно красивым. Потому что в мужской красоте непременно должно быть что-то некрасивое, асимметричное, угловатое, и во внешности Эдмундо Будиньо были даже эти едва заметные черточки, а они-то в глазах женщины решающие. Конечно, их должно быть не так уж много, чтобы лицо или фигура не казались уродливыми, они скорее играют роль еле уловимых контрастных штрихов, чтобы взгляд мог на них передохнуть и набраться новых сил для дальнейшего созерцания красоты. В этом отличие безупречного, но однообразно «красивого» лица какого-нибудь Тайрона Пауэра от слегка асимметричных, но волнующе привлекательных черт Берта Ланкастера[96]96
Переутомления (франц.).
[Закрыть]. Вспомнив рядом этих двух актеров, Глория подумала, что сама-то она исключение: ей не нравился ни один, ни другой. «Ах, профессор, я вас не заметила, вы меня испугали», – сказала она, и с этого мгновения уже не могла рассматривать понравившийся ей рисунок. «Можно вас пригласить на чашку кофе?» – сказал он, и ответом могло быть только согласие, потому что уже в ту пору вопросительный тон в обращении Будиньо означал просто уважение к собеседнику. Он и мысли не допускал, что кто-то может быть настолько бестактным, чтобы ему отказать. А кафе это было старенькое «Тупи», напротив театра «Солис». Она отчетливо помнит, что, когда они входили, твердые его шаги по ветхому деревянному полу звучали гораздо громче, чем ее шаги, всегда мягкие, легкие, пружинящие, а в тот вечер еще и приглушенные каучуковыми подошвами. «Что вы читаете?» – поинтересовался он и, не спрашивая разрешения, взял со стола две ее книги, кивком одобрил Валье Инклана и пренебрежительно фыркнул на Панаита Истрати. И тогда-то случилось неожиданное, поворот руля, полностью преобразивший ее жизнь, или, вернее, удар топора, разрубивший ее жизнь надвое. Первый кусок – от четвертого декабря тысяча девятьсот двадцатого года до десятого сентября тысяча девятьсот тридцать девятого года. Он улыбнулся без горячности, без сомнений, без тревоги, положил обратно обе книги рядом с ее сумочкой и бесстрастным голосом, сразу огорошив ее внезапным «ты», сказал: «А знаешь, ты мне очень нравишься. Я был рад встретить тебя в Салоне, потому что уже несколько дней собираюсь спросить: хочешь быть моей любовницей?»
Еще и теперь, через двадцать два года, лицо в зеркале краснеет. Но в тот вечер в ее румянце совместилось многое: стыд, страх, ликование. Особенно – ликование. Потому что он на нее взглянул, предложил стать его подругой (по крайней мере в таком неточном и тенденциозном переводе она повторила его слова себе), обратился к ней на «ты», сидел тут рядом, ожидая ее ответа. «Профессор», – пролепетала она, и он придвинул к ее руке свою трогательно мохнатую, добрую руку и накрыл ею нежную, беззащитную, доверчивую руку Глории. И, ощущая тепло, которое шло от его руки прямо к ее бешено колотившемуся сердцу, ей оставалось лишь опустить голову и, уставившись на злосчастного Панаита Истрати, прошептать: «Я так счастлива, профессор». И когда она подняла глаза, он уже говорил ей с неколебимой уверенностью в совершившемся факте: «Зови меня Эдмундо. Конечно, не на факультете». Но она никогда не называла его иначе, как «профессор», и, пожалуй, только в этом проявила непослушание. Когда он в первый раз привел ее в меблированный номер и ласкал и целовал ее, не торопясь, почти целый час, а потом, улыбаясь и молча наслаждаясь ее стыдливым трепетом, раздел ее и снова стал ласкать и целовать, уже обнаженную – что было вторым этапом, – а затем взял ее осторожно, не насилуя, сознавая, что она испытывает боль (не душевную, а физическую), добровольно лишаясь девственности, и когда все кончилось и он заметил, что в этот первый раз она была поглощена своей болью и не успела получить наслаждение от приносимой ею жертвы, и он спросил: «Тебе очень больно?» – и она сказала: «Да, профессор», – он не мог удержаться от смеха при этом забавном пережитке усвоенного в аудитории почтения. Потом, много позже, когда удивление, напряженность и беспокойство уже исчезли, она все равно продолжала величать его «профессор», особенно когда они занимались любовью, и это слово осталось для них условным знаком, сообщником, надежным свидетелем.
Десять минут пятого. Он сказал, что придет в половине пятого. А он аккуратен. Пусть приходит. Все готово, кругом чистота, порядок. Глории осталось только выбрать себе ожерелье. Не слишком массивное, ему не нравятся громоздкие украшения. «Сними эту вычуру», – сказал он, когда кузины привезли ей из Испании ожерелье из кораллов и ажурного серебра. Лучше взять то, из кофейных зерен, которое он привез ей из Бразилии лет пять назад. Но тогда надо надеть другую блузку, голубой цвет и кофейный плохо сочетаются. Выглажена ли кремовая блузка? Да. Вот чудесно. Ее жизнь и впрямь раскололась на две части. Сколько мужчин пытались ухаживать за ней в эти годы? Да о чем тут думать. Она оставалась ему верна без особого усилия. Причем верна без надежды и взаимности-вначале потому, что у него были жена и дети и, конечно, другие, случайные, любовницы, а потом, когда он овдовел, потому, что он ни разу не намекнул на возможность брака. Связь их была всегда такой, как теперь: тайной, подпольной, никому не известной. А может, так лучше. Из двух сыновей Эдмундо один, Уго, был моложе ее, а другой, Рамон, всего на несколько лет старше. С Уго она никогда не встречалась, с Рамоном – два раза. Кто-то познакомил ее с ним в ресторане Риваса. Во второй раз он оказался ее соседом в самолете, летевшем в Буэнос-Айрес, – Рамон тогда не узнал ее или сделал вид, что не узнает. Нет, наверно, не притворялся. Во время полета они почти не разговаривали. Она достала сигарету, он поднес зажигалку. «Спасибо за огонек», – сказала она. И больше ни слова. Если бы он знал! Но никто не знает. Просто чудо, особенно если подумать, с какой быстротой распространяются сплетни в этой сугубо провинциальной столице без больших театральных зрелищ, людных кабаре, без модных, разрекламированных пороков. Подсвеченный фонтан в Парке Союзников – вот и вся наша ночная жизнь. Сплетня – главное здешнее развлечение, лучшее шоу для семейного круга. И однако никто не знает, никто никогда не знал. Он очень искусно умеет скрывать. А те, кто подозревает что-то, боятся копнуть глубже, не желая брать на себя страшную ответственность, что именно они обнаружили слабость у Эдмундо Будиньо, гордости нации. Разумеется, все видят, что в его жизни есть белые пятна, пропуски с многоточиями (как в документах), которые никто не в состоянии заполнить достойными доверия данными. Но никто и не решается на это.
С резким щелчком и приглушенным гудением возобновляет работу холодильник. Ах, надо же приготовить кубики льда. Когда он смакует виски, она всегда чувствует, что это у ее мужчины самая спокойная минута за целый день. Позади фабрика, позади газета, позади Партийный Клуб, позади глупые мальчишки, приходящие за оружием и газетной шумихой, позади покорный Хавьер, позади совестливый Рамон, позади подражающий Уго, позади весь внешний мир. Он рассказывает ей обо всем, разбирает в деталях главы, на которые разделился его день. Тут нет сомнений: он с нею откровенен. Потому что он ей рассказывает вещи некрасивые, грязные, гадкие. Словно знает, что ее любовь способна принять темную сторону его существа, эту сатанинскую область, которую он никогда никому полностью не открывает. Даже Рамону, в этом она тоже уверена. Потому что Рамону он показывает Эдмундо Будиньо более циничного, более темного, более агрессивного, более жестокого, чем он есть на деле. И кроме того, он Рамону не говорит ничего об их связи – ведь это (во всяком случае, так она понимает) было бы вроде признания, что он не всегда столь суров, неумолим, бесчеловечен, высокомерен. Нет, это невозможно. Глорию интригует такая тщательно лелеемая враждебность, в которой всякий день появляются новые штрихи, новые оттенки.
К тому же, к тому же… Глория улыбается, поправляя неэстетическую складку одеяла. К тому же, к тому же она владеет теперь еще одной тайной, самой ужасной. В шестьдесят восемь лет доктор Эдмундо Будиньо, один из самых влиятельных людей в национальной политике, самое могущественное имя во многих областях, утратил свою мощь в некоей скромной, но не лишенной значения области. Короче говоря, кончилась его сексуальная жизнь. Глория снова улыбается. Она вспоминает, как произошла первая осечка и он всегдашним своим уверенным тоном сказал: «Сегодня был ужасно трудный день. Отложим лучше на завтра». И она сказала: «Да, профессор», но тотчас пожалела о своих словах, потому что слова эти, имевшие для них обоих явный сексуальный смысл, прозвучали с иронией, которую она не хотела им придать, с насмешливым оттенком, получившимся непроизвольно, будто слова эти жили сами по себе и сами же придавали себе нужный тон. Ожидаемое «завтра» больше не пришло, и после четвертой неудачи поражение было официально признано, но он сумел представить это не как нечто постыдное, а чем-то вроде монумента себе. Половое бессилие превратилось в некое почетное отличие. «Никто больше меня не заслужил покоя в этом отношении, и в конце концов так даже лучше. Теперь у меня голова свободна, и я могу наводить порядок в нашем чудовищно хаотическом мире». При этом он забывал одну небольшую деталь – что его «заслуженный отдых» не обязательно должен совпадать с отдыхом для Глории, у которой половая жизнь не кончилась, забывал о той безделице, что шустрый, игривый бесенок, которого он умел в ней пробуждать, продолжал требовать свою пищу и свои игры. Но с тех пор прошло уже три года, а Глория все хранила ему верность.
Это калифорнийское кресло очень удобное. В нем так покойно сидеть. Один раз она едва не… Танцевала она редко. Но танго – дивный танец. Мужчина вел ее сдержанно, не слишком прижимая к себе. То было общение, исходившее из ритма. Ну словно они танцевали вместе с самого детства. Словно каждый знал все па, все выпады, все повороты другого. И прежде чем Глория узнала его имя, ее поразило это соответствие, или совпадение, или слаженность, или спаянность, которая позволяла ей предугадывать самые неожиданные и невероятные фигуры и следовать за партнером как тень, или как ритмический придаток, или как послушный карандаш пантографа. И вдруг она почувствовала, что она во власти этого незнакомца, потому что каждая клеточка ее кожи отвечала ему и каждое предчувствие нового па отдавалось в ней эхом наслаждения куда более острого, чем обычное удовольствие от танца, и все больше приближавшегося к конечному спазму, маячившему где-то в будущем. Она знала, что здесь не было ни духовного родства, ни общих воспоминаний, ни вспышек симпатии – ни одного из этих предвестников любви. Но также знала, что, если этот человек скажет ей: «Идем», она пойдет как автомат, как робот. Знала потому, что, когда они танцевали «Чарамуску», внезапный взлет флейты пронзил ее, как молния, при вспышке которой она увидела себя голой в объятиях этого человека, и это мгновенное, головокружительное видение так потрясло ее, что ей пришлось покрепче ухватиться за его шею и прошептать «Простите» – ей почудилось, что она сейчас упадет в обморок. Да, она была на грани этого, но ничего не случилось. Заслуга (или вина, как знать, подумала Глория) была не ее. После восьмого или девятого танго, когда бандеонист завершил последний аккорд «Ястреба» и она остановилась с легкой одышкой, но не от усталости, а от блаженной истомы, еще ошеломленная открывшейся ей силой ее реакций рядом с этим телом мужчины примерно одного с нею возраста, а не старше на двадцать семь лет, и мужчина посмотрел на нее долгим, спокойным взглядом и в глубине его темных зрачков она заметила мерцание робости и страха, у нее было мучительное ощущение, что она свидетельница какой-то давней трагедии, вопиющей ошибки судьбы. Но также ощущение, что и сама она жертва слепой стихии. И тут мужчина сказал: Прошу вас, извините меня», однако она была так одурманена бесплодным порывом, что лишь через несколько часов до нее дошли слова, которые тогда же прошептала ей на ухо оказавшаяся рядом подруга: «С каких это пор ты танцуешь с педерастами?»
Глория вытягивает ноги. Ее икры нравятся мужчинам. Сколько раз (в автобусе, в кафе, в театре, на лестнице) она видела, как их глаза с восхищением смотрели на эту округлую, точеную смуглую мышцу, некий символ или гарантию сексуального пыла. Той способности, которою она обязана одному лишь Эдмундо и которая ныне осталась без применения. И вчера, и позавчера, и десять месяцев назад один и тот же вопрос: «Справедливо ли это?» Однако в душе Глории живут табу ее круга. И все же у каждого табу есть свой противовес. И при их столкновении возникает смутный протест, понимание того, что он не ее муж, то есть не захотел быть ее мужем, даже тогда, когда мог и должен был им стать. И вывод: стоит ли и дальше хранить верность человеку, который не захотел быть ее мужем, а теперь уже и не любовник и вдобавок, когда 6ЫУ любовником, изменял ей сколько хотел и со многими женщинами, начиная от восторженной золотушной нимфы до франтихи с молитвенником и морфием? Чего уж тут, конечно, не стоит. Ответ настолько прост, что Глория делает гримасу, но в этой гримасе сквозит чуточка нежной жалости, еще теплящегося понимания. Он эгоист – кто в этом может сомневаться? Самый потрясающий эгоист в обширной области, расположенной между реками Кварейм и Ла-Плата, между рекой Уругвай и озером Лагоа-Мирин. Но именно это весьма существенно. Тот факт, что ты подруга некоего Номер Один, влечет за собою, при всех неизбежных огорчениях, и своего рода гордость. В течение двадцати лет я была любовницей Эдмундо Будиньо, отчетливо говорит себе Глория, хотя знает, что в действительности до двадцати лет не хватило нескольких месяцев. И я продолжаю быть наперсницей Эдмундо Будиньо, добавляет она. Жаль, конечно, что никто об этом не знает, но, без сомнения, это некая честь. Во всем городе, во всей стране нет никого (точно ли нет?), кто, как она, принимал бы могущественного человека у себя дома и слушал бы его долгие излияния. Сколько бы дали газетчики, фотографы, телевизионщики, депутаты оппозиции, чтобы слышать и видеть то, что она ежедневно слышит и видит? Вот сейчас, через несколько минут, Будиньо явится, утомленно вздохнет, поцелует ее в щеку, снимет пиджак, сменит туфли на шлепанцы, вымоет руки и лицо, вернется в комнату и, усевшись в плетеном кресле, возьмет стакан виски с двумя кубиками льда и на три пальца содовой, рассеянно спросит: «Как провела время?» – и примется выкладывать накопившиеся за день проблемы. Возможно, он, продолжая тему вчерашнего монолога, скажет: «Как по-твоему, могу я не презирать людей, если они принимают меня такого, какой я есть? С самого начала у меня был страшный соблазн: хотелось их обманывать, надувать. Но, конечно, с твердым намерением при первой же тревоге, при первом симптоме, что их чувствительность затронута, отступить без колебаний. Больше тебе скажу: в юности я думал, что надо узнать, где дно этой страны, потому что лишь тогда, когда нащупаешь подлинное дно, можно найти точку опоры. И я начал зондировать. Выдал им ложь – и не достиг дна; издевку – и не достиг дна; бессовестный подлог – никаких признаков; плутовскую проделку – тоже ничего; финансовое жульничество – ничуть не бывало; бессовестный подлог-никакого намека; принуждение, насилие, шантаж – нулевая реакция; теперь я раздаю оружие маменькиным сынкам, разжигаю кампании клеветы. Но, должен тебе признаться, мне скучно. Неужели у этой страны нет дна? Мне приносят весть о неминуемом взрыве, настолько сокрушительном, что он, мол, снесет головы всем моим марионеткам. Я думаю: вот оно, теперь наступит. Ничего подобного. Всегда находится кто-то, кого можно купить, или у кого не хватает стойкости, или такой, что только пыхнет сигаретой да пожмет плечами. Они не знают, какое зло мне причинили. Потому что я упрям, я задумал найти их дно и, в этих поисках сам морально опустился. Теперь, если я даже нащупаю дно, оно, думаю, меня не остановит. Чувствую, что я сам изнутри прогнил».
Когда он дойдет до этого, Глория придвинется к нему и погладит по голове. Волосы у него упругие, почти как двадцать лет назад. Родинка на скуле не увеличилась. Щеки хорошо выбриты и все так же гладки. «Взять хоть моих сыновей», – наверно, скажет он потом, это одна из его любимых тем. «Ну что прикажешь делать с Уго? Меня от него трясет. Дурень старается мне подражать. С его-то способностями! У него изумительная женушка, а он ее забросил. Он получил диплом бухгалтера, потому что я чуть не на носилках доставил его к экзаменационному столу. И теперь, когда у него есть специальность, я ему подставляю на его чахлой работенке самые лучшие костыли – мои связи. Он думает, что надбавки к жалованью ему дают за прекрасные глаза. Как бы не так. Другой, Рамон, совсем на него не похож. У Рамона ясный взгляд на жизнь, он умен – еще когда был малышом, его живые глазенки все схватывали. Поэтому за него мне еще больнее. Он отказался от карьеры, но это меня не волнует. Играет в левизну и убежден, что он левый. Я дал ему деньги, чтобы он открыл туристическое агентство, с тайной надеждой, что он откажется. Но он деньги взял. Представляешь? Вместо того чтобы сказать мне; Старик, идите с вашими деньгами куда подальше, я хочу начать с нуля, своими силами, своим умом, и никаких. Теперь, если ему случится узнать, что я обделываю с Молиной грязные дела, неужели у него хватит мужества возмутиться и решительно мне сказать: Старик, вы свинья, и я знать вас больше не желаю? Нет, он этого не скажет. Он не знает, как бы я его расцеловал. Нет, вместо этого он наверняка испугается и придет меня умолять, чтобы я не встревал в эту грязь, но не потому, что грязь есть грязь, а чтобы не пятнать наше имя. Какая еще грязь может замарать имя Будиньо сверх той, которой я его покрыл с одобрения всего народа, того самого народа, что мне в наказание превратил меня чуть ли не в основателя нации? О, он, конечно, сказал бы, что надо подумать об Уго, о Густаво, о Сусанне, обо всех. Естественно. Но единственный, о ком он не вспомнит, – это обо мне, о том, что я его отец и что я негодяй. Это его не тревожит. Я в его присутствии принимаю у себя нахалов, которых мне рекомендует посольство, сую им оружие и даю самые гнусные советы, какие только могу придумать, а он, героически подавляя тошноту, подает руку этим кретинам, вместо того чтобы выставить их пинками. На семейных сборищах он жадно смотрит на Долли, но я уверен, что он никогда не решится с ней заговорить, прикоснуться, переспать с ней. Растяпа, вот он кто. Растяпа и трус. И в результате он меня ненавидит. Ненавидит настолько, что хотел бы видеть меня мертвым, и я убежден, что заветная его мечта – как-нибудь меня убить. Но у него никогда не хватит духу совершить это. Он не способен комара убить, а в этом мире надо уметь убивать кое-кого покрупнее комара. Теперь между ним и мною мира быть не может. С того момента, как он взял у меня деньги для агентства, все кончилось. Теперь он меня будет все больше ненавидеть. А я его все больше презирать. Отныне он мог бы себя спасти в моем мнении, лишь если бы решился раз и навсегда покончить со мной. Б ту секунду, когда он наведет на меня револьвер, в самый миг вспышки я бы его полюбил и простил. Заметь, это было бы спасением для нас обоих. Потому что мне постыло жить так, и в иные дни я чувствую, что изнемогаю. Но теперь я уже не могу себе позволить слабости. Теперь бесполезно раскаиваться и начинать сызнова. Когда я решил быть тем, кто я есть, я это сделал вполне сознательно. Чего уж тут говорить: я сожалею, я заблуждался, я прошу прощения у общества, у своей семьи и у казны. Ты скажешь: а совесть? Не думай, я тоже задаю себе такой вопрос. Разница та, что ты задаешь его мне, а я – призраку, именуемому богом. А совесть? – спрашиваю я у него. Но мой вопрос – вроде рекламации, знаешь, когда идешь в магазин протестовать, что тебе продали товар и чего-то недодали, А совесть? Вот что самое ужасное. У меня ее нет. Или, если она есть, я ее никогда не замечал».








