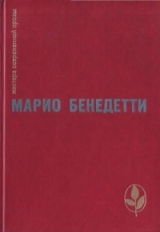
Текст книги "Спасибо за огонек"
Автор книги: Марио Бенедетти
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц)
– Спасибо, тетя.
– Но так же откровенно скажу тебе, что твой отец совсем другое дело. Он человек с большой буквы. Понимаешь? Но это не означает, что ты хуже его или лучше, это просто означает, что ты славный человечек с маленькой буквы. Таких, как он, теперь нет людей. Таких надежных, таких изящных, таких приветливых, таких сильных, таких жизнерадостных.
– Черт побери, тетя.
– Мне так приятно говорить с тобой и особенно приятно, что ты не забываешь меня. Знаешь, я тебе так благодарна за предложение прогуляться, будто и в самом деле пошла с тобой. Но я предпочитаю посидеть дома. Надо одеваться, причесываться и все прочее. Из-за ревматизма это для меня ужасно трудно. При том что теперь мне гораздо лучше благодаря кортизону. А как твоя жена?
– Ничего, здорова. Она не передала вам привета, потому что, когда я с ней завтракал сегодня утром, я еще сам не знал, что пойду к вам.
– Твоя жена – чудо. А Густаво как?
– Не видел его со вчерашнего дня. Готовится к истории. Литературу сдал на три…
– Я знаю. Сусанна мне звонила.
– Ну, тетя, я пошел. Рад был видеть вас такой красивой.
– Ты восхитителен, Рамон.
Зря я отдал машину в ремонт. Привод сцепления еще недельку бы поработал. Ехать в автобусе слишком жарко, особенно стоя от перекрестка улиц Восьмого Октября и Гарибальди. А если отправиться домой? Уверен, что работа над программой «Путешествие-Источник-Радости» будет идти и без моего надзора.
– Вы свободны? В Пунта-Горда. Можете проехать по Анадору, Пропиос, Рамбле.
Ох, как я устал. Оттого, конечно, что ничего не успел. Что там знает тетя Ольга. Мне больно, сказала Мама за четыре часа до смерти. Она была так слаба, так истощена. То был единственный раз, когда я по-настоящему был с ней близок. Долгие годы звучал в моем мозгу неумолчно, неотступно, мучительно этот голос: я не могу, Эдмундо, не могу. Мне казалось, что открыться ей было бы почти то же, что пройти в дверь и увидеть их, голых, борющихся, увидеть, как Старик ее бьет. Целую неделю она ходила в темных очках. Она подала, нет, подает мне руку. Иссохшую руку, одни кости. И как раз когда я ее обрел, она от меня ушла. Мама, меня пеленавшая. Мама, надевавшая на меня три пары чулок, потому что ноги у меня были как две палочки и ей было стыдно моего стыда. Мама, готовившая мне каждую субботу флан[81]81
Сладкое блюдо из желтков, молока и сахара.
[Закрыть] и с гордостью говорившая о моем зверском аппетите. Мама, полная молчаливого сочувствия, когда Старик называл меня тупицей или еще похуже. Ее глаза смотрят на меня из темных глубин. Они не спрашивают, они все знают. Они просто говорят. Я знаю, что она любит меня, может быть, даже сильнее, чем Уго, но с этой ужасной болезнью в животе какие надежды могу я возлагать на ее любовь? С этими рвущими плоть щипцами внутри могу ли я требовать, чтобы она помнила обо мне и любила меня? С этим адом. Да, и она тоже смотрит поверх моего плеча, смотрит на Старика. Но это не тот взгляд, что у Густаво. Во всяком случае, когда Старик уходит, в ее глазах появляется блеск – правда, очень слабый, такой жалкий огонек в глубине ее глаз. Я не могу защитить ее, а она говорит: мне больно. Выходит, от моей любви нет никакого проку. А если говорить начистоту – какой прок от бога? Вот проходят передо мной дни и недели, когда я ее не видел, вечера, когда я без причины где-то пропадал, вечера, когда она меня ждала ужинать, а я не приходил, все те минуты, когда мне хотелось ее обнять и я сдерживал себя. Да, теперь уже поздно, и незачем перебирать воспоминания. Нет смысла самому загонять себя в угол. Почему я чувствую себя таким опустошенным, обездоленным, не способным воспрянуть духом? Ах, Мама, бедная, милая Мама, неужто она вбила себе в голову, что должна умереть вот так, сразу? А я? Что со мной происходит? Мама, у меня нет слов, нет объяснений, нет оправданий, мне нечего сказать. Зато она сказала: мне больно. И ее боль, пронзая меня, вселяет страшную неуверенность. Наверно, это еще одно поражение, в ряду многих других, но в этом случае – Мое Поражение, потому что, когда Мама безнадежно закрывает глаза и шевелит губами и они кривятся в вечно непокорной судороге страдания, я чувствую, что во мне тоже что-то кривится, складываясь в такую же непокорную гримасу, судорожный протест против Небытия, ибо Бог, и Судьба, и Диалектический Материализм – это всего лишь лозунги, брошенные Авраамом, и Шпенглером, и Марксом не для того, чтобы нас формировать, трансформировать или реформировать, но для того, чтобы заставить нас забыть о единственно разумных и обязательных целях, например о самоубийстве или безумии. Теперь мне самому приходят на ум эти возможности, и я наияснейшим образом вижу мрак в себе, но я слишком хорошо знаю – ведь это уже не в первый раз, – что немного погодя я тоже все позабуду и поверю, что стоит жить и быть благоразумным. Такой же мираж, как многие другие. Мама говорит: мне больно. Но почему у нее потребность говорить это? Сказала бы она это, не будь меня здесь, не стой я здесь на коленях на ковре, прижавшись щекою к ее бессильной руке? Сказала бы она это, будь она наедине со Стариком, или с тетей Ольгой, или с Уго? Быть может, последним проблеском ее любви, последним пробившимся из полузабытья, в промежутке между убийственными болеутоляющими, было сознание, что я ее слышу? Она уже не выздоровеет, и я также, ведь смерть – это вторая плацента, объединяющая нас, подобно тому как жизнь была первой плацентой. И было бы полуправдой сказать, что только она испытывает боль: отражение ее боли – во мне, вроде того, когда болен желудок, то и сердце из-за него не может накачивать кровь как надо. И такое чувство у меня только по отношению к ней, и оно не исчезло бы, даже если бы она смотрела на меня с ненавистью или равнодушием. Не случайно Ребенка и Отца объединяет не плацента, не пуповина, а только неуловимый, микроскопический, блуждающий без цели сперматозоид, который случайно превратился в меня, а мог бы с таким же успехом отклониться куда-нибудь и вовсе исчезнуть. И если бы даже Старик не взглянул на меня, лишь чтобы сказать: тупица или еще похуже, если бы он не ухмылялся в душе, напоминая ничтожному Хавьеру, что «в конце концов» я его сын, тут все равно не будет плаценты ни в жизни, ни в смерти. В лучшем случае – а о таком здесь говорить не приходится – могло бы возникнуть душевное общение, дружба вроде той, что связывает меня с лучшим из моих друзей – а кстати, кто лучший? – пожизненная гарантия, что «даешь и получаешь», молчаливая солидарность в борьбе с постыдным, ужасным сознанием, что ты живешь, некое непринужденное равноправие. И даже это было бы неплохо. Думаю о такой немыслимой вещи без тени самодовольства – ведь и я в роли отца не сумел этого добиться. Между Густаво и мною нет ни враждебности, ни взаимных обид или разочарований, а просто чудовищное отчуждение, как если бы мы жили на разных этажах или же кто-нибудь взял на себя труд записать мои мысли в скрипичном ключе, а его мысли – в басовом. И вдруг рука Мамы вонзилась, нет, вонзается ногтями мне в щеку и тотчас сползает, будто желая загладить ссадины или стереть кровь. Но это всего лишь «будто». Движение ее непроизвольно, это смерть. И я издаю два вопля. В одном удивление и собственная поверхностная, кожная боль, в другом ужасная уверенность, бесполезное «прости», ребяческий страх. Пятое ноября. Вспомнил бы я этот день, секунда за секундой, миллиметр за миллиметром, как человек, рассматривающий поры кожи в сильнейшую лупу, если бы она этим последним движением не ранила меня? Кто меня убедит, что то не был поспешный, отчаянный, последний знак любви? «Ча-ча-ча, какая прелесть ча-ча-ча».
– Прошу вас, не могли бы вы выключить радио? Когда доедем до Риверы, поверните налево. В эти часы Рамбла забита машинами, лучше мы ее объедем.
– Папа, тебя ждет дядя Уго.
– А ты куда идешь?
– К Мариано. Скажи маме, что я вернусь поздно. Чао.
Чего надо Уго? Мне ни разу не довелось поговорить с ним откровенно, без напряжения. Какой должна быть примерная братская беседа? Жаль, что для нее нет кодекса правил.
– Здравствуй, Уго.
– Здравствуй.
– Что случилось?
– Хочешь послушать кое-что любопытное? У тебя здесь есть магнитофон?
– Да, есть.
– Так вот, поставь эту кассету.
– Cool jazz?[82]82
Вид джаза с изысканным ритмом и импровизацией.
[Закрыть] Астор Пьяццола?
– Нет, это Старик.
– Что?
– Вчера Риера дал мне эту ленту, полагая, что тут сообщения Старика о показателях производства. Но пометка на кассете была неверной. Ужасная ошибка. Там два голоса. Один Старика, другой некоего Вильяльбы. Похоже, конец какого-то их разговора.
– В редакции газеты?
– Нет, на фабрике.
– Давай сюда.
– Закрой дверь. Я не хочу, чтобы Сусанна слышала.
– Ладно. Теперь помолчи.
– Однако вам было бы легко найти приемлемое решение.
– Я этот вопрос обсуждать не желаю. Мне ясно, что забастовка была задумана на собраниях, созванных тремя служащими администрации.
– Одним из них был я, если вы это хотели узнать.
– Так я и думал, но меня не это интересует. Вы теперь почти хозяин, так что забастовкам конец.
– Вот как?
– Что до двух других, у меня есть кое-какие догадки. Я получал сообщения, анонимные письма с указанием тех или иных имен. В итоге доносчики называют имен десять-двенадцать. Конечно, все они на подозрении. Но я бы не хотел совершать новых несправедливостей.
– Конкретнее, что вам угодно?
– Конкретнее – и я думаю, просьба моя не так уж велика, – я бы предпочел, чтобы вы назвали мне эти два имени. Я вам доверяю. Я знаю, что вы мне не солжете.
– Чтобы их наказать?
– В принципе – да. Мне не хотелось бы причинить неприятности десяти или двенадцати, среди которых были бы люди ни в чем не повинные.
– Послушайте, за кого вы меня принимаете?
– Потише.
– Нет, за кого вы меня принимаете?
– Потише.
– Вы думаете, что за несколько паршивых песо?..
– Скажем, прибавка пятьсот в месяц.
– И вы думаете, что за несколько паршивых песо прибавки, или чего там еще, я погублю двух друзей, двух славных парней, преступление которых лишь в том, что они вас, сеньор, лишили вашей двухмесячной грязной прибыли? Понимаю, деньги у вас есть, и немало. Так вложите их во что-нибудь другое, сеньор.
– Стало быть…
– Стало быть – что?
– Стало быть, вы верите в слова с большой буквы, во всякую там солидарность?
– А вы – нет?
– Слушайте, Вильяльба, я вижу, вы решили со мной порвать. Так у меня есть средства заткнуть вам рот.
– Да, понимаю. Все имеет свою цену. Так, что ли?
– А вы – нет? Что ж, с тем вас и поздравляю. Но пока вам, следует поздравить меня с отличной разведывательной службой. Мне уже давно известно, кто эти три славных парня: вы, Санчес и Лаброкка.
– Ну, и дальше что?
– Дальше – я люблю испытывать людей, люблю смотреть, как деньги душат слова. Ну, например, слово «солидарность». Видите это письмо? Знаете, что в нем? Нет? Это заявление, подписанное Санчесом и Лаброккой, в котором они называют вас главным подстрекателем к забастовке.
– Кто вам поверит?
– Да вы же. Вы знаете почерк Санчеса и Лаброкки? Ну так смотрите получше. Что теперь вы скажете об этих славных парнях? А если бы вы знали, как дешево это обошлось! Ну? Что скажете?
– Ничего.
– Бросьте, не пытайтесь меня убедить, будто вы их оправдываете.
– Нет, я их не оправдываю. Но знаете что? В этих обстоятельствах я чувствую себя сильным. Однако я допускаю, что чувствовать себя сильным смог бы лишь до известного предела. Они оказались слабее, чем я. Тем хуже для них. И больше ничего. Вам ясно? Три человека могут быть верны друг другу в спокойное время, в пору энтузиазма. Однако один из них может стать предателем от простого удара кулаком в живот; другой, более стойкий, только когда ему станут вырывать ногти; третий, самый героический, только когда ему начнут прижигать мошонку. На термометре верности для каждого есть точка кипения, когда человек способен выдать родную мать.
– Не заходите в своей теории так далеко. Я им предложил всего по четыреста песо каждому.
– Вот видите, даже удара в живот не пришлось наносить, и вы добились двух предательств.
– Во всяком случае, мое предложение остается в силе.
– Меня это не удивляет.
– Полагаю, у вас нет причин быть чрезмерно щепетильным. Они-то не были щепетильны.
– Ну ясно. Вы легко обнаружили их точку кипения.
– Тогда – договорились?
– Нет. Этого не будет. Величайшее зло, какое вы могли бы мне причинить, – это вызвать во мне отвращение к самому себе. И боюсь, что, если вы будете и дальше повышать свою цену, сулить мне роскошь, комфорт и власть, сопряженные с деньгами, я в конце концов уступлю, потому что, возможно, в душе я неженка, честолюбец, – и это было бы мерзко. Я достаточно хорошо знаю себя и уверен, что стал бы самому себе противен.
– Но почему? Быть честолюбивым не так уж плохо.
– Конечно, нет.
– Любить удобства тоже неплохо.
– Разумеется, нет. А знаете, что действительно плохо?
– Нет.
– Быть сукиным сыном вроде вас, сеньор.
Недурно, недурно.
– Почему ты молчишь, Рамон?
– Я думаю.
Недурно, недурно.
– Ну-ка, поставь еще самый конец.
– …статочно хорошо знаю себя и уверен, что стол бы самому себе противен.
– Но почему? Быть честолюбивым не так уж плохо.
– Конечно, нет.
– Любить удобства тоже неплохо.
– Разумеется, нет. А знаете, что действительно плохо?
– Нет.
– Быть сукиным сыном вроде вас, сеньор.
Недурно, недурно.
– Ну а потом что было с этим человеком?
– Я узнавал у Моралеса. Как будто он хлопнул дверью, собрал свои вещи и ушел. Было это четыре дня тому назад. Ну, что ты скажешь?
– Прежде всего один вопрос: зачем тебе надо было, чтобы я прослушал эту запись?
– Затем, что мы должны принять какое-то решение.
– Решение, по сути, уже принято Вильяльбой. Ты не согласен?
– О том-то и речь, надо не допустить, чтобы он ушел.
– Я тебя не узнаю, Уго. Надеюсь, ты не хочешь, чтобы его назначили управляющим?
– Я хочу, чтобы он не ушел вот так. Я хочу, чтобы ты убедил Старика уволить его.
– Чтобы я убедил Старика? Ну, Уго, ты спятил. Старика никто ни в чем не может убедить, особенно если это связано с выплатой компенсации за увольнение.
– Все же лучше уплатить компенсацию за шесть месяцев, чем оставаться с пятном позора, что какой-то мерзавец оскорбил Старика.
– Хочешь, я скажу тебе мое мнение? Я не думаю, что он мерзавец. Скорее я сказал бы, что это стойкий парень.
– Только этого не хватало. Мы друг друга не понимаем, Рамон.
– Это верно. Не понимаем.
Недурно, ей-богу недурно. Но почему же этот парень сумел ему воспротивиться, а я не могу? Иногда я собираюсь, даже сочиняю речь, нечто вроде декларации моей независимости, и однако, стоит мне его увидеть, все мои слова разлетаются, доводы исчезают или, если я даже их помню, пропадает убежденность, точно я заранее знаю, что он глянет на меня, улыбнется, затянется сигарой, выпустит мне в лицо клуб вонючего дыма, а потом раскроет рот и начнет говорить, говорить с гневом, с ненавистной мне уверенностью в своей силе, подавляя меня своим авторитетом, своим превосходством, своим красноречием, тем, что он сознает или по крайней мере верит, что стоит бесконечно выше, чем его окружение, его подчиненные, его враги, его недруги, его сыновья, его прошлое, то есть выше всего-всего, за исключением его собственного будущего.
– Что ж, Рамон, тогда нам больше не о чем говорить. Я сам побеседую со Стариком.
– Это твое дело. Забери кассету.
– Привет Сусанне и Густаво. Чао.
– Чао. Привет Долли.
Он ее недостоин, уж в этом сомнений нет. Но кто достоин Долли? Месяца два прошло, как я ее не видел. Тем лучше. Мне ее видеть вредно. Скажу ли ей это когда-нибудь? Не думаю. Уго – мой брат. Долли, любимая. Уго – мой брат. Долли, любимая. Если бы я мог на минутку, хоть на одну минутку заглянуть в ее голову, нет, лучше в ее сердце, если бы я мог узнать, что она обо мне думает. Мой деверь Рамон, не более того. И все же два-три раза я заметил, что она смотрит на меня с нежностью. Между свойственниками тоже возможна нежность с дозволения Святой Матери-Церкви. Но иногда мне казалось, что она смотрит на меня с нежностью, Святой Матерью-Церковью не дозволенной. Уго – мой брат. Но какой вертопрах. Долли, любимая. Кажется, это было в ресторане Мендеса. Да, точно, в ресторане Мендеса. Встречали все вместе Новый год. И вдруг она и я очутились одни на длинном балконе, и рядом, на столике, бокалы с шампанским. Оставалось пятнадцать минут до первого января тысяча девятьсот пятьдесят седьмого года. Уго танцует cheek-to-cheek[83]83
Щека к щеке (англ.).
[Закрыть] с Маринес. Они скрылись, нет, скрываются в соседней комнате. Мы с тобой никогда не разговаривали, сказала Долли. У меня набухает ком в горле. Да, никогда, и это жаль, потому что мне очень приятно говорить с тобой. Как твои дела в последнее время? В каком смысле, Долли? Ты имеешь в виду агентство? Нет, я знаю, что там у тебя все в порядке. Тогда Сусанну? Нет, я полагаю, что в этом смысле у тебя нет проблем. Не очень-то полагай. Я имела в виду твоего отца. Моего отца? Да, Рамон, когда я вижу вас вместе, мне всегда кажется, что сейчас что-то взорвется. Твой радар, Долли, работает великолепно. Но ведь это тебя убивает, Рамон, прости, что я это тебе говорю. Не только прощаю, но благодарю. Пойми, Рамон, из вас двоих страдаешь только ты, твоего отца это ничуть не трогает. Я слишком хорошо это знаю. Ну и что дальше? Есть нечто сильнее меня. Но не сильнее его. Долли. Что, Рамон? Мне кажется, ты не очень-то любишь Старика. Но… Не красней, а то ты становишься чересчур хорошенькой. Но… Я тебя понимаю, Долли, понимаю настолько, чтобы доверить тебе одну тайну: я тоже его не люблю. Но… Молчи, не говори больше ни слова, не порть последнюю минуту тысяча девятьсот пятьдесят шестого года, после того как ты доставила мне величайшую радость в этом году. Я? Ты не знаешь, каково это – всегда быть в окружении людей, которые говорят тебе: Ах, Доктор, Какой Необыкновенный Человек, Вы Счастливчик, Рамон, Что У Вас Такой Отец; клянусь тебе, я к нему не испытываю ни зависти, ни обиды, ни ревности; я просто его чуточку ненавижу. Ради бога, Рамон, не говори такого. Предупреждаю, если ты опять закроешь мне рот рукой, я ее поцелую. Так поступают кавалеры, да? Да нет, тут поцелуй будет в ладошку. Мне хочется, чтобы ты опять сказал какую-нибудь чепуху, чтобы вот так опять закрыть тебе рот. И чтобы я. Счастливого Нового года, поздравляю, Рамон и Долли, идите сюда. Где тут моя женушка? Счастливого Нового года, Уго. А где Сусанна? Пойду поищу. Сусанна. Где Сусанна? Бедная Сусанна. Сусанну тошнит, нет, стошнило в ванной, она там отдала новоиспеченному тысяча девятьсот пятьдесят седьмому году свой последний глоток тысяча девятьсот пятьдесят шестого. Чтобы вот так опять закрыть тебе рот, сказала тогда Долли. А дальше? Не знаю. Уго – мой брат. Долли, любимая.
5
– Ах, как хорошо, что вы пришли, сеньор Будиньо. Вас ждут человек десять. Доктор Меса. Два кандидата в гиды, рекомендованные советником. Сеньорита Coyто. Господин из ЮСИА[84]84
ЮСИА – Информационное агентство США.
[Закрыть], который как-то уже приходил. Служащий из типографии. Переводчик, тот венесуэлец. Педроса, хозяин автобусного парка. И еще молодой человек из Клуба, он хочет, чтобы мы ему раздобыли рекламы из Токио для boutique[85]85
Магазинчик (франц.).
[Закрыть], который он собирается открыть вместе со своей теткой.
Секретарша роскошная, пышнотелая и так далее. Сегодня она без серебряного фунта стерлингов, так что видимость значительно улучшилась.
– Сеньорита, ради бога, я ведь уже говорил вам – вы должны служить мне фильтром. Не могу же я убивать целые часы на всяких остолопов. Насчет этой дурацкой рекламы, дайте ему рекламу Пириаполиса[86]86
Пириаполис-курортный город в Уругвае (департамент Мальдонадо).
[Закрыть], а не понравится, пусть проваливает к черту. Пригласите доктора Месу, а всех прочих направьте к сеньору Абелье. Мой брат не звонил?
– Сеньор Уго?
У меня только один брат, дуреха.
– Ну да, сеньорита, мой брат Уго.
– Нет, сеньор Будиньо, не звонил. Зато звонила супруга.
– Супруга моего брата?
– Нет, сеньора Сусанна.
– А-а.
– Просила предупредить вас, что идет в парикмахерскую.
– Хорошо.
– Очень рад, доктор Меса. Отец говорил мне о вас. Так что я к вашим услугам. Говорите, что вас интересует.
Подумать только, что он подставное лицо секретаря, который обделывает темные делишки с компаньоном Старика. Дальний родственник. Кажется, троюродный брат.
– Ну конечно, доктор, конечно.
Дам тебе круиз с музеями.
– Естественно, доктор, все главные музеи: Прадо, Пинакотека, Пергамон, Галерея Уффици, Капитолийские музеи, Альбертина, дом Рембрандта, Британский музей и, разумеется, Лувр.
Я попал в точку, старикашка. Ты думал, я забуду про Париж, а тебе хочется побольше Лидо[87]87
Лидо – остров вблизи Венеции. Курортное место.
[Закрыть] и поменьше Лувра.
– Давайте, доктор Меса, не будем сегодня говорить о стоимости, это всегда малоприятная сторона дела… Но естественно, доктор, раз вас рекомендует секретарь Фагги, большой друг отца, вы получите все самое лучшее и на самых льготных условиях…
Отъезд можно назначить… ну, например, на двадцать второе мая, если, конечно, вы предпочитаете самолетом… Ах пароходом, это меняет дело. Ну да, как отдых это идеально… Самолет наилучший способ, когда вас поджимает фактор времени, когда срочность дел вынуждает вас превратить дни в часы.
Эта фраза вылетает у меня непроизвольно, как «будьте здоровы», когда кто-то чихнет.
– Заметьте, доктор Меса, что в нынешнее время на турбореактивном самолете вы на перелет отсюда в Европу можете потратить меньше часов, чем у вас уйдет дней на плавание по морю. Нечто сногсшибательное. Но морем, о да, снятие нервного напряжения, лечение покоем, освобождение от забот, тонизация и, так сказать, общее обновление организма, да, я всем советую пароход. Поедете один? Понимаю, понимаю, поедет еще только одна приятельница, ага. Разумеется, доктор, всегда приятней путешествовать в хорошей компании. Записываю вас. Желательно двухместная каюта. Паспорт принесли? А паспорт сеньориты? Прекрасно, моя секретарша запишет ваши данные, а уж я позабочусь, чтобы вы остались довольны, очень рад, доктор Меса, всегда к вашим услугам.
Три часа. «Биг Бен»[88]88
«Биг Бен» (англ. Big Ben – «Большой Бен») – башенные часы на здании английского парламента.
[Закрыть] в столовой страшно меня раздражает на рассвете. А таблетки принимать не хочу. Предпочитаю бессонницу. К тому же мне нравится вспоминать, вспоминать. Почему это почти всегда, когда рано проснусь, появляется то воспоминание, о первом разе? Наверно, оставило во мне след. Росарио. Но без всякой тоски. Спокойное море на закате, гладкое, как блюдо. Позади нас деревья. Почти все вечера мы играли в лапту. Портесуэло[89]89
Курортный городок в департаменте Мальдонадо.
[Закрыть] для этого идеальное место. Мне семнадцать лет. Нынешний возраст Густаво. Бывал ли уже Густаво с женщиной? Еще бы. Несомненно. Думаю, с какой-нибудь из своих подружек. Не случайно он смотрит на них без чрезмерной жадности. Вероятно, этим он себя успокаивает. Росарио жила в гостинице Сеспедеса. Я – у Портелы. Море как блюдо, и позади нас высоченные деревья. Ни один листок не шевелился. Пройдемся немного? Ладно, сказала она, мне нравится ступать по сухим веточкам. От сосен шел такой приятный запах. В то время дачных шале было не так уж много. И в некоторых местах деревья росли довольно густо. Можно было спрятаться от всех, от всего мира. К тому же мир был далеко. Там, где виднелись, нет, где виднеются огоньки. Чуточка страха – это всегда неплохо. Она дает мне руку. Наши купальники высохли, и нам ничуть не холодно, хотя уже вечер. Я остро сознаю, что мы оба почти голые, особенно что она почти голая. Какие ноги. Становится все темней. А там, вдали, мир, музыка патефонов, слышится танго. Давай присядем, говорю я. Такая удобная ложбинка меж двух кустов. Даже есть что-то вроде крыши. Ты боишься? Нет. Я вдруг подумал, что кожа у нее, наверно, соленая. И у меня тоже. Волоски на моем предплечье слиплись от высохшей соли, будто склеенные. Внезапно я замечаю у Росарио нечто, от чего у меня все внутри переворачивается. Из-под купальных трусиков виднеются несколько завитков, тоже прилипших к внутренней поверхности бедра. Я не могу слова вымолвить. Она понимает, что я увидел, и тоже смущена, тоже чего-то ждет. Я ее обнимаю. Мои еще неопытные руки делают это неумело. Сперва, конечно, груди. Они выскальзывают из купальника, будто удирают из тюрьмы. Она улыбается. Бог мой, как она улыбается. Округлые, такие упругие. Это осязательное ощущение никогда у меня не исчезнет. Я до сих пор их чувствую. И они действительно были соленые. Вся она была соленая. Прелесть этого сближения в том, что мы оба так неопытны. Мы делаем много такого, о чем впоследствии узнали, что это весьма нецеломудренно. Но зато так естественно. Так как мы не знаем, что по правилам в первый раз должны быть поспешность, неожиданность, насилие, у нас вступление долгое и упоительное. Как прекрасно учиться у того, кто сам не знает. Ей, Росарио, неизвестно, что в первый раз она должна сопротивляться, выказать страх и стыд, и она делает все с радостью, которая ее озаряет, и мне уже никогда не испытать такого наслаждения от этих столь древних и столь новых ласк. Все в нашем полном распоряжении. Мы понятия не имеем, что порочно, а что дозволено ханжеской моралью. Мы – По Ту Сторону Добра И Зла. Просто все чудесно, изумительно. И так хорошо, что я знать не знаю, какова Росарио интеллектуальная, Росарио социологическая, Росарио экономическая, Росарио философская, а может быть, в семнадцать лет ничего этого в человеке еще нет. Она тоже меня не спрашивала. Ни о чем, столь важном для того, что зовется истинным общением душ и тел. Мы попросту были ее тело и мое тело и наша обоюдная радость. И однако ни одна из моих последующих любовных встреч не была такой идеальной, как эта, в которой мы не соблюдали правил идеального соединения. Возможно, что, повторяй мы это годами, мы неизбежно пришли бы к какому-то виду взаимной холодности, но Росарио и я совершили это всего три раза в один и тот же январский вечер, и, как ни невероятно, лучшим из трех был первый. Идеал. И она даже не забеременела. Чего еще желать? Быть может, секрет той полноты ощущений состоял в том, что тут было что-то от игры, от веселья душевного. Ни на миг мы не ударились в пафос, не клялись в вечной любви, никто из нас даже не сказал «Я тебя люблю». Мы радовались, вот и все. Самые нежные слова, сказанные мною, были: ты злючка. И самое трогательное, сказанное ею: никогда не думала, что это так чудесно, боже мой. Мне показалось знаком истинной и исключительной чистоты то, что слова «боже мой» звучали у нее как возглас радости. Она произносила их, не закрывая глаз, и это было потрясающе – смотрела на меня радостно, благодарно, и в наших объятиях тоже главным было чувство дружбы, нового для нас товарищеского общения. И даже теперь, когда Росарио почтенная супруга доктора Асокара, с тремя взрослыми детьми, двумя прислугами и шале в Карраско[90]90
Фешенебельный район Монтевидео.
[Закрыть], мы иногда встречаемся на каких-нибудь празднествах, и наш диалог течет без недомолвок, без тайных обид, вполне непринужденно, без какого-либо намека на тот январский вечер тысяча девятьсот тридцать четвертого года. Но, конечно, мы храним в душе взаимную благодарность и смотрим друг на друга с симпатией сообщников. И в нашем чинном обращении на «вы» сквозит сладостное воспоминание о былом «ты» с нашими вступительными поцелуями, и разведывательными ласками, и переплетенными ногами, и сухими веточками на спинах. У меня нет зависти к Улиссу Асокару, у которого, впрочем, вид человека удовлетворенного, и, наверно, не зря. По правде говоря, мне не хотелось бы теперь лежать в постели со зрелой Росарио, мне, который познал ее свеженькой, в лесу, – ведь нынешняя версия никогда не будет такой волнующей, как та, двадцать семь лет тому назад, и, возможно, только заслонила бы или по меньшей мере исказила бы во мне и в ней тот безупречный образ. Полчетвертого, говорит «биг Бен». Хоть бы заснуть. Теперь я спокойней. Воссоздание того вечера в памяти всегда усмиряет мои нервы, придает желание жить. Попробую применить метод релаксации. Начнем снизу. Сперва расслабить пальцы ног, затем лодыыыжки, ииикры, ляяяжжки, живооот, желууу-док, грууудь, плееечи, шееею.








