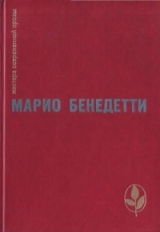
Текст книги "Спасибо за огонек"
Автор книги: Марио Бенедетти
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 14 страниц)
– Я вам обязательно позвоню на этой неделе.
– Очень хорошо, сеньор Будиньо. Желаю доброго здоровья.
– Скажите мне, сеньорита, только вполне откровенно, как вы считаете, мы ведем здесь жизнь провинциальную?
– Я, сеньор, знаете ли, думаю, что…
– Ясно. Вы не знаете других стран, вам не с чем сравнивать.
– Я, сеньор Будиньо, была только в Буэнос-Айресе и в Порту-Алегри.
– Превосходно. И, сравнивая нашу жизнь с жизнью в этих городах, считаете ли вы, что у нас жизнь провинциальная?
– В каком смысле, сеньор?
– Например, в смысле развлечений.
– Я-то и здесь развлекаюсь, сеньор. Но не знаю, о таких ли развлечениях вы спрашиваете. Наверно, вам надо…
– Нет, нет, нет. Как раз это я и хотел узнать.
Пышнотелая, только пышнотелая. И до чего глупа. А еще хотят, чтобы люди верили в существование бога. Как это женщина может быть такой полненькой, хорошо сложенной, с таким бюстом, таким ртом и – без мозга? Ей бы надо вставить мозг на транзисторах. Или вернуть ее богу как фабричный брак. Во всяком случае, ее слюнявому жениху не приходится лапать ее мозги.
– Я съезжу в центр поесть, сеньорита, и вернусь часа в два.
– Вы не забыли, что на три часа пригласили сеньора Риоса? Как это у нее есть память, если нет мозга? Может, ее память помещается в бюсте? Места хватит, еще с излишком. Там у нее поместились бы и память, и желудок, и мениски, и поджелудочная железа – все.
– До свиданья, Тито.
– До свиданья, Доктор.
– До свиданья, Пене.
Поразительно, как много у меня знакомых в Старом городе.
– Чао, Ламас.
Это в самом деле Ламас?
– До свиданья, Вальверде. Как дела у славного «Ливерпуля»[126]126
«Ливерпуль» – английская футбольная команда.
[Закрыть]?
Единственные две темы, о которых можно с ним говорить, – это рыбная ловля и «Ливерпуль». Неужели на самом деле кто-то может получать удовольствие от рыбной ловли – кроме рыбы, удирающей с половиной наживки?
– Чао, Суарес. Что скажешь об этой жаре в середине апреля?
– До свиданья, малыш. Как поживает Старик? Единственный раз я ловил рыбу, когда мне было восемь лет, и единственную рыбешку, которую я вытащил, мне насадил на крючок дядя Эстебан, подплыв под водой. Вот это подвиг.
– До свиданья, Тересита. Всегда хороша – как мама. До свиданья, донья Тереса.
Поразительно, как держится эта старушенция. До сих пор она, пожалуй, привлекательнее дочери. Однако какая жара. В пиджаке я погибаю. А душ не смогу принять до самого вечера.
– Значит, ты говорил с отцом?
– Говорил. Ничего не добился.
– Но про Ларральде ты сказал ему?
– Это его совершенно успокоило.
– Не понимаю.
– Затея Ларральде не выгорит. У Старика против него три вида оружия: его брат, который на выборах пятьдесят восьмого года значился в списке компартии, дядюшка, который сколько-то там лет назад похитил пятьдесят тысяч долларов в банке и был схвачен Интерполом, да сестрица Норма Ларральде. Ты ее знаешь?
– Только по виду. Она секретарша Эстевеса.
– Секретарша и подруга.
– Этого я не знал.
– Понимаешь, такая информация, да в руках Старика.
– И ты думаешь, Ларральде сдастся?
– В этих делах Старик никогда не ошибается. А ты как считаешь?
– Откровенно говоря, не знаю. Я об этих трех фактах не знал. Они впрямь существенны и могут подкосить Ларральде. Но, с другой стороны, сделка очень уж крупная. Пожалуй, Ларральде сумеет добиться поддержки друзей из «Ла Расон».
– Вряд ли. Эти парни никогда не сжигают мостов. Вот увидишь, в последний миг они пойдут на попятную. Если предположить, что Ларральде опубликует разоблачение, пострадает он. У Старика и у Молины есть чем его раздавить. Старик рассуждает так: Ларральде – журналист толковый, деятельный, но по сути он всего лишь человек, желающий жить спокойно, и он лучше, чем кто-либо, знает, что если нападет на Старика, то у Старика есть три компрометирующих факта, чтобы отразить атаку, и ему уже не жить спокойно. Старик говорит, что Ларральде все это поймет, как только с ним анонимно поговорят по телефону и объяснят ситуацию. А ты не наберешься смелости?
– Я? Ты с ума сошел. Если Ларральде, человек опытный, по твоему пророчеству, не решится, как же ты хочешь, чтобы решился я?
– Но у Ларральде есть три уязвимых пункта. Какой у тебя уязвимый пункт?
– У меня их нет. Но в этом и нет надобности. Подумай сам, ведь разоблачение надо делать официальными путями. А какая газета возьмет у меня, Вальтера Веги, который для них никто, такую статью со всякими подробностями? Кто меня знает? Чтобы замять дело, им даже не понадобится мне угрожать или отыскивать что-либо позорное в моей семье, а такое, возможно, тоже имеется. Зачем? Просто мой материал затеряется, а меня похоронят в архиве или в худшем случае объявят коммунистом, и чао! – ты же знаешь, теперь даже нет необходимости доказательства приводить. А ты? Ты решился бы?
– Ты забываешь, что я сын. Когда придется выбирать между сыном, изменившим отцу, и политиком, изменяющим своей стране, публика – иначе говоря, общественное мнение – всегда отнесется суровей к первому. Надо правильно оценивать обстановку. Всякая борьба с ними будет неравной. У них пресса, радио, телевидение, полиция. Кроме того, весь аппарат двух больших партий. По существу, обе они одна другой помогают, потому что у обеих одинаковые интересы. Если взять помещика «Бланко» и помещика «Колорадо», то куда важнее их политических разногласий тот факт, что оба они помещики. У них взаимная выручка, это неизбежно. Сегодня я за тебя, завтра ты за меня. Чего смеешься?
– Меня забавляет, что ты так горячишься. Не кто-нибудь, а ты, сын Эдмундо Будиньо.
– Не хватает, чтобы ты добавил: ворона вырастишь – глаза выклюет.
– Не обижайся, Рамон. Ты спросил, чего я смеюсь. Веришь ли, твой случай заставил меня задуматься. Задуматься о том, не изменяем ли мы оба, ты и я, своим классам. Мой старик, знаешь ли, всю жизнь был рабочим и умер рабочим вследствие несчастного случая на фабрике. Он едва умел читать и писать, но у него было классовое сознание, всегда было. Однажды настали времена, когда нам пришлось голодать (я был десятилетним мальцом), в эту пору шла стачка, продолжалась она несколько месяцев. Фабрика какое-то время стояла, но потом начали набирать новых рабочих, все новых да новых. Правда, у моего старика была квалификация, и пришли его звать, предложили зарплату чуть не вдвое большую, чем прежде. И все же он сказал «нет». У него и мысли не было, что можно предать своих. Голод легче переносить, чем позор, говаривал он. Когда это тебе говорю я, фраза звучит напыщенно. Но могу тебя уверить, что в его устах она звучала просто, как очевидная истина. И знаешь, о какой фабрике идет речь? О фабрике твоего отца – она тогда производила не пластмассовые изделия, а алюминиевые. Я немного учился, но лицея не кончил. Пристроился в клубе Луисито[127]127
Имеется в виду Луис Батлье Беррес.
[Закрыть]. Потом поступил на службу. И погляди на меня теперь: если есть человек без классового сознания, так это я. Когда встречаюсь с кем-нибудь из друзей старика, я, сам не знаю почему, чувствую себя виноватым, мне неловко. А когда говорю с товарищами по службе, сознаю, что я не из этой среды, что мне следует быть другим, думать иначе, поступать иначе. В то же время вот я – секретарь Молины, не кого-нибудь, а самого Молины. Клянусь, иногда мне бывает стыдно, как было бы стыдно старику, кабы он увидел меня на службе у этого негодяя, порой даже в роли Селестины[128]128
Селестина – старуха-сводня в знаменитом романе-драме «Трагикомедия о Калисто и Мелибее» (1499 г.), более известном под названием «Селестина», испанского писателя Фернандо де Рохаса. Имя Селестина стало в испанском языке нарицательным.
[Закрыть].
– Но ты же сказал, что мы оба изменяем, каждый своему классу.
– Да, я так сказал. Ведь ты с другого берега, ты из богачей. Твой отец – один из самых влиятельных людей в стране. Ты мог получить диплом, но бросил занятия. Ты не смог стать полностью независимым от отца. Однако нам с тобой случалось не раз говорить подолгу и откровенно, и я знаю, что ты человек мыслящий. В вопросах международной и внутренней политики, во взглядах на мораль ты – противоположность своего отца. И я понял, что ты – исключение. Обычно сынки богачей думают только о деньгах – а это совсем особый вид мышления. Ты – нет. Но ты и не человек вполне левых взглядов. Хочу тебе сказать, Рамон, – только пойми меня, – что не могу точно определить твою позицию. Я полагаю, что ты все же изменяешь интересам своего класса, но, пожалуй, правильно делаешь.
– Ты о чем-то умолчал?
– От тебя ничего не утаишь.
– Что еще ты хотел сказать?
– Ты рассердишься.
– Брось, ты же меня хорошо знаешь. Говори.
– Раз ты так настаиваешь – скажу. Иначе ты решишь, что на уме у меня что-то худшее. Подумал ли ты о том, чего больше в твоей позиции, такой необычной в твоей среде, – настоящей убежденности, глубокой и осознанной уверенности или простого желания пойти наперекор отцу?
– Да, подумал.
– Ну и что?
– Я тоже не вполне уверен.
А как я могу быть уверен? К тому же я прежде об этом никогда не думал. Вальтер коснулся больного места. Да, надо подумать, хорошенько подумать. Почему-то я все же не решаюсь на более активное участие. В чем? В чем-нибудь, все равно в чем. По мнению Старика, я – левак, и это для него большое огорчение, хотя он и не признается. Но я ни разу не подписал никакого манифеста, не вступал в партию, не присутствовал ни на какой политической акции, не делал денежных взносов ни в какую кампанию. Даже этих минимальных заменителей действия я избегал. Весь мой левацкий пыл состоял в том, что я где-нибудь в кафе плохо отзывался о Соединенных Штатах, ха, и так же плохо о России. Да, тут надо подумать, хорошенько подумать.
– Ладно, на этом я прощаюсь. Надо идти в Республиканский банк. Тебе по дороге?
– Мне пора вернуться в агентство. Из-за твоего блестящего рассуждения о классах и изменах я и не заметил, как время пролетело. Меня там ждет один клиент.
– Позвони, когда будешь обедать в центре. Иначе нам никак не встретиться.
– Познакомьтесь с моей внучкой.
– Очень приятно, сеньорита. А, вижу, вы мою просьбу исполнили. Очень хорошо. Ваш паспорт, сеньор Риос, и паспорт сеньориты. Ваша справка о прививке оспы, справка сеньориты. А записочка с маршрутом?
– Вот она.
– Превосходно. Посмотрим: Лиссабон, Сантьяго, Севилья, Кордова, Гранада, Мадрид, Толедо, Барселона, Неаполь, Рим, Флоренция, Венеция, Женева, Париж. Я думаю, этот порядок не обязателен.
– Расположите сами, как вам угодно или более удобно.
– К примеру, на мой взгляд, лучше бы сделать так, чтобы вы посмотрели празднества Святой недели в Севилье и Праздник Весны во Флоренции.
– Тут вы распоряжаетесь. Переставляйте, меняйте, как найдете нужным. Но, знаете, мне бы хотелось, чтобы вы договорились о маршруте с моей внучкой.
– Но, дедушка…
– Никаких «но». Сеньор Будиньо, в нашем путешествии командует она. Я ей это обещал, если будут хорошие отметки в конце года, и вот, извольте, эта сеньорита получила отличный аттестат. Так что обещание надо исполнить.
– Но, дедушка…
– А теперь, сеньор Будиньо, извините, если я отлучусь минут на пятнадцать. Когда мы вчера уславливались о встрече, я позабыл, что сегодня в это же время мне надо подписать одну бумагу. Но я оставляю вам свою внучку, и вы с ней все уладите, как если бы это был я.
– Будьте спокойны, сеньор Риос.
– До свиданья, дедушка.
– Что ж, сеньорита, если вы тут командуете, скажите, чего бы вы хотели.
– Простите, сеньор. Мне надо с вами поговорить, пока дедушка не вернулся.
– Слушаю вас.
– Я знаю, что вчера дедушка с вами говорил откровенно.
– Откровенно о чем, сеньорита?
– О своей болезни.
– Как? Ваш дедушка болен?
– Я хотела сказать – о своем раке.
– Сеньорита.
– Я знаю, что он просил хранить тайну.
– Но…
– Сейчас объясню вам: я дружу с дочкой доктора Сориа, Ромуло Сориа.
– Да, я с ним знаком.
– Так что доктор Сориа знает меня уже давно. На прошлой неделе я у них ждала Чичи, свою подругу, дочку доктора. И тут вошел он и повел меня в свой кабинет и сказал, что он уже много лет меня знает и очень рад, что у его дочки такая подруга, и что ему кажется, что я девочка очень серьезная и так далее. После этого вступления он мне рассказал, что с дедушкой.
– Ромуло вам сказал, что у вашего дедушки рак?
– Да. Он сказал, что долго думал, что не был уверен, правильно ли поступает, но что ему кажется слишком жестоким позволить дедушке путешествовать по Европе и чтобы никто не знал о его болезни.
– А ваши родители тоже знают?
– Нет, одна я знаю. И дедушка тоже не знает, что я знаю.
– Ах так.
– Доктор Сориа мне объяснил, что он решил говорить со мной, только со мной, потому что знает заранее: если скажет об этом моим родителям, то поездка не состоится. А дедушке так хочется поехать.
– Да, я это знаю.
– Вчера дедушка пришел к вам по совету доктора. И доктор мне рассказал все, о чем дедушка собирался вас просить.
– Я вижу, мне уже нечего скрывать от вас.
– Я вам все это говорю, сеньор Будиньо, по двум причинам: чтобы вы были более спокойны, зная, что дедушка будет путешествовать с человеком понимающим, насколько он болен, и еще чтобы вы, теперь уже вполне свободно, предупредили меня обо всем, что надо будет делать во время поездки, обо всем, что вы сочтете нужным ввиду дедушкиной болезни.
– Тогда вам придется дать мне по меньшей мере еще один день. Я должен все обдумать заново.
– Разумеется.
– Вы очень любите дедушку, сеньорита?
– Очень. Только прошу вас, не доводите меня до слез. Дедушка может заметить. Он очень наблюдателен.
– Простите.
– Вот и все. Лучше я подожду не в кабинете. А дедушке скажете, что к вам пришли люди и вы меня пригласили зайти завтра после полудня. Но я приду утром. Если вы не возражаете.
С каким лицом я буду теперь смотреть в глаза бедняге Риосу? Да, влип я в передрягу. Тут требуется не агентство путешествий, а исповедальня. Может, кто-то нарочно впутал меня в эту историю? А если позвонить Сориа? Ну-ка, посмотрим. Куда задевали телефонный справочник? Сориа Армандо. Сориа Беатрис. Сориа Хосефина Мендес де. Сориа Ромуло. Девять – два – четыре – шесть – пять.
– Могу я поговорить с доктором? Это от Будиньо. Ромуло? Сколько лет не виделись… Ты, наверно, догадываешься, почему я звоню… Да, это самое. Дело, знаешь ли, особое, необычное в моей практике, и я решил, что разумней обсудить его с тобой… Ага… Да.
Я думаю, ты поступил правильно… Посмотрю, что смогу сделать, это не так просто, не думай… А как твоя жена? А Чичи?.. Старик по-прежнему полон сил… Сусанна? Хорошо… Густаво уже семнадцать… Что уж тут говорить. Время идет, че, хотя мы как будто не замечаем этого… А мне еще на год больше: сорок четыре… Конечно, надо встретиться. Мы же были такими друзьями. Все еще ходишь каждый день в «Христианскую Ассоциацию»? Рано поутру?.. Да ты просто герой. Я – нет. Я уже целую вечность не занимаюсь спортом… Да если я сейчас начну играть в лапту, я рассыплюсь на части… А почему бы тебе не заглянуть ко мне как-нибудь вечерком, поболтали бы подольше, не спеша, все бы обговорили? Запиши адрес. Карандаш есть? Карамуру, пять-пять-семь-два… Да, в Пунта-Горда. В конце недели всегда меня застанешь. В основном я дрыхну… Ну, какая там лапта… Ну как же, Ромуло, конечно… Передам Сусанне. Также от меня привет Нелли и Чичи… Так ты приходи, слышишь?
Ромуло Сориа. Теперь у него другой голос, совсем не тот. Славный малый. Было это в Буэнос-Айресе, году в тысяча девятьсот тридцать восьмом. Я проходил практику в агентстве "Турисплан», угол улиц Сан-Мартин и Кангальо. Разумеется, Старик послал. «Турисплан» Эдуардо Росалеса и К°. Этакий бородатый чилиец, доморощенный философ, ведущий двойную жизнь: с одной стороны, туристическое агентство, с другой – философский кружок. Розенкрейцерство, плюс теософия, плюс Элифас Леви[129]129
Элифас Леви – псевдоним Альфонса Луи Констана, опубликовавшего в 1959 г. книгу мистического толка «Ключ великих тайн».
[Закрыть] плюс Кришнамурти – чудный винегрет. Своего рода доктор Будиньо, только в другой сфере. Он обрабатывал души. Впрочем, попутно и он обогащался – не душой, нет, а перечислениями на банковский счет. В агентстве его звали Росалес, в школе он себя именовал Спациум[130]130
Спациум (лат. spadum) – пространство.
[Закрыть]. Секта имела филиалы в Буэнос-Айресе, Монтевидео, Рио, Сантьяго и, кроме того, в самых неожиданных городах вроде Попаяна, Белу-Оризонти, Пайсанду, Ранкагуа, Тарихи, Баркисимето, Катамарки[131]131
Попаян – город в Колумбии (департамент Каука). Белу-Оризонти – город в Бразилии, административный центр штата Минас-Жерайс, Пайсанду – город в Уругвае, административный центр одноименного департамента. Ранкагуа – город в Чили, административный центр провинции О'Хиггинс. Тариха – город в Боливии, административный центр провинции Серкадо. Баркисимето – город в Венесуэле, административный центр штата Лара, Катамарка – город в Аргентине, административный центр одноименной провинции.
[Закрыть]. Отовсюду текли денежки. То было время, когда президент Ортис[132]132
Ортис, Роберто Мария (1886–1942) – аргентинский политический и государственный деятель, президент республики в 1938–1942 гг.
[Закрыть] слепнул, а журнал «Носотрос» печатал стихи Луиса Фабио Ксаммара[133]133
Ксаммар, Луис Фабио (1911–1947) – перуанский поэт, воспевавший сельскую жизнь.
[Закрыть]; и если кто-нибудь возле здания «Дейче Ла Плата Цайтунг» осмеливался сделать невинное антинацистское замечание, поблизости обязательно оказывался агент и вел его в полицию; и я мчался со всех ног, чтобы первым взбежать на галерку в «Колоне»[134]134
«Колон» – оперный театр в Буэнос-Айресе.
[Закрыть], когда дирижировал Тосканини, и как волнующе было смотреть оттуда на лысину маэстро, то красневшую, то бледневшую, в зависимости от заданного Вагнером темпа; и в борделях провинции выстраивались длинные очереди, и в Ла Бока[135]135
Район Буэнос-Айреса.
[Закрыть] жареные рыбки были куда вкуснее, чем теперь, и плиты тротуаров на улице Виамонте ходуном ходили, и твои брюки обдавало брызгами вонючей грязи, и в «Гат и Чавес» в отделе парфюмерии была потрясающая блондинка, которая ко мне благоволила, и в одну из суббот приехал дядя Эстебан и назначил мне встречу в «Кабиль-до», и я как последний болван два часа ждал его у Кабильдо[136]136
Кабильдо – Городской совет.
[Закрыть] на Пласа-де-Майо, между тем как он ждал меня в кафе «Кабильдо», и однажды на улице Чаркас кто-то мне сказал, смотри, вон Виктория Окампо[137]137
Окампо, Виктория (1891–1979) – аргентинская писательница и литературный критик.
[Закрыть], и я спросил, а кто это, Виктория Окампо, и был морально убит замечанием: эти уругвайцы, кроме своего футбола да рулетки, ни хрена не знают, вот креты, и я не спросил, что значит «креты», чтобы не быть морально убитым вторично, и в Японском парке был «Смертельный метеор», на котором тебя кружили со страшной силой, и как-то сошли с него две девочки, и вдруг одна из них с видом сомнамбулы отставила ногу, и на лаковую ее туфлю что-то закапало, наверно от страха, и какие умопомрачительные были бисквиты с молочным кремом в «Ла Мартона». Мать одного из членов секты «Спациум» содержала пансион на улице Тукуман, и там я поселился, потому что Росалес и Старик договорились, чтобы платить мне самую малость, и мне хватало только на жилье там, причем я делил комнату с сыном хозяйки, звали его Сериани, он работал на железной дороге и вставал ни свет ни заря, наливал в таз воду из кувшина и, прежде чем чистить зубы, причесывался жесткой резиновой щеткой, потом сразу же надевал серую шляпу, и я, открыв один глаз, потому что другой еще спал, видел, как он стоит в трусах и в шляпе, и теперь я должен признать, что это было одно из самых забавных зрелищ, какие я видел в Буэнос-Айресе до эпохи Перона[138]138
Перон де ла Coca, Хуан Доминго (1895–1974) – аргентинский государственный и политический деятель, президент в 1946–1955 и в 1973–1974 гг., сочетавший социальную демагогию с укреплением позиций национального капитала. В 1941–1943 гг. – один из руководителей так называемой группы объединенных офицеров, совершившей в июне 1943 г. государственный переворот.
[Закрыть]. Вот тогда-то и появился Ромуло Сориа. Он учился на подготовительном медицинского факультета. Как-то вечером он пришел в пансион, и я поговорил с доньей Хосефой, матерью Сериани, и мы положили ему матрац в моей комнате, а потом вышли пройтись, и единственным нашим развлечением было зайти выпить пива и коньяку в японском баре на улице Коррьентес, и Ромуло знал по-японски только одну фразу и выпалил ее официанту, который нам принес стаканчик для игры в кости, и тогда японец расцвел роскошной восточной улыбкой и произнес пылкую речь, размахивая руками и тараща глаза, пока Ромуло не решился сказать ему по-испански, что это единственная фраза, которую он знает, и японец яростно швырнул нам стаканчик на мраморный столик. Что ты ему сказал, спросил я, И Ромуло ответил; с тех пор как я выучил японский, я считаю, что твоя родина – это чудо. Ясное дело, мы постарались уйти до того, как японец-официант появится с японцем-хозяином. Но пиво плюс коньяк ударили Ромуло в башку, и, когда мы возвращались по улице Тукуман, он говорил только о пушечках, настоящий психоз, ни о чем другом, кроме пушечек, это было вроде подготовительной пьянки молодчиков Исаака Рохаса, которые теперь играют в солдатиков и угрожают президентам[139]139
1959–1961 гг., когда происходит действие романа, были в Аргентине периодом массовых забастовок и демонстраций трудящихся, что вызвало активизацию реакционных сил, приведшую в 1962 г. к военному путчу и свержению правительства А. Фрондиси (президент Аргентины в 1958–1962 гг.).
[Закрыть] – разумеется, в пределах законности. И мы легли спать, я на своей кровати, он на матраце, Сериани уже храпел, и, наверно, ему снились перевоплощения, кармы и прочие излюбленные темы «Спациума». В три часа ночи я проснулся, увидел, что Ромуло нет, но хмель меня одолевал, и я снова уснул. Утром Ромуло завтракал со мной, и я спросил, что с ним было. Он выждал, пока донья Хосефа удалится из столовой, и тихонько сказал: клопы. Я мог догадаться раньше. Клопы были чем-то таким обычным в этом пансионе, что я к ним привык. Самое большее – вставал среди ночи, шел в ванную, гляделся в зеркало, смотрел на раздавленных клопов и принимал очистительный душ. Они ползли из нижнего этажа сплоченными батальонами. Как-то ночью я читал в постели мой первый роман Достоевского и вдруг заметил, что над верхним краем «Преступления и наказания» торчат две мохнатые лапы. Просто-напросто тарантул. Я швырнул бедным Достоевским об стену, и паук упал на шляпу Сериани. Там я его и оставил, а потом подумал, что бедняга, верно, приполз ко мне, спасаясь от клопов. Когда же они напали на Ромуло, он не мог придумать ничего другого, как встать, одеться, выйти на улицу и сесть в первый попавшийся трамвай на углу улиц Реконкисты и Виамонте. Трамвай шел до улицы Чакарита, и Ромуло всю дорогу проспал блаженным сном без клопов. Когда приехали на Чакариту, кондуктор подошел к нему и сказал: конечная. Открыв глаза, Ромуло ответил: неважно, я возвращусь в центр. Ах, сказал кондуктор, значит, мы ночью хорошо погуляли. Когда он рассказывал мне это за завтраком, я чуть не рыдал от хохота. В довершение вернулась донья Хосефа и долго рассуждала о своих планах на лето. Она вечно путала слова и в это утро, говоря об озерах Науэль-Уапи[140]140
Озера Науэль-Уапи – место туризма в Аргентине, на границе провинций Неукен и Рио-Негро.
[Закрыть] сказала Какуэль-Пипи. И наш Сериани тоже грешил подобными словесными завихрениями. Однажды в моем присутствии он спросил у одной четы из Мендосы[141]141
Мендоса – город в Аргентине, административный центр одноименной провинции.
[Закрыть] (дама была на сносях, месяцев восемь): скоро ли появится на свет ваш выродок? Муж защитил свою честь, подчеркнув в ответе: появления потомка ожидаем через месяц. В другой раз он рассказывал, как ездили на пикник и увидели у ручья раненую лису, и рассказ свой заключил так: она была при последнем воздыхании. Когда мне случалось видеть вместе Сериани и Росалеса, я замечал у последнего нескрываемое презрение к резиновой щетке, крахмальному воротничку и глупым репликам Сериани. Находясь в обществе своих учеников, Росалес по временам устремлял взор в пространство, словно некие астральные токи вступали в общение с его избранным духом. В таких случаях все умолкали: одни соединяли кончики пальцев обеих рук, другие закрывали глаза. Наедине со мной Росалес меньше разыгрывал роль и иногда говорил о своей пастве как об «этих идиотах». По воскресеньям он обычно звонил мне с утра, чтобы я пришел играть в шахматы с его сыном астматиком Фермином. Фермин был мне симпатичен, но играл в шахматы прескверно, и я изрядно скучал. У мальчика блестели глаза, когда он говорил об отце, и, бывало, пока я делаю рокировку, он мне в отместку заявляет; а Учитель может вызвать дождь когда захочет. Он был сыном Росалеса, однако называл его Учитель, как прочие приверженцы. Меня не терзали сомнения апостола Фомы, но, видимо, выражение моего лица казалось Фермину недостаточно благоговейным, и при первом же шахе он заявлял: Учитель говорит на всех языках мира. Что касается языков, мне довелось присутствовать при одной потрясающей сцене. Среди членов секты царило убеждение, что Спациум говорит на всех языках мира. Как-то в «Турисплан» явился один из его давних учеников и попросил Росалеса принять его. Росалес не любил, когда его приверженцы приходили в агентство, но в этот день он был в хорошем расположении и принял гостя. Звали того Гальдос. Он приходил еще на предыдущей неделе, сообщить, что у него есть друг-араб, желающий вступить в Школу. Араб, который говорит только по-арабски. То есть представился, мол, прекрасный случай испытать, насколько Учитель Спациум наряду с другими языками владеет также арабским. Росалес, однако, не утратил спокойствия. Он только попросил Гальдоса передать его другу арабу, что тот должен представить просьбу о принятии в Школу, написанную, разумеется, по-арабски и с изложением своего жизненного пути до настоящего момента. И вот Гальдос явился с этим письмом. Я был в кабинете, когда он вручил конверт Росалесу. Тот его вскрыл, развернул листок, внимательно поводил глазами по строчкам, которые, бесспорно, говорили ему не больше, чем мне, затем сложил листок, сунул его обратно в конверт и невозмутимо сказал наблюдавшему за ним Гальдосу: передайте вашему другу, что тот, кто в своей жизни был тем, чем был он, не может и не должен быть принят в мою Школу. Но, пробормотал Гальдос. Никаких «но», так ему и скажите. Я никогда не забуду лица Гальдоса. Он взял письмо и ушел и, кажется, больше уже не появлялся. Он утратил доверие, говорили другие члены секты с выражением то ли зависти, то ли упрека. Думаю, некоторым из них тоже очень хотелось утратить доверие. Росалес был астматиком. Не в такой мере, как Фермин, но астматиком. В кабинете «Турисплана» в левом ящике письменного стола у него лежал ингалятор. Я работал в соседней комнате, но стена была тонкая, и я мог слышать ритмичный шум накачивания и громкие вдохи. Росалес старательно скрывал этот небольшой физиологический изъян. И правильно делал. Было бы немного смешно, что Учитель, обладающий властью вызывать дождь по своему желанию, Учитель, говорящий на всех языках мира. Учитель, вступающий в общение с астральными токами, вынужден время от времени нажимать на упругую грушу ингалятора, чтобы работа его больных бронхов обрела нормальный ритм. Иногда, войдя в кабинет внезапно, я заставал его за этим занятием, и было забавно видеть, как ловко он ухитрялся превратить незавершенный вдох в настоящий кашель и быстро совал ингалятор под какую-нибудь папку или ронял его в ящик стола. В таких случаях его взгляд выражал ненависть, а мой – невинность. Борода у Росалеса была книзу заостренная и с несколькими седыми прядками. Обычно он сидел, подперев голову левой рукой. Поскольку опорой служили большой и указательный пальцы, а мизинец был свободен, он им поглаживал свою мефистофельскую бородку и даже иногда прижимал кончик ее ко рту, но покусывал ее только в минуты сильного гнева или возбуждения. И когда я входил без стука, он начинал покусывать бороду. Но я придумал противоядие. Трижды моргнув, я говорил себе: шут. Да, то была эпоха президента Ортиса, журнала «Носотрос», и Тосканини, и блондинки из «Гат и Чавес», и Японского парка, и двух «Кабильдо», и «Дейче Ла Плата Цайтунг», и очередей в бордели, и Школы «Спациум». В ту пору Ромуло Сориа жил в пансионе доньи Хосефы, и она приходила после ужина и спрашивала: чего хотите, чаю или кофе? Бывало, ответишь ей: чаю. А она говорит; к сожалению, есть только кофе. Славное было времечко, что ни говори. И хотя Старик держал меня с помощью Росалеса под надзором, я чувствовал себя достаточно свободным и, прожив так с полгода, сообразил, что Росалес будет мне неукоснительно звонить каждое воскресенье, чтобы я ехал на улицу Палермо в замызганном автобусе, ходившем по улице Леандро Алем, и потчевал Фермина десятью или двенадцатью вариантами мата, и, когда я это сообразил, я стал по воскресеньям подниматься очень рано и еще до звонка Росалеса удирать с книгой на площадь Сан-Мартин, и там я читал, хотя второпях, но все же читал, всякие книги, начиная с Толстого до Мигеля Кане[142]142
Кане, Мигель (1851–1905) – аргентинский писатель и политический деятель.
[Закрыть], с «Цветов зла»[143]143
«Цветы зла» – книга стихов французского поэта Шарля Бодлера (1821–1867).
[Закрыть] до «Стихов о негритяночке»[144]144
«Стихи о негритяночке» – сборник аргентинского поэта Бальдомеро Фернандеса Монтеро (1886–1950).
[Закрыть]. Я читал, читал как одержимый, и лишь изредка поднимал глаза, чтобы взглянуть на деревья парка Ретиро там, внизу, и на трамваи, и на две-три пролетки, кружившие по площади с парочкой тукуманцев[145]145
Тукуманцы – жители города Тукуман или одноименной провинции в Аргентине.
[Закрыть], или катамарканцев, или мендосинцев. Монтевидеанцев никогда не видел. Наше героическое чувство смешного беспощадно удерживает нас от любых наивных и дешевых развлечений на глазах у посторонних. Да, наш фольклор – это проблемка. Где его найти? Перикон[146]146
Уругвайский народный танец.
[Закрыть], говорят знатоки. Но с тех пор, как Нардоне ежедневно передает его по своему Сельскому радио в виде вступления к «обычному, каждодневному приветствию сельским труженикам нашей страны, сельским труженикам соседних стран, друзьям сельского труда в Монтевидео и во всей нашей стране», – с тех самых пор перикон перестал быть фольклором и превратился в некую зловещую «пляску смерти». Есть Атауальпа Юпанки, Эдмундо Сальдивар[147]147
Аргентинские поэты-песенники.
[Закрыть] но все это – аргентинское. Наше – кандомбе, иначе говоря – негритянский танец. Даже в этом мы похожи на Соединенные Штаты. Там тоже одни лишь негры веселятся от души. Остальной наш фольклор – это лотерея, футбол, мелкая контрабанда, карманное воровство, прибыль от борделей, благотворительные Три дела доброй воли. Альтернатива ясна – либо громогласная благотворительность, либо закоснелый эгоизм. Да, славно было смотреть с площади Сан-Мартин, под узорной тенью Эль Каванага[148]148
Эль Каванаг – небоскреб в Буэнос-Айресе.
[Закрыть], на эти пролетки с провинциальными парочками, а рядом со мной коляска с младенцем и няня-галисийка, а рядом с няней полицейский со смуглым лицом индейца, и оба улыбаются с прелестной, неповторимой робостью примитивных существ, которым в делах секса, в отличие от нас, разочарованного и претенциозного среднего класса, не требуется предварительно кружить по областям, где обитают религия Жан-Поля Сартра, и нынешняя дороговизна, и независимый театр, и последний штурм, и мне его лицо знакомо, и где будет проходить карнавал, и туризм, и традиционные разлагающиеся партии, и уже много лет не было такого жаркого лета, и упоминание о неизменном долларе за одиннадцать песо, и речь о том, что это положение поддерживается искусственно и долго не просуществует, и ездите ли вы всегда в этом троллейбусе, и не дадите ли мне ваш телефон, и мне так приятно говорить с тобой. Все эти вокруг да около или, напротив, комплимент в упор или, лучше сказать, с места в карьер, град комплиментов, что усвоено, возможно, от андалусцев, но без их остроумия, комплимент оглушающий, без тени лиризма или двусмысленности, комплимент – шлепок по заду, почти осязаемый в своей похабности и с непременным грязным словечком. И это не редкость. Напрасно стали бы вы утверждать, что так поступает и так думает только народ простой, неотесанный, те, кто не являются членами «Жокей-клуба» или клубов «Друзей искусства» и «Ротари». Нет, так говорят и так думают все, за исключением педерастов, у которых мысли идут в другом направлении, и праведников, которых, однако, теперь что-то не так много, как бывало прежде. Я сам, а я не педераст и не праведник, гляжу вот сейчас на роскошную пышнотелую секретаршу, и ее глупость меня уже не смущает. Я обращаюсь к ней со всей корректностью, требуемой светскими приличиями и мирным сосуществованием:
– Оставьте эти бумаги у меня, сеньорита, и попросите у сеньора Абельи недельный отчет.
Но, по правде сказать, как я ни стараюсь, а не могу оторвать взгляд от болтающегося на ее груди серебряного фунта стерлингов и внимательно слежу за его колебаниями, чтобы уловить, хоть мимолетно и украдкой, великолепные очертания открытой части ее грудей, пышных и в то же время стянутых, той части, при виде которой у тебя туманятся глаза, и дрожат руки и губы, и слабеют ноги. Тот факт, что я не осыпаю ее градом комплиментов или, стиснув зубы, не даю ей здоровенного шлепка, которого достоин ее потрясающий зад, означает всего лишь, что моя средненькая культура наделила меня большим ассортиментом запретов и что вследствие этого я скуп на восторги.








