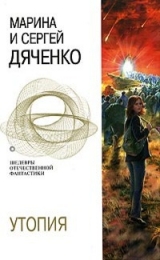
Текст книги "Утопия"
Автор книги: Марина и Сергей Дяченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 48 страниц)
Дарья Никитична Олененко возвращалась домой от девяностопятилетней родственницы. Машина шла на автопилоте, Даша сидела, прижавшись затылком к высокой спинке водительского кресла, и смотрела на россыпь огней, проявлявшихся то справа от трассы, то слева, то внизу, то вверху.
Прежде они навещали Светлану Титовну по очереди – Даша, ее муж Костя, иногда Костина сестра Арина с мужем Кимом Каманиным; теперь Костя был слишком занят, Арина была слишком занята, о ее муже Киме вообще речи не шло, и единственным человеком, не обремененным ни чрезмерной работой, ни напряженной учебой, оказалась Даша.
Дашина бабушка умерла давно, еще до появления Пандема; Светлана Титовна приходилась покойной бабушке теткой. Ей посчастливилось пережить племянницу почти на двадцать лет: теперь она понемногу дряхлела, погружалась в воспоминания, переходила в лучший мир, оставляя в этоммире угасающее тело. Пандем был ее лучшим другом и собеседником, но Даша считала, что не навещать старую родственницу нельзя. Дважды в неделю, как штык.
Дорога занимала почти полдня. Светлана Титовна отказывалась переехать из дома, в котором прожила жизнь, и Пандем считал, что она имеет на это право. Прежде, когда родственницу навещали по очереди, все было не так сложно. А теперь Даша чувствовала, что устает.
«Поспи в машине».
Даша отрицательно покачала головой. Лучше дотерпеть до дома и сразу лечь в постель.
Как там Иванка? Уже легла или нет? Или еще не вернулась домой? Самостоятельная особа в свои одиннадцать лет, они все теперь такие самостоятельные… «Мама, ну чего ты волнуешься? Что со мной сделается, а? Это раньше у вас были всякие ужасы с простуженными детьми, которые утонули, когда их задавила машина. Уроки сделала, не волнуйся. Да, мы с ребятами играем в казаки-разбойники… С кем? Да какая тебе разница, ты все равно их не знаешь… Познакомить? Ты что, будешь играть с ними в казаки-разбойники?!»
– Пандем! Она спит?
«Укладывается».
– Что значит укладывается? Зубы чистит?
«Снимает ботинки в прихожей».
– Да который же час?! Почему ты ее раньше не отправил домой?
«Потому что завтра воскресенье. Она утром выспится».
– Ты ей потакаешь!
«Не злись».
…Иванка смеялась; Даша улыбалась в ответ, чувствуя себя глупо. Она мать. Она хорошая мать. Это ее родной ребенок. Единственный, между прочим.
Ее представление о том, что такое «хорошая мать», много лет сидело на ней, как скафандр. Костя знал, что она хорошая мать. Все родственники знали, что она хорошая мать. Еще до Иванкиного рождения она читала книги, учившие ее быть Хорошей Матерью, и каждый уголок ее чисто прибранного, уютного, приспособленного для жизни дома знал, что она – Мать. Хозяйка. Жена.
Она знает свой долг – по отношению к ребенку, к мужу, к Светлане Титовне. Пусть старуха витает в своих облаках – Даша будет навещать ее дважды в неделю. Привозить гостинцы, спрашивать о самочувствии, рассказывать новости…
Усталость. Боже, как она устала. Костя со своими командировками… Ему все равно, ему всегда на все плевать… Иванка, не желающая ничего слушать… Вернее, слушающая только Пандема… И еще Светлана Титовна, скорее бы она уже умерла, проклятая обуза…
Даша вздрогнула и открыла глаза. Машина шла ровно, как по воде, огней вокруг стало больше – приближался центр.
О чем она только что подумала?! Она подумала – хорошо бы Светлана Титовна…
Господи! Ведь она, Даша, – порядочный человек!Как она могла…
Если бы никто не слышал. Мало ли что взбредет в голову уставшей женщине. Подумала и забыла, ведь она единственная, кто не оставил старушку, кто навещает ее дважды в неделю, хотя дорога в один конец занимает почти полдня…
Она хлопнула по панели, приказывая машине остановиться у обочины. Бег огоньков замедлился; скорость вытекала из каплеобразного пластикового автомобиля, и только сейчас Даша осознала, какой она была, эта бешеная скорость.
Она вышла, не прикрыв за собой дверцы. Под ногами была трава, витые, слабо подсвеченные лесенки вели вниз, с автострады; Даша села на ступеньку и обхватила голову руками.
Она пожелала ей смерти!
И Пандем слышал ее.
Что, что Пандем теперь о ней подумает?! Она ведь сама от себя не ждала… Мог ли он ждать от нее… Позор, ужас…
«Дашенька, что с тобой? Это всего лишь глупая мысль, она прошла и ушла, как будто и не было…»
Он еще успокаивает ее.
Лицемер.
* * *
Иванка Олененко играла с ребятами в «Крепости и замки». Сейчас они с Симоном лежали в траве, желая сплющиться как лепешки, а рядом шарили с фонарями братья Михайловы.
Симона им не найти. Симон сливается с ночью и нарочно нацепил черные очки, чтобы блеск белков – а белые у него только белки и зубы – его не выдал. Кроме того, Симон, в отличие от Иванки, умеет передвигаться бесшумно, в его роду поколения охотников, вдвойне стыдно проигрывать, имея в команде Симона…
Иванка повернула голову. Симон смотрел на нее – во всяком случае, она угадывала его взгляд из-под черных стекол; она повела глазами, показывая в сторону братьев Михайловых. Он кивнул – она опять-таки скорее догадалась об этом, нежели увидела.
– …Стой! Стой, кому говорят!
В какой-то момент ей вдруг сделалось по-настоящему страшно. Ужас преследуемого, которому на пятки наступает погоня. Что-то первобытное, засевшее в генах: беги! Беги!..
…А потом они все вместе – «друзья» и «враги» – сидели кружком на балконе замка, курили, мальчишки пили пиво, и им казалось, что они пьянеют. В центре кружка горел светильник на стальной треноге; Симон был преисполнен радости, радость распирала его, как теплый воздух распирает шелковые бока воздушного шара.
Симон с родителями приехал три года назад. Говорил уже практически без акцента – сказался лингвокурс при универе. Сейчас Симону было тринадцать; когда пришел Пандем, он жил в африканской деревушке, наполовину смытой с лица земли желтым жадным наводнением. Его братья и сестры, родные и двоюродные, многочисленные дядья, тетки и бабки гибли с голоду, тонули в размытой глине; его родители были на грани смерти, и сам трехлетний Симон сидел на соломе с раздувшимся от голода животом…
– Ты домой не хочешь, Симон? Туда?
– Очень хочу. Очень. Через полгодика поедем. Так Пандем говорит.
Тем временем Пандем уже дважды намекал Иванке, что пора бы в постельку. Иванка ныла и выпрашивала по «две минутки»; слишком хорошо было вот так сидеть и ощущать себя героиней, ведь главным в сегодняшней битве стали, конечно же, Иванкин финт и Симонов прорыв…
Братья Михайловы поначалу чувствовали себя обманутыми и проигравшими – но вечер продолжался, они забыли обиду и принялись хвастаться, как обычно.
– А как я его! – выкрикивал Лешка Михайлов, размахивая дымящейся сигаретой. – А он от меня… А я его!
«Все, Иванна. Полдвенадцатого. Подъем».
И сразу же поднялся Симон:
– Пока, ребята… Надо.
Прочие засобирались тоже – некоторые даже испуганно, видимо, Пандем перестал с ними миндальничать; Иванка забросила за плечи рюкзак и вышла из замка под звезды, и сразу же за ней вышел Лешка Михайлов.
– Я тебя провожу? – полувопрос-полуутверждение.
– Зачем? – искренне удивилась Иванка. – Тебе же в другую сторону. Пандем заругается.
– Не заругается, – тихо сказал Лешка. – Пошли… А то вдруг ты в канаву упадешь.
Иванка засмеялась. «Пандем, он дурак?»
«Что ты обижаешь человека? Хочет пройтись перед сном, тебе что, жалко?»
– Ну ладно, – сказала она удивленно.
Уже дома, в прихожей, она села на тумбочку, чтобы стянуть грязные ботинки, – и вдруг замерла, глядя в темный потолок.
– Он в меня влюблен, что ли?
«Нет. Ему просто приятно с тобой пройтись».
– А почему?
«Потому что ты здорово придумала эту обманку, с Симоном. Он тебя зауважал».
– А раньше он меня не уважал, что ли?
«Подумай головой. Ему четырнадцать лет, а тебе нет двенадцати. Он считал тебя малявкой».
– Ах во-от ка-ак…
«Ну конечно. Теперь-то он так не считает».
Иванка улыбалась, глядя в потолок, забыв о ботинке и о сырых штанах, которые надо немедленно снять.
– Пандем… А можно я не буду сейчас спать, а порисую немножко? У меня вроде вдохновение прорезалось… А?
«Твоя мама считает, что я тебе потакаю».
– А ты скажи ей, что я уже сплю.
«Знаешь, что бывает с врунами?»
– Что?
«Шутки окончены, Иванна. Марш под душ – и в постель».
* * *
Костя Олененко сидел за низким столиком в ворсистой мягкой комнатке. Все здесь было ворсистым и мягким: ковер, занавески, широкая постель; на бархатной скатерти нежно-персикового цвета стояли полные влаги бокалы, и от фигурно разрезанных фруктов поднимался соответствующий моменту аромат.
После появления Пандема Костя не изменял жене почти три года – три долгих мучительных года, полных стыда и сомнений. Все решилось после встречи с Агатой – той самой, что сидела сейчас напротив, пожевывала комочек смолы из оранжевого пакета (оранжевый цвет на пачках сигарет и блоках жвачки предупреждал о возможном наркотическом действии) и блаженно щурилась на огонек ароматической свечи.
Десять лет назад Агата была обыкновенной семнадцатилетней проституткой. Ее звали Зойка, и она была уверена, что только тяжелая жизнь и необходимость кормить себя привели ее в это ужасное место – на панель.
Тогда Костя не был с ней знаком. Тогда у него была Мышка, милейшая девочка-студентка, к которой он ездил в общежитие, пока жена думала, что он перегоняет машины, или находится в деловой командировке, или еще что-то.
Пришел Пандем, и необходимость зарабатывать на жизнь древнейшим способом отпала. Зойка-Агата поступила в какой-то техникум, но творческая учеба на благо человечества перестала занимать ее уже на вторую неделю. Она пыталась стать танцовщицей, певицей, воспитательницей, наездницей, фотографом, модельершей; все занятия скоро надоедали ей, и с неожиданной тоской вспоминались те дни, когда в коротенькой юбчонке и высоких сапогах она стояла на обочине оживленной трассы, ледяной ветер прохватывал ее сквозь колготки-«сеточку» до самого нутра, а впереди была неизвестность: заплатят – не заплатят, изобьют – не изобьют…
Тогда Костя тоже не был с ней знаком. В его жизни наступила унылая «послепандемная» пора – физическая близость с женой была «обязанностью», хотя и «супружеской», а увязаться вслед за лихой длинноногой девочкой на улице на позволял стыд. Костя стеснялся Пандема!
Как может он изменить жене в чужом присутствии? Пусть бесплотном – но оттого не менее явном, вездесущем? И как потом он вернется домой, станет врать жене, а Пандем в это время будет слушать – и молчать? Его молчание будет, как крышка канализационного люка на плечах, Костины нервы не выдержат, он во всем признается Даше… А Даша…
Тем временем Зойка-Агата встретила старую приятельницу, с которой вместе когда-то мерзли на обочине кольцевой. Приятельница была свежа и довольна жизнью; за те несколько лет, что они не виделись, приятельница выучилась играть на лютне и петь, танцевать этнографические танцы, составлять букеты, сервировать стол, вязать языком морские узлы, вести утонченные беседы, и еще много чему выучилась. Теперь она работала на дому, привечала чистых и вежливых клиентов, творчески трудилась на благо человечества и была совершенно довольна жизнью.
– А Пандем?! – спросила потрясенная Зойка.
Приятельница улыбнулась так таинственно, что Зойка ей снова позавидовала:
– А Пандем… Ты знаешь, это даже в кайф. Это ренессанс какой-то, честное слово.
Зойка поразилась, как много новых слов знает ее бывшая подруга, еще не так давно изъяснявшаяся исключительно бытовым-матерным.
Эта встреча изменила ее судьбу. Спустя несколько месяцев у нее тоже была ворсистая и мягкая комната, и визиты первых клиентов научили ее слову «ренессанс». Все, что происходило на огромной кровати под балдахином, происходило теперь как бы публично – Пандем наблюдал за ней, Пандем видел ее изнутри и снаружи, и одна эта мысль делала ощущения стократ острее.
Вот тогда-то Костя с ней и познакомился.
Она убедила его, что то, что он считает изменой, на самом деле никакой изменой не является. Что это игра, всего лишь игра, на которую имеет право любой мужчина – и в особенности Костя, натура артистичная и темпераментная. И они действительно играли: все эти разговоры за круглым столиком, все эти жесты, взгляды, полунамеки не позволяли ему расслабиться ни на минуту. Всякий раз ему приходилось завоевывать ее заново, всякий раз он выматывался, угадывая правила новой игры, и тем слаще оказывался вкус победы.
Он бросал ее. И снова возвращался. И снова бросал, клялся себе и Пандему, что больше никогда-никогда…
Она не скрывала, что у нее бывают и другие гости. Костя прощал.
– Я люблю Дашу! – доказывал он Пандему, запершись в ванной и пустив воду. – Я не могу ее бросить! У меня ребенок… Не говори им, пожалуйста, Дашка… не поймет. Иванка… Ты разрушишь семью. Я люблю их, Агата – это совсем другое… Если бы ты был мужиком – ты бы понял меня!
– Вопрос в том, как на это посмотреть, – бормотал он в той же ванной некоторое время спустя. – Это пережитки дремучего представления о том, как и с кем надо жить мужчине. Почему я должен чувствовать себя виноватым? Что, Дашке плохо? Ей хорошо, я ее люблю, она это знает. Лишь бы она не узнала…
«Она узнает рано или поздно, Констанц. И в самом деле не поймет».
– Ты ведь не хочешь, чтобы нам всем было плохо? Ты ведь любишь нас, так? Почему ты не устроишь, чтобы Дашка не узнала? Проследи за этим, это просто, просто не допускай до нее лишнюю информацию, чего тебе стоит? Молчание – золото… И всем будет хорошо.
«Констанц… Ты можешь поступать как хочешь. Но учти, что Дашка долго не простит. Может быть, никогда».
– Ты все-таки подумай над моим предложением, – говорил Костя и поскорее задвигал весь этот разговор поглубже в память – чтобы не думать о дурном.
…Агата потянулась. Музыка из многих динамиков, спрятанных под драпировкой стен, сделалась громче; Костя знал, что сегодня она хочет от него не столько нежности, сколько страсти, не столько обожания, сколько дикой мужской агрессии. Он шагнул на стол – бокалы опрокинулись, подсвечник упал, и свеча погасла. В зеленых Агатиных глазах вспыхнули правильные огоньки; Костя мягко опрокинул кресло вместе с сидящей в нем женщиной, опрокинул на спинку, в глубокий персиковый ковер. Агата попыталась было вырваться – Костя не дал; она искусно изображала неповиновение и страх – но в глубине глаз горели, как зеленые светофоры, те самые правильные искры, те самые, те…
Костя наклонился к ее губам – и взял у нее изо рта ароматный комочек теплой и клейкой смолы.
– Решительней, – прошептала Агата. – Ты же… – и добавила слово, от которого Костя утробно зарычал, польщенный.
Комочек смолы выпал на обнажившуюся к тому времени Агатину грудь, потянул за собой ниточку вязкой слюны. Костя снова зарычал; Агатины колени, обтянутые узорчатым шелком, казались лбами разукрашенных цирковых слонов. Бедра ее были белые и круглые, будто рыба лосось.
– Пандем! – кричала Агата. – Пандем!
Костя знал, что одно осознание того, что на нее смотрят, способно довести ее до экстаза.
И он вошел в роль насильника. Он вмял жертву в персиковый ворс, будто в шкуру медведя возле горящего костра; Агата стонала жалобно и страстно, плакала и звала Пандема в свидетели. Костя рвал на себе одежду; и в этот самый момент – кровь бухала в ушах, волосы прилипли к вискам – в Костиной голове раздался негромкий голос:
«Даша догадалась обо всем. Только что».
* * *
– …Говори, – сказал Алекс. – Можешь смотреть в камеру, можешь не смотреть. Отвечай: ты давно был знаком с этой женщиной?
Костя казался мокрым, хотя был сухой. Светлые волосы потемнели и поредели. Пушистые ресницы хлопали беспомощно и виновато:
– Я признаю свою ошибку. Я был не прав.
– Сколько лет ты с ней встречался?
– Почти семь лет, – Костя перевел дыхание. – С перерывами. Я расставался с ней, мы не виделись по целым…
– Семь лет, – Алекс обернулся на камеру. – Семь лет Пандем знал, что происходит, и ничего не предпринял, чтобы что-либо изменить.
– Погоди, – слабо запротестовал Костя. – При чем тут Пандем…
– Ценность, которой всегда считалась нормальная человеческая семья, утрачена безвозвратно. Да, эта ценность знавала тяжелые времена – чего скрывать, мы сами жертвовали ею… чтобы снова к ней вернуться. Профессия проститутки могла приносить барыши – но в глубинных слоях общества, в консервативных кругах, в народных, я не боюсь этого слова, кругах, быть проституткой всегда считалось стыдным… Что теперь?
Алекс выдержал эффектную паузу – три секунды – и махнул рукой оператору. Обернулся к Косте:
– Все. Свободен. Спасибо.
Костя хотел что-то сказать – но не нашелся. Побрел к выходу из студии; Алекс забыл о нем. Он видел программу целиком; он давно вынашивал эту идею, и материал был отснят заранее, а тут очень кстати подвернулась история с Костиными изменами. Уговорить Дашу на интервью пока не удавалось. Пока. Алекс был уверен, что и к ее сердцу найдет дорожку и что программа получится сильной. После этих его слов – «Что теперь?» – пойдет материал, отснятый в десятках публичных домов, откровения замаскированных посетителей – мозаика на месте лица действует на зрителя завораживающе… Все эти сеновалы, дворцы, бассейны с гротами, весь этот роскошный приют утонченнейшего разврата… Мужчины, может быть, просто переглянутся, зато женщины – да, Алекс рассчитывал на женщин, они были адресатами этой программы…
Он остановился на полдороге из студии в свой кабинет.
Мороз прошел по спине. Эхо давнего сна.
– Ты меня не запугаешь. Ты – меня – не запугаешь. Если понадобится, я поставлю камеру в своей спальне, засниму себя в кошмаре и пущу в эфир – с соответствующими комментариями…
«Я тебя не трогаю. Ты сам вспомнил».
– Что с вами, Александр Максимович? – испуганно спросила девочка-ассистент.
ГЛАВА 13Ким разглядывал рисунки старшего сына.
Их было много – Арина собирала тщательно, начиная с самых первых, бережно складывала в альбом, и вот теперь Ким мог воочию наблюдать, как крепла Виталькина рука и развивалось представление о мире. Если в три года он рисовал двух человечков – одного на поле среди кривеньких ромашек, а другого над его головой, то в последних рисунках уже можно было узнать знакомое лицо с высокими скулами, впалыми щеками, с приподнятыми уголками рта.
Пандем, как его видит Виталька.
Вот лес. Тщательно выписаны все известные художнику породы деревьев. С каждого ствола смотрит одно и то же лицо – угадывается в очертаниях коры, в черных отметинах на белой березе, в расположении сучков. Арина права – мальчик талантлив. И учительница музыки говорит то же самое…
Вот город. Ленты магистралей, цветные тени машин, люди с улыбками на лицах, дети с мячами, с цветами, со школьными сумками. Надо всем этим – склоненное лицо. Тоже узнаваемое. Виталька рисовал его тысячу раз: Пандем в окне, Пандем на экране телевизора, Пандем в зеркале, и, как воплощение затаенной мечты – Пандем в обнимку с самим Виталькой, Виталька у Пандема на плечах…
Только на нескольких рисунках Ким обнаружил себя, Арину и Ромку. И почти везде все они стояли, замерев, будто позируя, взявшись за руки, улыбаясь.
«Он воспринимает вас с Ариной как часть самого себя».
Ким вздохнул.
* * *
Праздновали громко и весело. За десять лет прежние свадебные ритуалы успели смениться новыми, а поскольку жених и невеста были, по сути, подростками, то и веселье больше походило на детский день рождения, нежели на свадьбу, какой ее помнил Ким. Шурка и его будущая жена Вика наприглашали всех своих одноклассников и однокурсников, соседей, приятелей и просто знакомых; в полдень состоялся собственно обряд – жених и невеста поднялись на живописный пригорок, покрытый белыми цветами, по очереди произнесли формулу супружеской клятвы и обменялись кольцами; грянул невидимый оркестр, толпа знакомых и родственников обрадовалась громко и энергично, и тут же началось всеобщее празднование.
Веселились в городке аттракционов, купались в открытых бассейнах, ели, пили и пускали кораблики, катались на лошадях и верблюдах, устраивали фейерверки, без устали желали новобрачным любви и процветания. Всякий находил себе собеседников: Александра собрала вокруг себя средних размеров толпу и просвещала гостей о пресловутом проекте «Рейтинги». Арина раздаривала керамические украшения и взяла первый приз, стреляя из лука в яблоки на веревочках. Виталька скоро куда-то исчез с парой-тройкой других таких же пацанов. Лерка развлекала разговором папу и маму, специально ради свадьбы внука прилетевших из Индии, где они теперь жили. Даша бродила среди толпы с царственной грустью на лице; Костя сказался больным и не пришел. Алекс…
«Какого черта? – спросил тогда Ким. – Зачем выносить на публику? При том, что Дашка его бросила и почти наверняка никогда не простит?» – «Ты его адвокат? – поинтересовался Алекс. – Или, может быть, адвокат Пандема?» – «Ну что тебе нужно от Пандема?» – устало спросил Ким. «Я мужчина, – Алекс неприязненно усмехнулся. – Мужик. С яйцами. Поэтому когда я вижу чудовище, я ищу, как его убить. Если я вижу бога, я ищу, как его свергнуть. Я всегда ненавидел поповские сказки и людей-овец».
– Ким?
Он вздрогнул. Алекс, легок на помине, обнаружился у него за спиной. Вот странно, Ким думал, что он так и не подойдет.
– Есть разговор, – сказал Алекс, напряженно усмехаясь. – К тебе. Как к почетному пандемоведу.
* * *
Трехлетний мальчик Рома Каманин строил город из песка. В отдалении визжали, катаясь с горок, гоняя на велосипедах и ныряя в фонтаны, малолетние Ромкины родственники, друзья родственников и дети друзей родственников – не прельщаясь всеобщим весельем, Рома выкладывал из спичек улицы, возводил дома с круглыми окнами, втыкал палочки-светофоры и бормотал под нос, и не заметил деда, Андрея Георгиевича Каманина, который подошел и остановился у него за спиной.
– Ромыч?
Мальчик обернулся.
– Давно не виделись, – неловко пошутил Андрей Георгиевич. Они и в самом деле не виделись довольно давно: если не считать сегодняшнего свадебного утра и позавчерашнего суматошного дня, они не виделись два с половиной года – дед помнил внука младенцем, внук помнил деда мягким расплывчатым облаком, голосом в трубке и человеком на фотографии.
– Что делаешь, Ромыч? – спросил дед.
– Играю, – тихо отозвался внук.
Дед опустился рядом на корточки:
– Это город, да? А ты строитель?
– А я Пандем, – пояснил мальчик. – А они, – он провел рукой, обозначая невидимых обитателей песочного поселения, – мои люди. Я с ними говорю.
– А-а, – сказал дед после паузы. – А я хотел тебе вот что…
И он, порывшись в большом кармане мягкой непраздничной куртки, вытащил книжку с картинками – все еще очень яркими, хотя книжка когда-то была куплена в подарок трехлетнему Киму Андреевичу.
Дед боялся, что Рома кивнет и вернется к строительству, – но Рома заинтересовался. Отряхнул руки от песка, мимоходом вытер ладони о штанишки; дед спрятал книгу за спину:
– Нет, так нельзя, надо руки помыть, это же книжка… Давай пойдем помоем руки, ты возьмешь апельсин или яблоко, и я тебе почитаю?
– Я и сам умею, – сказал Рома.
– Э-э-э, – дед кашлянул. – Знаешь, я тоже сам умею, но люблю иногда, чтобы мне почитали. Это интересно. Давай попробуем?
Рома подумал – и кивнул. Склонившись над своим городом, что-то пробормотал невидимым маленьким людям, поднялся с колен и последовал за дедом к рукомойне и потом – к белой скамейке под кустом сирени.
– …Царь с царицею простился, – начал дед. – В путь-дорогу снарядился…
Внук слушал, переводя удивленный взгляд с картинки на дедово лицо – и снова в книгу. Дед читал с выражением, вдохновенно, Рома молчал и слушал, лицо у него было сосредоточенное.
«Пандем?»
«Да, Андрей?»
«Он говорит с тобой?»
«Да. Он не может понять, почему они умирают».
Андрей Георгиевич осекся и перестал читать. Рома сидел тихо.
– Где? – тихо спросил дед.
«На него она взглянула, тяжелешенько вздохнула, восхищенья не снесла и к обедне умерла», – процитировал Пандем.
– Понимаешь, Рома… – начал было дед.
– Понимаю, – мальчик кивнул. – Мне Пандем уже объяснил. Это было в старые времена, когда люди умирали просто так.
Под сиренью стало тихо. На полянках смеялись и разговаривали: гости разбрелись по парку, развлекаясь кто как может. На невидимом за деревьями озере скрипели уключины.
– Ну, они не просто так умирали… – начал дедушка Андрей Георгиевич.
Рома вздохнул:
– Ты знаешь, деда… Это не совсем хорошая сказка. Она красивая, да. Но она неправильная. Мне Пандем рассказывает лучше.
* * *
Александра Андреевна Тамилова вечно оказывалась в центре внимания. Она не прилагала к этому усилий, но и не тяготилась таким положением дел: она просто была в центре внимания, легко и естественно, как жук на листе подорожника.
Ее программа «Рейтинг» процветала вот уже несколько лет. Вскоре после окончательного воцарения Пандема случился всплеск так называемой творческой энергии: все, кто неплохо рисовал в детстве, писал повести в школьных тетрадках либо пел хором на именинах и свадьбах, теперь получили возможность донести свое сокровенное до миллионов потенциальных ценителей, и в образовавшемся половодье как-то сразу утонули все меры, весы и критерии. По неписаному закону автор, как он ни канючь, не мог получить от Пандема ни похвалы, ни порицания: ищи понимающих, говорил Пандем, и кое-кто всерьез полагал, что Пандем «не разбирается в искусстве». На самом деле – и Александра это понимала – он просто уступал человечеству площадку для состязаний, стадион, где каждый свободно, без оглядки на авторитеты, мог помериться с ближним длиной шага, длиной языка, длиной… да чего угодно, ведь похвальба, предваряющая соревнование, для некоторой части человечества оказалась третьей – после хлеба и любви – важнейшей надобностью.
Пандем снял с себя обязанности судьи – но кто-то ведь должен устанавливать правила и оглашать результаты, поэтому критиков, анализаторов, знатоков и советчиков развелось едва ли не больше, чем собственно творцов. Понадобилось несколько лет, чтобы лучшие из них – острейшие, ярчайшие, образованнейшие, наконец – набрали вес и передавили прочих; Александрин клуб «Рейтинги» (телепрограмма, форум в сети, еженедельная газета, агентство новостей и постоянный совет экспертов) был сейчас одним из законодателей вкусов в области традиционных искусств, прибирал к рукам искусства нетрадиционные и провоцировал у конкурентов столь не любимую Пандемом зависть.
Александра стояла, окруженная стайкой гостей (сейчас, через полчаса после начала разговора, это была уже крупная стая гостей, если говорить начистоту). Обсуждали последний свемуз-конкурс; Александра улыбалась краешками губ. Поощренные ее вниманием, какие-то студентки – Шуркины приятельницы – рассуждали о жизни и об искусстве. Оказывается, они следили за конкурсом и видели почти все, что было на него представлено, и они были восхищены оригинальностью вышедших в финал композиций. Подумать только! Буквально за несколько лет родилось совершенно новое искусство, не принадлежащее ни музыке, ни живописи, ни скульптуре; да-да, свемуз – не синтез старых искусств, а нечто прин-ци-пи-ально иное!
Не отменяя прохладной улыбки, Александра объяснила девочкам – а на самом деле собравшимся вокруг зевакам-ценителям, – что девочки ошибаются. Ничего оригинального в свемузе пока не наблюдается: она, Александра, будет первой, кто зарукоплещет новатору, но пока – увы – имеем всего лишь механистический гибрид музыки со зрительно-тактильными фантазиями, нежизнеспособного уродца, недалеко ушедшего от своей шумной прародительницы – провинциальной дискотеки с мигающими лампочками.
Девочки, к чести их, быстро справились с шоком и даже продолжили разговор. Да, признали они, к сожалению, пока что свемуз остается просто набором зрительных ассоциаций, приведенных в соответствие с музыкой… Но зато как эмоционально, как ритмично, как жестко, как натуралистично, как брутально, как деструктивно, в конце концов – в каждой второй работе есть что-то от мнимо пережитой автором смерти…
Печально покивав головой, Александра сообщила девочкам, что те не имеют понятия ни о жизни, ни о смерти, равно как и авторы большинства конкурсных работ. Что если бы хоть кто-то из этих авторов, отягощенный проблеском таланта, смог воспроизвести в своей работе простое человеческое чувство – зарождение первой любви, например, – то она, Александра Тамилова, простила бы автору даже неизбежную в таких случаях банальность. Но нет: нынешние свемуз-деятели предпочитают фантазировать на тему выпущенных кишок, за что она, Александра Тамилова, приговаривала бы к порке на площади.
Девочки горячо согласились: да, молодой жанр переживает кризис. Уровень нынешнего конкурса – по сравнению с прошлогодним – упал «до ниже пола». На столь сером и скудном уровне выделяются искренностью простые фантазии о жизни, о любви…
Александра пожала плечами. Увы, многие нынешние авторы не в состоянии воссоздать ничего, выходящего за рамки ванной комнаты или душной спальни. Сложнейшая техническая база, немалая энергоемкость, колоссальные возможности для эмоционального воздействия – свемуз, одним словом, – и все это призвано служить обывательским представлениям о несчастье либо же, упаси Пандем, о счастье – о что за жалкие, утопающие в соплях потуги!
Девочки не смутились ничуть. Разумеется, именно это они и хотели сказать: среди нынешнего всеобщего дилетантизма трудно найти светлое пятно, мало кто понимает, что именно возвращение к великим традициям прошлых веков, а именно любовь в ее шекспировском понимании, и так далее. Александра безжалостно смотрела в их горящие глазки; слушателей становилось то больше, то меньше, но основная часть их не расходилась, заинтересованная.
Среди девочек случилось небольшое разногласие: блондинка продолжала настаивать на обязательной любви как литературном условии, брюнетка же, уловив нечто в Александрином взгляде, быстро поменяла позицию: современное искусство, говорила она, исподтишка подталкивая подружку коленкой, должно нести позитив, то есть звать людей в космос, потому что только романтика неоткрытых планет, только порыв человека в неведомое, только тот фронтир, на котором реализуются лучшие свойства человеческой натуры…
– И любовь, – добавила брюнетка.
– И любовь, – со вздохом подтвердила Александра. – Простите, милые, что не могу уделить вам больше времени, но у меня здесь есть и другие обязанности, все-таки женится мой сын…
Толпа загалдела, запоздравляла, кое-где зааплодировала. Александра, все так же отстраненно улыбаясь, выбралась из теплого дружеского круга.
Механически убирая со лба волосы. Думая о другом.
* * *
– Санька, а что с Алексом? – спросила Лерка, присаживаясь рядом на скамейку. Скамейка висела на цепях, как Белоснежкин гроб.








