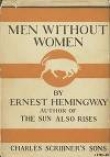Текст книги "Над пропастью во сне: Мой отец Дж. Д. Сэлинджер"
Автор книги: Маргарет Сэлинджер
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
В каждой книге напряжение снимается открытием того, что «мы – одно»: те же слова приводил и раввин Файн. Страдающий герой уже не должен биться над проблемами истории или над проблемами меньшинства, как героиня «Затянувшегося дебюта Лоис Тэггет», или Лайонел из рассказа «В лодке», или Холден с его «полукатолическим» происхождением, или мой отец, которого ранило то, как «принято было говорить», по словам моей тети. Мы – одно.
Но выдуманное решение рассыпается в прах при первом соприкосновении с реальностью. Одно дело слиться с человечеством, даже с одним человеком, пережив общий экстаз, общее ликование, и совсем другое – прожить с ним или с ней следующее утро, и потом жить день за днем, неделя за неделей. Пьер Абеляр уходит из зеленеющего монастырского сада, уводя за собой чистую молодую девушку, едва не принявшую постриг, и сразу за воротами обнаруживает, что она превратилась в мешок со слизью, грязью и испражнениями.
Из разговора, переданного одной молодой женщиной, видно, как отец попался в сети своих собственных головоломок. Она ему рассказывает о концерте народной песни, на котором побывала:
«На несколько минут возникло такое чувство, будто все в этой комнате – добрые люди. Мы все вдруг стали друзьями. Я оглядывалась вокруг и всех любила. Было легко и приятно чувствовать так». – «Но песня кончилась, полагаю? – сказал Джерри с такой горькой язвительностью в голосе, что я удивилась. – Вот в чем подвох. Несколько куплетов еще можно продержаться, а потом каждый начинает вспоминать, что сосед его бесит до чертиков» [125]125
Мейнард Д. В мире как дома: Воспоминания. Нью-Йорк: Пикадор, 1998. С. 158.
[Закрыть].
Отец не мог лучше описать свою реальную жизнь, во всем противоположную миру его произведений. Я не раз наблюдала, что его эпифанические опыты ликования и единства со всем сущим похожи скорее на «радость, жидкое», чем на «счастье – твердое тело» [126]126
Голубой период де Домье-Смита.
[Закрыть]. Наутро они ускользают из пальцев, как туманные видения сна.
Выйдя за пределы вымысла, отец способен держаться за свое «мы – одно» лишь худо-бедно, да и то только в затворничестве. Здесь и проявляются два значения слова «затворничество»: то, что для одного – избранный добровольно приют отшельника (уединенная жизнь), для другого становится тюрьмой (заточение). Чтобы исполнилось обещание, данное Парамахансой Йоганандой, и отец мог бы сочетать затворническую религиозную жизнь с жизнью женатого мужчины, реальные девушки и молодые женщины, к которым его влечет, должны стать частью его мечты, его снов.
Чтобы стать единой с ним, каждая оставляет свой прежний мир, свои надежды и мечты и присоединяется к его миру, его мечтам. Вспомните, как рассказывал Йогананда историю брака любимого йога моих родителей, Лахири Махасайи, то место, где жена вспоминает, как открылась ей божественная природа супруга:
«Господин», – вскричала я… – я умираю от стыда, уразумей, что оставалась погруженной в сон невежества рядом с божественно пробужденным. С этой ночи ты больше не муж мой, но мой гуру. Примешь ли ты меня, ничтожную, к себе в ученицы?»
Я часто задавалась вопросом, как жены и возлюбленные отца, умные молодые женщины, столь много обещавшие, могли, подобно нимфе Эхо из древних мифов, развоплотиться, утратить себя. Но по зрелом размышлении пришла к выводу, что прошлое, детские годы сделали их необычайно, до крайности беззащитными – детство моей матери, истинный плач по страданиям неприкаянного ребенка, которого носит по волнам морским, яркий тому пример – и траектория их вхождения в мир моего отца ничем не отличается от типичного, стандартного вхождения в секту.
Моя мать оставила все и вышла за отца как раз перед последним семестром выпускного класса в Рэдклиффе. Именно в такое трудное время – первая неделя занятий, например, когда новенькие часто чувствуют себя одинокими и потерянными в чуждой, непривычной среде, или последние недели перед экзаменами, когда многие студенты ощущают сильный стресс и неуверенность в будущем, – распространители культов разворачивают особенно активную и успешную деятельность в кампусах [127]127
Комитет по взаимосвязям еврейской общины Филадельфии, «Вызов сектам». Смотри также доктор Сэнди Эндрон, молодой директор программы в Центральном агентстве по еврейскому образованию в Майами, в книге Эндерса и Лейна «Культы и их последствия».
[Закрыть].
В такое неверное, опасное время распространители культов прибегают к весьма притягательной стратегии, которую исследователи называют «бомбить любовью» [128]128
Доктор Льюис Дж. Уэст и доктор Маргарет Тэлер Сингер в книге «Секты, шарлатаны и непрофессиональные психотерапевты» включают эту стратегию в десять ключевых пунктов индоктринации. О том же смотри: Артур Доул, профессор психологии воспитания Пенсильванского университета, в книге «Культы и их последствия». Джойс Мейнард в своих мемуарах вспоминает раннюю стадию ее отношений с моим отцом. Она ему рассказывает, что подписала договор на книгу, «ожидая, что новость вызовет досаду, но он не высказывает ни малейшего порицания. Это ему доставляет удовольствие, он меня поддерживает, вдохновляет… Письмо, которое Джерри пишет в ответ на мое, как всегда, начинается с теплой, полной любви оценки того, что я написала… Он называет мое письмо из Майами прекрасным. Когда он читает (ее письма), в нем, как он говорит, оживает глубокая любовь к писанию, которая в последнее время нечасто посещает его».
[Закрыть]: эти люди искренне улыбаются, смотрят вам прямо в глаза, держат за руку, всячески выражают великую приязнь; эту безусловную, всеобъемлющую любовь во всей ее ослепляющей мощи трудно описать, если только ты сам не был пленен ее светом, – но мало найдется людей, не способных ощутить ее зов. Разумеется, можно понять, что и мама была полна священного трепета, глубоко тронута вниманием тридцатилетнего писателя, который писал письма ей, ученице выпускного класса средней школы. А вот это мне понять труднее: как она могла бросить все и последовать за ним, как оказалось, что ее оплели «побеги, прочные, как плоть и кровь», и не отпускали даже после того, как она стала более критично смотреть на вещи. И здесь я тоже нахожу классическую схему. Ее изучают под разными названиями – контроле за средойили тотализм, например, – но сам метод не меняется. Основной элемент этой, на первый взгляд таинственной, «пляски призраков» – затворничество. Оранжерейныи цветок мечты не может выдержать ярости стихий вне охранительных стен. Такие отношения, такая система верований не может выдержать испытания реальностью. Таким образом, «возможность обращения становится гораздо выше, если секта в состоянии держать под контролем окружающую индивидуума среду и все каналы коммуникации» [129]129
Доул А. Культы и их последствия.
[Закрыть]. Методы разнообразны и включают в себя контроль над всеми формами коммуникации с окружающим миром, лишение сна, перемену пищи, выбор тех, с кем можно видеться и говорить; субъекту внушают, что он избран для особой роли в божественном миропорядке, а для этого нужна чистота; его/ее убеждают в том, что ранее они были полны скверны, а теперь необходимо очиститься, чтобы достичь совершенства; затем им преподают «священную науку» и внушают, что верования, принятые группой (или отдельным человеком), – единственно истинная, разумная система, а потому следует ее принять и ей подчиняться; все, кто с нею не согласен, обречены [130]130
Лифтон Р. Дж. Реформа мысли и психология тотализма. Нортон Пресс, 1963.
[Закрыть]. Разрыв с прошлым, с семьей, с друзьями, с собственной личностью представляют собой, как считает бывший советник, офицер полиции Марк Роджемен, самый важный шаг в установлении контроля над человеком [131]131
Марк Роджемен, офицер полиции из Колорадо, конгрессмен – Служба защиты от культов; Эндерс и Лейн. Культы и их последствия». Глава 3. С. 16.
[Закрыть].
Лейла Хедли, писательница, с которой отец изредка встречался незадолго до того, как познакомился с Клэр, размышляя об их отношениях, сказала так: «Думаю, ему нравилось унижать меня. Был в этом какой-то оттенок садизма… Он был очень похож на героя «Перевернутого леса», Рэймонда Форда… Он обладал не сексуальной, а умственной притягательностью. Ты чувствовала, что он может тебя заточить силой ума. Твой ум был в опасности, а не добродетель» [132]132
Гамильтон И. Сэлинджер. С. 126, 127.
[Закрыть].
Я вспоминаю об этом, когда мать рассказывает мне, как отец за ней ухаживал: «Весь мир заключался в твоем отце – в том, что он сказал, написал, помыслил. Я читала те книги, какие он велел, а не те, что задавали в колледже, смотрела на мир его глазами, жила так, будто он все время наблюдал за мной». Когда Клэр отказалась оставить колледж по первой просьбе Джерри, и он ее покинул, возникло такое сильное чувство заброшенности, что мать, по ее словам, отдала бы все, лишь бы только быть с ним, – но нигде не могла его отыскать. Она оказалась в больнице, на грани нервного срыва, а потом очертя голову выскочила замуж за другого [133]133
Джойс пишет о разрыве с моим отцом: «Сегодня Джерри Сэлинджер – для меня единственный человек во вселенной. Я жду, пока он мне скажет, что мне писать, что думать, что носить, что читать, что есть. Он рассказывает мне, кто я такая и кем должна быть. Назавтра он уходит… Джерри нет рядом, он не ведет меня, и я чувствую себя покинутой, брошенной, не просто одинокой физически, но потерянной духовно. Всю жизнь я была одинока, мне хорошо знакомо это чувство. Но так, как сейчас, не было никогда». (В мире… с. 211).
Корреспондент «Эсквайра» взял у Джойс интервью в первую зиму после их разрыва. Он писал: «Она чиста, этого нельзя не заметить… Она сплетает руки и садится у огня, в кресло-качалку…» (с. 223).
[Закрыть]. Когда мой отец снова появился в ее жизни, она поистине делала все возможное, чтобы сохранить его любовь, но время шло, и угождать ему становилось все труднее. Она чувствовала себя так, говорила мать, будто попала в страшную сказку: выполнишь одно требование – возникнут новые, до бесконечности. Хотя Клэр довольно рано уверилась, что сама, невзирая на все усилия, уже не способна подняться в глазах отца на прежнюю высоту, ей все же казалось, что, родив ребенка, – ведь всем известно, как Джерри любит детей, – она хотя бы частично вернет утраченное положение [134]134
Джойс тоже в конце концов уверилась, что не способна достичь «чистоты», какой ждал от нее мой отец, так что, с грустью отмечала она, не стоило и пытаться соответствовать образцу. «Единственная надежда на искупление, – пишет она, – это – родить ребенка. Для меня иметь ребенка от Джерри означало бы прожить детство, которого у меня не было и о котором я так мечтала. Если я сама не могла быть тем ребенком, какого он хотел бы видеть, я буду самой близкой его родственницей. Если я сама по себе не могу ему нравиться – а все говорит о том, что это так, – я подарю ему другое существо, которое будет совершенным во всем, в чем я совершенной быть не могу… Он никогда не бросит меня, потому что я – мать ребенка». (В мире… с. 167, 168).
[Закрыть]. Она была потрясена, впала в депрессию и чуть не дошла до самоубийства, когда обнаружила, что ее беременность лишь отталкивает Джерри, и он все глубже забирается в чащу леса, где после бесчисленных часов тяжелейших родов на свет появляются двое детей Глассов: «Фрэнни», повесть, опубликованная в «Нью-Йоркере» в январе 1955 года, а за ней, в ноябре, – «Выше стропила, плотники».
В конце того же года, 10 декабря, родилось еще одно дитя, безвременно оторванное от отцовского воображения. Меня чуть было не назвали Фиби, как любимую сестренку Холдена, однако мать настояла на своем, и в последний момент мне дали имя, которое я ношу, Маргарет Энн, сокращенно – Пегги. Со временем, конечно же, у отца появилась другая версия по поводу выбора имен. Летом 1997 года, когда мы с братом навещали его, он сказал, что, если бы не Клэр, «я бы, ребята, не дал бы вам никаких имен: вы бы сами себе их придумали лет в двенадцать». Сейчас у него три кошки, которых зовут Киса 1-я, Киса 2-я и Киса 3-я.
Через целое поколение после того, как моя мать забеременела, когда я уже стала взрослой, мне довелось обнаружить, что отец все еще живет мечтами и снами, не желая иметь дела с реальными детьми. Поскольку я прошла через все это ребенком и поскольку теперь я сама – мать и имею весьма реального сына, тяжелее всего мне было прочесть в мемуарах Джойс Мейнард, что все осталось по-прежнему. Несмотря на проблему, о которой упоминает Джойс – на невозможность сексуального контакта, – она пишет:
«Мы все больше и больше говорим о ребенке, и когда мы говорим о ребенке, это всегда девочка. Мы не говорим о том, где станем жить, во что превратят наши дни заботы о малыше; мы даже не обсуждаем, как Мэтью и Пегги посмотрят на это; даже не задаемся вопросом, где в маленьком, тесном доме ребенок будет спать и играть, хотя, конечно же, такие вопросы вставали перед Джерри раньше, когда он жил со своей женой Клэр и родились Мэтью и Пегги, да и в последующие годы, когда дети были маленькими, вплоть до развода. Я не спрашиваю, как нам удастся избежать прививки, хотя знаю, что в этом вопросе Джерри будет неколебим. Может быть, она просто не будет ходить в школу.
«Построю ей кукольный дом, – говорю я. – Мы наделаем кукол и мебели, и игрушечной еды из кукурузного крахмала, теста и пищевых красителей». Я ему рассказываю, как мама делала пироги для моих Барби…» [135]135
Мейнард Д. В мире как дома: Воспоминания. Нью-Йорк: Пикадор, 1998. С. 168.
[Закрыть]
Проблема (их неспособность иметь интимные отношения) остается, даже усугубляется, поскольку никто не пытается справиться с нею, хотя разговоры о ребенке дошли уже до того, что ему выбрано имя. Странное имя – если вообще имя.
«Мне приснилось, что у нас с тобой родился ребенок, – сказал он мне однажды утром. – Я ясно видел лицо девочки. Ее звали Бинт».
Джерри смотрит в словарь. «И что бы ты думала? – говорит он. – Это – старинное британское слово, оно значит «маленькая девочка». С тех пор мы называем нашего будущего ребенка именем, которое приснилось Джерри» [136]136
Мейнард Д. В мире как дома: Воспоминания. Нью-Йорк: Пикадор, 1998. С. 177.
[Закрыть]
Теперешняя жена отца, Колин – гэльское слово, которое значит «молодая девушка», – встретилась с отцом, когда ей было чуть больше двадцати; он на пятьдесят лет старше; она смотрит на меня ясными голубыми глазами, мило улыбается, ее чудесная персиковая кожа так и светится в обрамлении рыжевато-золотистых волос, подстриженных «под эльфа», – не хватает только форменного платьица католической школы – и эта девочка говорит мне, сорокалетней, что они с отцом пытаются завести ребенка. Я начинаю рассказывать ей, что значит для ребенка такое затворничество; я спрашиваю – собираются ли они переезжать? Я упоминаю о том, что отцу уже почти восемьдесят. А потом умолкаю, чувствуя, что говорю об ответственности и о последствиях поступков с девушкой, слишком юной, чтобы даже ощущать зов плоти, вторгаюсь с моим хромым рассудком в мечту, в сон, в мерцание лунного света.
Бью по столу и говорю:
– Для жен с мужьями ты проклятьем стала,
Спознавшись с тем,
Кто хуже всех на свете;
В ответ я слышу: волосы его
Красивы, и, как зимний ветр,
Пронзительны глаза и беспощадны.
У. Б. Йейтс, Отец и дитя [137]137
Перевод В. Топорова.
[Закрыть]
Часть вторая
Корниш: 1955-1968
7
Ребенок во сне и наяву
«Зачем только я полезла в эту кроличью норку.! И все же-все же… Такая жизнь мне по душе – все тут так необычно! Интересно, что же со мной произошло? Когда я читала сказки, я твердо знала, что такого на свете не бывает! А теперь я сама в них угодила! Обо мне надо написать книжку, большую, хорошую книжку. Вот вырасту и напишу… – Тут Алиса замолчала и грустно прибавила: – Да, но ведь я уже выросла… По крайней мере, здесь мне расти больше некуда».
Кролик считал, что все его беды оттого, что он опаздывает. Я тоже родилась с опозданием на три недели и вся желтая, с черными-пречерными волосами. Когда медсестра вынесла меня счастливому отцу, он заорал: «Вы принесли не того младенца! Поглядите, это же китайчонок!»
Позже, когда меня разрешили забрать домой, я шокировала его еще раз. Отец бережно взял меня на руки – и вдруг с криком отбросил в сторону. «Хорошо, – говорила мать, – что ты ляпнуласьна подушку». Это происшествие зафиксировано в семейном фольклоре следующим образом:
В первых строках повести «Выше стропила, плотники», опубликованной за месяц до моего рождения, Фрэнни Глас – уже не ученица колледжа, ровесница Клэр, а новорожденный младенец. Малютка Фрэнни просыпается с плачем в два часа ночи. Ее старший брат Симор, который где-то с час назад уже грел ей молоко и кормил из бутылочки, теперь, чтобы успокоить девочку, начинает читать ей даосскую легенду. Фрэнни не только тотчас же перестает плакать, но годы спустя «клянется, будто помнит, как Симор ей читал». Автор сообщает нам, что полностью воспроизводит даосскую легенду в начале своей повести «не только потому, что всегда неизменно и настойчиво» рекомендует «родителям и старшим братьям десятимесячных младенцев чтение хорошей прозы как успокоительное средство».
А я не соответствовала миру отцовских произведений. Я не была «немой», и невозможность «спрятать» меня где-нибудь превратила его жизнь в кошмар. Отец рассказывал моим крестным, судье Лернеду Хэнду [141]141
(Биллингс) Лернед Хэнд (1872–1961). За пятьдесят два года своей карьеры был окружным судьей, судьей Кассационного суда и верховным судьей (1939–1951) Второго кассационного суда США; составил около трех тысяч судебных решений, касающихся практически всех областей юриспруденции. Его решения ценились так высоко, что он стал известен как «десятый судья» Верховного суда Соединенных Штатов. (Выписка из «Кто есть кто в Америке»).
[Закрыть]и его жене, как ужасен был первый месяц, потому что я непрерывно плакала, как они впали в панику, заведя ребенка в такой глуши. «Мы чуть было ее не отдали», – сказал отец. Он даже начал строить себе отдельную хижину за четверть мили от нас, в лесу. А потом периодически затворялся там на несколько дней, оставляя нас с матерью одних в доме своей мечты на опушке леса.
Каким-то чудом я осталась жива, чтобы свидетельствовать – мать не уморила меня. Но она была очень-очень к этому близка. Она решила не подвергать меня тому, что вытворяли с ней в детской няньки и гувернантки. Нет: она сама будет читать мне, петь песенки, кормить грудью и постепенно, без ругани приучать ходить на горшок. Она надеялась, она мечтала о том, что мое детство будет не таким, какое выпало на ее долю, оно и было другим, но трудно воплотить мечту в реальность без помощи и подсказки, без соседей и друзей, одной среди леса. Особенно когда никто о тебе не заботится, когда ты глубоко подавлена и подумываешь о самоубийстве.
Мать не может вспомнить подробностей первого года моей жизни. Все подернуто темной пеленой. Но она прекрасно помнит, что с тех пор, как отец привязался ко мне (мне было четыре месяца, и я все время улыбалась; он тогда говорил Хэндам: «Мы радуемся каждому дню»), на се долю стало перепадать все меньше и меньше его внимания. Я заняла ее место в сердце отца, и она признает, что ревновала и бесилась, а поэтому в последующие годы наказывала меня с особой жестокостью.
Отец пожаловался Хэндам, что я «все время болею», сообщил, что всю зиму мы никого не видели, но не сказал, что меня даже не возили к врачу. Он внезапно пристрастился к «Христианской науке [142]142
Christian Science – «Христианская наука» – протестантская секта. Основана на вере в духовное излечение с помощью Слова Христова от всех физических и духовных грехов и недугов.
[Закрыть]», и теперь нам следовало избегать не только друзей и знакомых, но и сторониться докторов [143]143
Я просматривала копии их налоговых деклараций – там указана оплата услуг лекарей из «Христианской науки»; надо думать, они молились за меня на расстоянии.
[Закрыть]. Мы были совершенно изолированы, никто не знает, что, когда моя мать погружалась в бездны депрессии, в сумрак забвения, я оставалась совершенно одна очень надолго.
Отец тем временем у себя в хижине писал «Зуи», продолжение «Фрэнни». Повесть кончается тем, что Фрэнни, только что оправившаяся после нервного срыва, лежит дома на диване, глядит в потолок и улыбается. Симор исцелил ее своим откровением о том, что все мы – это сам Христос.
А мать моя в Красном доме на опушке леса тоже лежала на диване, но она вовсе не улыбалась, глядя в потолок. У нее было расстройство посерьезней, и никакой Симор не спешил ей на помощь со своими целительными откровениями. В середине зимы 57-го, когда мне было тринадцать месяцев, душевная боль матери, цепкая и упорная, стала совершенно невыносимой. С «железной логикой страны снов» она принялась строить планы – убить меня, а потом покончить с собой.
Несколько недель мать тщательно прорабатывала все детали детоубийства/самоубийства. Приближалась вечеринка журнала «Нью-Иоркер»: этим «приглашением в Рим» отец тогда еще не мог пренебречь. Она решила поехать с ним и там, в гостиничном номере, на глазах потрясенного супруга вышибить себе мозги. То есть она, Клэр, а не вымышленный Симор пойдет «ловить рыбку-бананку». Но вмешалась какая-тосила. Что это было? Чистое везение? Милость Божья? Внезапное пробуждение материнских чувств? Лахири Махасайя? Когда отец куда-то отлучился, мать сбежала из гостиницы, прихватив меня с собой, будто кто-то что-то шепнул ей на ухо.
Материн отчим снял ей квартиру, нашел психиатра, а для меня пригласил няню [144]144
Имена врачей и истраченные суммы обозначены на копии налоговой декларации за следующий год, когда отец вернул деньги «дяде» Эдварду, как мы называли нового мужа моей овдовевшей бабки.
[Закрыть]. Мать говорила, что наша жизнь сложилась бы совсем по-другому, если бы через четыре месяца отец не приехал в Нью-Йорк и не стал уговаривать
158
ее вернуться. И Клэр вернулась, потому что ее психиатр – «патерналист, сексист и фрейдист» – сказал, что так будет лучше для ребенка. Мать по сей день сожалеет, что у нее не хватило духу остаться в Нью-Йорке и порвать деструктивные, как она тогда уже поняла, отношения. Она не излечилась до конца, но все же эти четыре месяца позволили ей прийти в себя. Со мной занималась исключительно няня – ухаживала, водила в парк. Мать смогла отдохнуть, это придало ей силы, и она даже сумела настоять на своем: возвращение возможно лишь на определенных условиях – у меня должны быть друзья, с которыми я могла бы играть; у неедолжны быть друзья, с которыми она могла бы играть; отец должен пристроить к дому отдельную детскую и разбить лужайку – презренная буржуазная мишура – и, конечно же, ей должно быть позволено возить меня к врачу для регулярных осмотров и в случае болезни. Отец согласился.
Когда летом 57-го Клэр вернулась в Корниш, и лужайка, и детская находились в зачаточном состоянии. Мать занималась проектированием, а отец – воплощением. Он не верил в честность и чистоту строителей с хорошими рекомендациями. (Отец часто путал честность с невежеством, простодушие с непрофессионализмом.) И отдал предпочтение каким-то «неиспорченным» парням, которых мать определила «дремучей деревенщиной», и которые ничего не понимали в плотницком деле. В результате крыша у них получилось такой, что с нее надо было обязательно сбрасывать снег, чем мать и занималась после каждого снегопада. Всю долгую зиму в детской в стратегических позициях были расставлены ведра, куда капала вода с потолка. Потолок в ржавых пятнах, в концентрических кругах, какие рисует дождь на нашем пруду. Неокрашенные стены из шлакоблоков. Электропроводка под плинтусом. Мать рассказывала, что комнату «было адски трудно согреть, но, по крайней мере, я хоть куда-то могла тебя сунуть».
Когда летом отец писал Хэндам, он ни словом не обмолвился о зимних событиях. Похоже, мирская суета докатилась и до Шангри-ла [145]145
Прежнее название резиденции президентов США, данное Ф. Рузвельтом, в русской транскрипции – Шамбала. Впоследствии переименована в Кемп-Дэвид. (Ред).
[Закрыть], но вместо того, чтобы что-то конкретное предпринять, отец просто заменяет одну мечту на другую, прежнее желание – новым. Он сообщает Хэндам, что хочет перебраться с семьей в Шотландию, и объясняет: Клэр тяжело живется в Корнише, особенно долгими зимами, и лучше поселиться на окраине шотландской деревушки, где можно было бы навещать викария, ходить к соседям на чашечку чая и приглашать их к себе. Обо мне он пишет так: моя Пегги медленно и задумчиво танцует с плюшевым медведем под джаз, который передают по радио.
Я была слишком мала, чтобы осознавать, в какой изоляции мы с матерью жили, но с неистовством, порожденным застарелым голодом, я наслаждалась посещениями тех немногих людей, которые приезжали к нам в Корниш. После обставленного условиями возвращения матери – ее «бунта», как она это называла, – небольшая горстка людей попала в «санкционированный список» тех, кому было позволено переступать порог. Первым посетителем, которого я помню, был отец Джон, священник, единственный мужчина, которому было разрешено переночевать в нашем доме, пока мои родители состояли в браке. Однажды, когда мне еще не исполнилось трех лет, папа повез меня в джипе на станцию Виндзор, штат Вермонт, встречать отца Джона. Случай из ряда вон выходящий, потому что было уже поздно, мне давно пора было спать, а нарушить режим сна, установленный матерью, можно было только по особому декрету самого Папы Римского.
Я крепко держалась за отцовскую руку, когда мы шли через весь вокзал к перрону. У меня слегка кружилась голова: вокруг меня шагали ноги, целое море ног. В просветы между ними пробивались слепящие лучи, будто солнечный свет сквозь толщу воды, но это, наверное, были люминесцентные лампы, ведь дело было ночью. Глядя на царящую вокруг суету, я, полусонная, качалась как морская трава. Внезапно поезд, истошно вопя, въехал под своды вокзала, разорив дотла все мои видения. Меня сшибли с ног, потом подняли в воздух. Я спряталась у отца на груди. Последнее, что я видела перед тем, как наступила темнота, был водоворот ног, чемоданов, людей. Истошно вопящий поезд, вместо того чтобы смять нас в лепешку, уткнулся в куртку отца, застыл и попятился, встретив неодолимого соперника.
Все последующие годы, услышав гудок паровоза, доносящийся снизу, из долины, отец неизменно рассказывал историю о Пегги и ночном поезде. Только в его версии, как только паровоз засвистел, я бросилась к нему на руки, съежилась под курткой и больше не показывала носу. В реальности было не совсем так. Но как только он, мой отец, по ходу рассказа воспроизводил низкий рокочущий звук, я прятала голову к нему под куртку, прижималась ухом к груди и проживала конец истории в безопасном месте, куда не долетают слова, где пахнет яблоневым дымом от очага в его хижине и балканским трубочным табаком «Собрание»; где голос отца звучит, как колыбельная песня.
На следующее утро я проснулась, услышала голоса и пошла на непривычный шум. Отец Джон сидел на кухне и разговаривал с матерью. Он повернулся ко мне и поздоровался. Хорошо помню, как терпеливо он ждал, пока я подойду поближе: так меня учили приручать зверушек в лесу. «Я привез тебе маленький подарок. Отдать прямо сейчас?» Я кивнула. «Да, пожалуйста, Пегги», – поправила мама, Я повторила: «Да, пожалуйста», уселась и сама развернула пакет. Там, в слоях тонкой оберточной бумаги оказалась фарфоровая чашечка, синяя с белым. Красивая, тонкая вещь – для меня. Когда я взяла чашку в свои неловкие ручонки, по которым вечно хлопали, чтобы они не лезли, куда не надо, они словно бы вдруг умастились, стали чистыми, белыми, изящными, как тихо падающий снег.
Я полюбила отца Джона без размышлений и колебаний, по зову души, так же, как растение тянется к солнцу. Я полюбила его, как поется в детском гимне о любви Иисусовой, просто потому, что «Он полюбил меня первым». Отец Джон нечасто навещал нас, а когда мне исполнилось пять лет, его отправили куда-то в южные моря. Мы никогда больше не виделись. Мать недавно сказала, что он время от времени присылал мне маленькие подарки– диковинные вещицы, вырезанные из скорлупы кокоса или сплетенные из водорослей. Я их не помню, но я никогда, никогда не забывала, что отец Джон меня любил.
К нам приходили очень немногие и очень редко. Привилегией приходить когда заблагорассудится, кроме отца Джона, пользовалась только одна дама. Старая миссис Кокс (мать Арчибальда Кокса; и сама женщина незаурядная) прежде проводила только лето в Вермонте, но после смерти мужа жила в Виндзоре круглый год. У нее было красивое обветренное лицо, густые седые волосы, которые она зачесывала назад и собирала на затылке в простой узел. Миссис Кокс навещала нас даже тогда, когда визитеры не допускались. Услышав от кого-то, что моя мать живет одна среди холмов с новорожденным младенцем, она, как настоящая американка, поджала губы, нацепила толстую шерстяную юбку, надела удобные туфли и отправилась с визитом к молодой мамаше. Мать говорит, что миссис Кокс высказывала папе все, что она думала, не обращая внимания на чепуху, какую он городил [146]146
Примерно так же Великая Мать выдуманного отцом семейства Глассов, Бесси Гласс, вела себя по отношению к своим сыновьям, любящим уединение.
[Закрыть]. Тем не менее матери до самого ее «бунта» не дозволялось отдавать визиты миссис Кокс. Но после мы бывали в ее доме, и я хорошо помню припахивающий дымом китайский чай, красивый серебряный чайный сервиз и сахарницу, до краев полную белыми кубиками, которые дома были под запретом; здесь миссис Кокс разрешала мне брать их маленькими серебряными щипчиками и по одному бросать в мою чашку чая с молоком. Понятия не имею, как она, ее чайный сервиз, ее красивый дом с настоящим садом и статуями очутились в рабочем городке Виндзоре. Мне кажется, что она просто захотела всего этого, и предметы тут же материализовались.
Она была такой сильной натурой, что, сколько я помню себя, у отца не хватало духу отклонять ее приглашения. Пока она была жива, он покорно спешил на зов и неизменно участвовал во всех ее сезонных мероприятиях: пикниках на Четвертое июля, игре в софтбол [147]147
Softball – спортивная игра, вариант бейсбола с более крупным мячом и упрощенными правилами. (Ред.).
[Закрыть]на День труда, коктейлях на Рождество и тому подобное. Мой отец ненавидитпраздники. Даже воскресный день доводит его до остервенения, потому что не приходит почта. И лето, само по себе – сплошной праздник, всегда его угнетало. Отец говорил, что оно «напоминает ему рыжего, веснушчатого мальчишку, уплетающего мороженое». Стоит ему представить себе такого мальчишку, как его всего передергивает. (Иногда, когда злюсь на него, я воображаю целую рать таких веснушчатых героев Норманна Рокуэлла у его порога.) Пока мы жили вместе с отцом, праздники миссис Кокс были единственными, которые он посещал.
С того времени, как мне исполнилось три года, и примерно до моего пятилетия, в «санкционированный список» входила семья Билла и Эмми Максвелл [148]148
Уильям Максвелл, писатель и издательский деятель. Он долгое время работал в «Нью-Йоркере», где они с отцом и подружились.
[Закрыть], где были девочки примерно моих лет: Кэт и Брук. Семьи договорились, как вспоминала мать, что для обеих сторон будет лучше, если мы станем встречаться у них, а не принимать у себя. Она утверждала, будто я называла их загородный дом «медвежьей берлогой».
Несколько раз нас навещал отцовский товарищ по джипу, Джон Кинан, прошедший с ним все пять кампаний Второй мировой войны, но только с судьей Хэндом и его женой мы встречались более-менее регулярно. Они жили в Нью-Йорке, а лето проводили в Корнише. Раз в неделю они приходили к нам или мы к ним. Рано обедали, потом мои родители и Хэнды читали вслух, иногда засиживаясь далеко за полночь. Такими вечерами в нашем доме звучали не грубые и раздраженные голоса, как обычно, отчего я засыпала с холодным комком в животе, а радостные и возбужденные. Жаль, но я помню про миссис Хэнд только то, что она была старая, и папа читал ей вслух, – а судью Хэнда я очень-очень-очень любила и часто засыпала у него на коленях. Мама называла эти визиты «очаровательными». Она говорит: «Джерри и Би /судья Хэнд/ любили поговорить о литературе; они читали вслух романы Толстого в переводах Констанс Блэк Гарнетт. Мне нравилось расспрашивать его об истории, о Рузвельте, о жизни в Нью-Йорке, о его прошлом. Миссис Хэнд была очень спокойной женщиной, но любила остроумие во всех его видах, лишь бы оно не грешило против хорошего вкуса».
Все лето каждую среду мы с матерью ходили к Хэндам пить чай. Она рассказывала: «Тогда-то судья Хэнд и познакомился с тобой хорошенько. Он тебя очень любил, нашел и тебе родственную душу».
Судья Хэнд подолгу гулял со мной. Спрашивал меня, о чем я думала в последнее время, и делился своими мыслями. Он слушал меня внимательно, с полным пониманием; мы общались как люди, близкие сердцем и умом. Тогда я не могла выразить это словами, но он внушил мне понятие о том, что я – неповторимая личность, обладающая умом и чувствами, достойными того, чтобы на них обратили внимание; я вообще достойна того, чтобы вырасти и начать мыслить самостоятельно, а не воплощать в себе чью-то мечту. Тогда-то он и прозвал меня – Динамка. Поэтому годы спустя я не удивилась, наткнувшись на знаменитую цитату из судьи Хэнда: «Дух свободы – это такой дух, который не слишком уверен в своей правоте».
Мать помнит, как однажды она вошла в гостиную, где мы с судьей обсуждали какой-то мой рисунок, и тихо вышла, чтобы нам не мешать. Хотелось бы мне вспомнить подробности наших разговоров, но недавно я наткнулась на небольшое стихотворение, в котором прекрасно выражено, отчего дружба со стариком может так много значить для ребенка – каким образом мы могли быть ландсманами. Это – стихотворение Шела Сильверстейна «Малыш и старик»:
Мальчик сказал: «Я роняю ложку».
«И я тоже», – сказал старик.
Мальчик шепнул: «И мочусь в штанишки».
«И я тоже», – взгрустнул старик.
Мальчик сказал: «И я часто плачу».
«И я тоже», – кивнул старик.
«Но вот в чем главная незадача:
понимаешь – всем на меня плевать!» —
Мальчик сказал, а старик ответил:
«Мне ли этого не понять!» [149]149
Перевод В. Топорова.
[Закрыть]
Судья Хэнд умер, когда мне исполнилось пять лет, в тот же самый год, когда отца Джона отправили в Южные моря. Мне до сих пор его не хватает. Даже в Брандейсе, изучая историю и юриспруденцию, я часто вела с ним воображаемые беседы, желая, чтобы он был рядом, чтобы мог ответить мне, разделить мою радость. И он, и отец Джон внесли в мою жизнь тепло, заполнили пустоту: я, как мышка из книги Лео Лионни «Фредерик», сохранила в памяти краски лета, чтобы пережить долгую, мрачную зиму.
Зима 59-го была похожа на длинную, серую, бессонную ночь. Даже отец ждал весны, когда вернется солнце, и судья Хэнд с женой согреют нас своим веселым теплом. В письме к Хэндам он пишет о бесконечной зиме, о том, как ужасно по ним скучает, о том, как было бы здорово, если бы они жили в Корнише круглый год. Но отец мог на несколько недель уехать от снега и льда в Атлантик-Сити и биться в гостинице над окончательным вариантом повести «Сихмор: Введение».