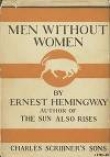Текст книги "Над пропастью во сне: Мой отец Дж. Д. Сэлинджер"
Автор книги: Маргарет Сэлинджер
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
4
Функционировать отдельно
Дикие ночи – дикие ночи!
Будь я с тобой,
Дикие ночи настали бы,
Роскошествуя тьмой!
Хрупкие ветры
В сердце, как в порт,
Без руля и карты —
Во весь опор!
Море бушует —
Только в раю
На якорь в тебе этой ночью
Нынче же стать я пою! [91]91
(Перевод В.Топорова). Именно это стихотворение Бэйб из рассказа «Солдат во Франции» хотел услышать, когда в боевом окопе мечтал, что, вынув руку из-под одеяла, окажется чисто вымытым, дома, с девушкой: «Я попрошу ее – пусть почитает мне что-нибудь из Эмили Дикинсон, о тех, кто блуждает без карты… и я запру дверь».
[Закрыть]
То, как отцу еще до моего рождения удалось встать на якорь в тихой гавани и завести туда своих героев; то, как вырвался он сам и вырвал их из ада, «страдания о том, что нельзя уже более любить» – больше всего интересуют меня, и как его дочь, и как человека, который на себе испытал, что бывает, когда все в голове путается, и она «теряет устойчивость и мотается из стороны в сторону, как незакрепленный чемодан на багажной полке». Как и когда отец и его герои преодолели кризис и восстановили связь или, наоборот, заперли дверь, – вот что стало объектом моего пристального внимания. Как пережил мой отец истинные, не придуманные травмы, нанесенные войной, антисемитизмом, семейными отношениями; череда страданий и попытки найти решение в жизни и в творчестве – во всем этом я начала видеть знакомые черты.
Я обнаружила, что в реальной жизни сержант Сэлинджер не получил возвращающего к жизни письма; юная девушка не подала ему руки, не помогла выбраться из ада. Вместо того он, как и сержант Икс, встретил молодую женщину; как и в рассказе, она занимала «какую-то маленькую должность в нацистской партии, достаточно, впрочем, высокую, чтобы оказаться в числе тех, кто по приказу американского командования автоматически подлежал аресту». Сержант Сэлинджер сам ее арестовал. К концу лета они поженились.
Если иметь в виду, что отец был человеком ответственным и честным, а кроме того, глубоко подозрительным – он был словно создан для того, чтобы вести допрос, – Сильвия, его первая жена, была, вероятно, что подтверждала и моя мать, необыкновенной женщиной. Тетушка описала мне Сильвию: высокая, тонкая, темноволосая, с бледным лицом и кроваво-красными губами и ногтями. Речь ее была колкой, язвительной; она имела какую-то ученую степень. « Настоящаянемка», – сказала тетушка и, опустив подбородок и подняв брови, мрачно взглянула мне прямо в глаза поверх бифокальных очков, желая особо подчеркнуть эту свою мысль. Отец твердил моей матери, что Сильвия, не в пример ей, Клэр, была настоящей женщиной, которая знала, чего хочет, и смолоду пробивала себе дорогу. Но ему претили ее ужасные, темные, злые страсти: он считал, что Сильвия околдовала его. Он признавался матери, что Сильвия ненавидела евреев так же сильно, как и нацистов, и не скрывала этого. Их отношения, говорил он, отличались большим накалом как в физическом, так и в эмоциональном плане. Как случалось во многих браках, заключенных во время войны, их страсть не пережила переезда в Америку, где пришлось жить вместе с его родителями. Сильвия вернулась в Европу через несколько месяцев. Тетя Дорис заметила: «Мама не любила ее».
Я знала, что у отца была военная жена, которую он в шутку называл «Саливой» вместо Сильвии, но вообще он не любил распространяться о возвращении домой, лишь ронял время от времени отдельные, скупые детали: например, как он жестоко страдал в то время от сенной лихорадки и целое лето не отнимал платка от отчаянно свербившего носа и слезящихся глаз. «Вот как сейчас, только еще хуже», – говорил он мне, сморкаясь и вытирая покрасневшие глаза. Похожие чувства, если не детали, появляются в рассказе «Посторонний» («Коллиерс», 1 декабря 1945 года), где рассказывается о возвращении домой Бэйба. Бэйб жестоко страдает от сенной лихорадки и боевого переутомления. Он вернулся домой физически, но умственно и эмоционально не может совершить переход к гражданской жизни.
Не нужно быть дипломированным преподавателем поэтики, чтобы поэзия этого рассказа глубоко затронула вас. Отец пользуется тем же языком, что и Басё в своем хокку о лягушке [92]92
Басё (1644–1694) Furu ike уа! Старый пруд.
Kamavazu tobicomuMizu no oto.Прыгнула в воду лягушка.Всплеск в тишине. (Перевод В.Марковой).
Или ответ Сенгая (1750–1863) горячо любимому и почитаемому старому мастеру:
Ike arabe,Tonde basho niKikasetai. Басё
Был бы здесь пруд,Я бы прыгнул туда – пусть слышитвсплеск в тишине. (Перевод с английского варианта мой – А. М.).
[Закрыть], – слов немного, но образ разворачивается, проявляется для ума и всех пяти чувств, как яркий бумажный цветок, спрятанный в раковине, вроде тех, которыми мы забавлялись в детстве – бросишь такую со всплеском в стакан с водой, она раскроется, а цветок поднимется и расцветет, наполнив весь стакан.
Друг Бэйба, Винсент Колфилд, убит в бою. Зато Бэйб вернулся домой живым и собирается пойти к девушке Винсента, отдать стихотворение, которое Винсент ей написал, и рассказать, как он умер. Сестра Бэйба Мэтти, которой все еще десять лет, как и в рассказе «День перед прощанием», хотя с тех пор, как Бэйб ушел на войну, немало времени утекло, его сопровождает. Бэйб, стоя перед дверью девушки Винсента, думает, что лучше было бы вовсе не приходить.
Горничная открывает дверь и уходит позвать девушку Винсента. Дожидаясь в гостиной, Бэйб просматривает пластинки, сложенные у патефона.
«В ушах его зазвучал роскошный рык трубы старины Бэйквелла. А затем и остальные мелодии тех неповторимых лет… когда все их (мертвые теперь) парни из Двенадцатого полка были живы и с ходу вклинивались в толпу других, отплясывавших уже, парней, тоже мертвых теперь… Тех лет, когда каждый, кто мало-мальски умел танцевать, торчал в канувших в небытие дансингах и хрен что знал о каком-то там Шербуре, Сен-Ло, о Гюртгенском лесе или Люксембурге…» [93]93
Перевод М. Макаровой.
[Закрыть]
Блестяще, не правда ли? Девушка входит в комнату, и Бэйб представляется. Они все идут в спальню, где светлее. Девушка Винсента и Мэтти садятся на кровать, Бэйб – на стул лицом к ним.
«Бэйб положил ногу на ногу – лодыжкой на колено – высокие мужчины часто так сидят. «Да, с этим все. Отстрелялся, – сказал он и покосился на стрелку на своем носке (носки были одним из самых непривычных атрибутов его новой, уже без высоких армейских ботинок, жизни), затем перевел взгляд на девушку Винсента. Неужели это и вправду она? – На прошлой неделе отстрелялся», – уточнил он».
Он начинает рассказывать о смерти Винсента, ощущая ту же потребность, что и Филли Берне, объяснявший в свое время жене Хуаните, что ребята на войне не умирают так красиво, как в голливудских фильмах: эти фильмы – ложь, все было не так, лгать нечестно, когда люди страдают. Бэйб был рядом, когда Винсента накрыла мина. Когда девушка Винсента спрашивает, что это значит – «накрыла мина», им овладевает горячее желание выложить ей всю правду, не молчать об этом проклятом деле. Наконец Бэйбу удается совладать с собой, и он протягивает девушке стихотворение, которое ей написал Винсент. Пускается в извинения, но девушка говорит, что все равно была очень рада его приходу. Бэйб быстро ретируется к двери, потому что он тоже плачет. Пока они с Мэтти едут в лифте, парень успокаивается, но на улице становится еще хуже:
«Три кошмарно длинных квартала – между Лексингтоном и Пятой – были по-дневному унылы, их бесконечные фасады в конце августа выглядели особенно тоскливо. Какой-то толстяк, облаченный в форму швейцара, пряча в кулак зажженную сигарету, вел по кромке тротуара терьера, сплошь в проволочных завитках.
Бэйб подумал, что, пока он торчал там, на Валу, этот жирдяйчик изо дня в день выгуливал здесь своего пса… Невероятно. А что, собственно, невероятного? И все-таки поразительно… Он почувствовал, как в его пальцы скользнула ладошка Мэтти…Она без передыху тараторила:
……………….
– Бэйб…
– Чего тебе?
– Ты рад, что ты дома?
– Да, детка.
– Ой, отпусти, больно же!
Он расслабляет пальцы. Рассказ снова заканчивается тем, что чья-то рука протягивается и помогает герою выйти из ада, в который он сам себя заключил. Бэйб глядит на свою сестренку Мэтти: «Плотно составив ступни, прыгнула с тротуара на мостовую, а с мостовой тем же манером снова на тротуар. И ему почему-то жутко приятно было смотреть, как она прыгает» [94]94
В похожей сцене Холден замечает семейство, идущее впереди него, и говорит нам, что родители не обращают никакого внимания на своего малыша:
«А мальчишка был мировой. Он шел не по тротуару, а вдоль него у самой обочины, по мостовой… Я нарочно подошел поближе, чтобы слышать, что он поет… Машины летят мимо, тормозят так, что тормоза скрежещут, родители никакого внимания не обращают, а он идет себе по самому краю и распевает: «Вечером во ржи…» Мне стало веселее. Даже плохое настроение прошло». (Над пропасшею во ржи).
Когда я прочла этот отрывок, уже ставши матерыо, – не то что в двадцать лет, когда у меня не было своей семьи, – я пришла в бешенство. Я подумала – как приятно, как радостно, что ты видишь мир в ином свете, что ты заново обрел эту свою, по Достоевскому, «возможность любить», – но неужели никто так и не уведет этого ребенка с улицы, подальше от машин, чтобы его не задавило насмерть?
[Закрыть].
В самом деле – почему? Так же, как ярость, которую отец изливал и в литературе, и в реальной жизни на «высшее общество» белых-англо-саксов-протестантов, на сельские клубы, на школы Лиги плюща, на дебютанток и так далее кажется не только частной, персональной идиосинкразией Сэлинджера, если рассматривать ее в контексте жизни еврея, или еврея-полукровки, росшего в Нью-Йорке в двадцатые-тридцатые годы, так, я думаю, и военный опыт отца вкупе с рассказами о штаб-сержанте Бэйбе Глэдуоллере и штаб-сержанте Икс становится контекстом для повести «Над пропастью во ржи». Я не утверждаю, будто читателю необходимо знать исторический фон, чтобы оценить эту книгу, мои претензии не столь велики: мне необходимо понять и контекст, и все связи, чтобы найти хоть какой-то смысл в пугающей, балансирующей на грани жизни и смерти напряженности чувств, каковую вызывают и в моем отце, и и его герое Холдене не столь уж значительные, чисто эстетические картины. Я должна понять, каким образом иногда искажались логика и пропорции в наших с ним отношениях.
Когда я прочла военные рассказы, то, что прежде было в «Над пропастью…» чужой территорией, стало во многом близкой историей. Хотя акценты в этой повести смещены, и речь не идет о травмах, нанесенных войной, смертью и всеобщим хаосом, а нацисты как враги заменены «пустозвонами», их способность разрушать жизни и опустошать души выживших вовсе не становится меньше от того, что черные мундиры штурмовиков сменились твидовыми пиджаками преподавателей [95]95
Это относится и к нашей семейной жизни. Приведу один пример из сотни подобных: когда мне было девять лет, я просила, умоляла папу купить мне белые высокие сапожки для танцев. На мою бедную голову обрушился поток столь яростных инвектив, как будто я попросила у него разрешения вступить в нацистскую партию и надеть эти миленькие ботиночки с железными подковками. Дикие ночи – дикие ночи!
[Закрыть]. Поле боя осталось в прошлом, но когда Холден призывает своего покойного братика Алли (который умер в возрасте десяти лет от белокровия): «Алли, не дай мне пропасть! Алли, не дай мне пропасть!», – когда чувствует, что проваливается «вниз, вниз, вниз», в какую-то бездну и боится, что никак не сможет перейти на другую сторону улицы, он так же отчаянно борется за свою жизнь, как и солдат во Франции. И то, как Холден пытается восстановить связи, достичь гавани в шторм, встать на якорь, тоже знакомо. Решив убежать, как Маленький Индеец Санни, или Лайонел из рассказа «В лодке», он тоже медлит, чтобы попрощаться с десятилетней сестренкой Фиби: она, как Мэтти для Бэйба, Эсме для Икса и, может быть, Сильвия для отца, – существо, на которое просто «приятно смотреть, которое можно любить, к которому можно привязаться, чтобы вернуться домой».
Когда отец заканчивал «Над пропастью во ржи» и работал над «Голубым периодом де Домье-Смита», рассказом о художнике, который находится на грани нервного расстройства, он сам, как и его герой, жил в мрачном месте и лишь отчасти мог «функционировать нормально». Мать вспоминает его темную квартиру, в которой чувствуешь себя, словно в подводном царстве; черные простыни и черная мебель, по ее словам, находились в согласии с той депрессией, в какую отец был тогда погружен. Мать говорила, что в те времена Джерри проваливался в «черные дыры, где едва мог двигаться, с трудом мог говорить» [96]96
Слова матери напоминают мне сцену, когда Холден боится, что провалится в забытье, и зовет Алли, просит помочь, не дать пропасть. И то место, гда Холден описывает своего брата, Д. Б. (он – «настоящий писатель»; то же самое говорят о себе и сержант Икс из «Эсме», и Балди из «Симор: Введение»); вернувшись с войны, где он, как и мой отец, пробыл четыре года и участвовал в высадке союзных войск, Д Б. «все время лежал у себя на кровати». Смотри также последнюю опубликованную книгу отца. «Выше стропила, плотники» и «Симор: Введение», и где говорится о послевоенном времени, совпадающем с временем публикации «Над пропастью в ржи»: он, или Балди, написал рассказ «Хорошо ловится рыбка-бананка» «всего через два-три месяца после смерти Симора и вскоре после того, как я сам подобно тому «Симору» в рассказе и Симору в жизни, вернулся с европейского театра военных действий. И писал я в то время на очень разболтанной, чтобы не сказать свихнувшейся, немецкой трофейной машинке».
[Закрыть]
Лейла Хедли, прочтя «Голубой период де Домье-Смита», была уверена, что отец списал героя с себя самого. Утверждение, будто отец списал героя с себя самого, слишком прямолинейное, упрощенное, логичное для этого рассказа, который является отражением или преломлением жизни отца в зеркальном мире его творений; но я знаю, что мисс Хедли имеет в виду. Этот рассказ звучит так правдиво, так напоминает мне отца, что я не могу отделаться от жутковатого ощущения, что все описанное здесь случилось на самом деле, что речь идет о каком-нибудь дядюшке или другом родиче, а не о вымышленном персонаже.
Этот рассказ, «Голубой период де Домье-Смита», – поистине образец, по которому отныне и впредь будут выверяться симпатии и антипатии отца и его героев, их отчаянные попытки вступить с миром в связь, их все более бессвязные, словно во сне, заклинания, их потусторонние способы противостоять страданию; и все это будет неразрывно связано с алхимией художника, с его способностью как оживлять камни, так и превращать в камень самое жизнь. Именно в этом рассказе я вижу, словно «на дне зеркал», как насаждался наш опрокинутый лес.
Герой рассказа «Голубой период де Домье-Смита» – молодой художник, который только что вернулся в Нью-Йорк из Парижа, где прожил большую часть своей жизни. Ему трудно приспособиться, он, как Бэйб, чувствует себя «Посторонним». Его мать, очень близкий ему человек, умерла, и он живет в отеле, в одном номере с отчимом, который тоже чувствует себя обделенным и потерянным. Всю осень юноша пишет картины, восемнадцать картин маслом, семнадцать из которых – автопортреты. На глаза ему попадается объявление в газете о вакансии преподавателя на художественных заочных курсах в Монреале, и он, повинуясь внезапному порыву, посылает письмо и получает место. Как и в рассказе о сержанте Икс, мы так и не узнаем имени молодого художника, только псевдоним – де Домье-Смит: он выдает себя за племянника Домье, когда пишет письмо в художественную школу. Его приняли на работу, выделили троих студентов и выдали конверты с их рисунками.
Первые два студента являют собой чуть ли не карикатуру на тех, кого Шри Рамакришна, работы которого отец в то время глубоко изучал, называл человеческим отребьем, вожделеющим «женщин и злата». Первый конверт прислала молодая домохозяйка, выбравшая себе псевдоним «Бэмби». К анкете была приложена большая глянцевая фотография, где она в купальном костюме. Рисунки, безнадежно плохие как по выбору сюжета, так и по исполнению, были «несколько пренебрежительно» подколоты к портрету. Она написала, что ее любимые художники – Рембрандт и Уолт Дисней.
Второй студент – светский фотограф Р.Говард Риджфилд, чья жена, по его словам, думает, что ему пора «втереться в это выгодное дельце» и стать художником [97]97
Смотри «Хэпворт», где Симор просит книги, в которых бы «не было превосходных фотографий». Отец вспыхивал, как порох, при одном упоминании о том, что фотография – тоже искусство.
[Закрыть]. Его картина, непристойная по сюжету и исполнению, изображает девицу «с вымеобразной грудью», которую святотатственно соблазняют в церкви.
Почти уже впав в отчаяние, он открывает третий конверт. Его послала монахиня, сестра Ирма. Она преподает «кулинарию и рисование» в начальной монастырской школе. Вместо своей фотографии она прислала вид монастыря. Ее хобби – любить «Господа и Слово Божье», а также «собирать листья, но только когда они уже сами опадают на землю». Ее назначили преподавать детям рисование, когда другая сестра умерла. Детишки, пишет сестра Ирма, любят рисовать бегущих человечков, а она этого совсем не умеет и просит помочь. Она будет очень стараться научиться лучше рисовать и посылает несколько рисунков – без подписи. Работы ее оцениваются как «произведения истинного художника». Молодой художник засовывает конверт сестры Ирмы в нагрудный карман, «куда не добраться ни ворам, ни – тем более – самим супругам Иошото… Не хотелось рисковать – вдруг сестру Ирму отнимут у меня…Но в тот вечер, согретый конвертом сестры Ирмы, лежавшим у меня на груди, я впервые чувствовал себя спокойным» [98]98
(Перевод Р. Райт-Ковалевой.) Бэйб тоже держит в нагрудном кармане письмо от сестрички Мэтти, чтобы «функционировать нормально» в своем ужасном окопе; сержант Икс, только что вышедший из госпиталя, не расстается с письмом от девочки Эсме; во всех трех рассказах хрупкое умственное равновесие держится на тоненьких листочках. Письмо Мэтти поддерживает Бэйба среди жуткой до непристойности резни, а конверт сестры Ирмы помогает де Домье-Смиту весь оставшийся день править обнаженную натуру Риджфилда, мужчин и женщин без «признаков пола», «жеманно и непристойно» изображенных.
[Закрыть].
Всю ночь он работает над набросками сестры Ирмы и пишет ей «длинное, бесконечно длинное» письмо, одновременно страстное и чистое. На другой день он думает «в совершенном ужасе», как бы не сойти с ума до тех пор, пока придет от нее новый конверт. И почти теряет рассудок. Стоя перед витриной ортопедической мастерской, он «…испугался до слез. Меня пронзила мысль, что как бы спокойно, умно и благородно я ни научился жить, все равно до самой смерти я навек обречен бродить чужестранцем по саду, где растут одни эмалированные горшки и подкладные судна и где царит безглазый слепой деревянный идол – манекен, облаченный в дешевый грыжевый бандаж».
Каким-то образом он добирается до своей комнаты, ложится в постель, долгие часы лежит без сна, охваченный дрожью, пока не заставляет себя сосредоточиться на образе сестры Ирмы, на том, как он приедет к ней в монастырь. Он воображает ее за высокой решетчатой оградой, видит, как она выходит навстречу. В его воображении она – «…робкая, прелестная девушка лет восемнадцати, еще не принявшая постриг, – она еще была вольна уйти в мир со своим избранником, так похожим на Пьера Абеляра. Я видел, как мы медленно и молчаливо проходим в глубину зеленого монастырского сада и там бездумно и безгрешно я обвиваю рукой ее талию. Трудно было удержать этот неземной образ, и, дав ему улетучиться, я погрузился в сон».
На следующий день у той же самой ортопедической мастерской ему является мистическое видение, обратное тому, что накануне чуть не свело его с ума, – когда он увидел все, включая самого себя, превращенным в разного вида отбросы. Теперь, в сиянии гигантского солнца эмалированные горшки и подкладные судна мистическим образом превращаются в сверкающий вертоград «дважды благословенных цветов».
Даже немного жутко, если подумать, как Клэр, стеснительная, красивая девушка, только что из монастырской школы, вошла в жизнь моего отца, словно в какую-то пьесу, воплотившись в реальность из его туманных снов, так же, как Корниш появился в ответ на мечту Холдсна о хижине на опушке леса. Когда Джерри приходил, она себя чувствовала на верху блаженства. Они долго бродили над рекой и вели беседы далеко за полночь. Но Клэр вспоминает также, что были в тот год длинные интервалы, когда он не звонил и не приходил, и она опять оставалась одна, покинутая в пучине морской.
5
Мы запрем дверь
Признаться, я не очень-то охоч
До тихих радостей молвы скандальной:
Судить соседей с высоты моральной
Да воду в ступе без толку толочь.
Внимать речам про чью-то мать – иль дочь
Невзрачную – весь этот вздор банальный
Стирается с меня, как в зале бальной
Разметка мелом в праздничную ночь.
Не лучше ль, вместо словоговоренья,
С безмолвным другом иль наедине
Сидеть, забыв стремленья и волненья? —
Сидеть и слушать в долгой тишине,
Как чайник закипает на огне
И вспыхивают в очаге поленья?
Моя тетя Дорис, папина сестра, через сорок с лишним лет рассказала мне, как они вдвоем нашли дорогу в Корниш. Осенью 1952 года, в изумительное бабье лето, Дорис и ее брат решили устроить себе каникулы. Предыдущим летом, рассказывала тетя, вышла в свет повесть «Над пропастью во ржи», у отца оставались наличные деньги от гонорара, и он хотел присмотреть себе в деревне маленький домик, где бы мог жить и работать вдали от городской суеты. Дорис в то время, что называется, делала карьеру. Ей было тридцать восемь лет, она развелась, жила с родителями в Манхэттене и часто ездила в Европу, осуществляя закупки для Зеленой комнаты в «Блуминдейле» [100]100
Один из крупнейших универсальных магазинов Нью-Йорка. (Ред.).
[Закрыть].
Тем не менее, когда Джерри предложил поехать с ним, она, по собственному признанию, бросила все и «ухватилась» за приятную возможность съездить за город с любимым братом.
Они проехались по побережью Новой Англии и остановились у Кейп-Энн, к северу от Бостона, где расположены старинные приморские городки Эссекс, Ипсвич и Глочестер. Они оба любили Кейп-Энн. Джерри купил бы особнячок и осел бы там, в старых добрых краях Мелвилла, но, в течение нескольких дней осматривая дома, он понял, что ему это не по карману. В то время никто, тем более он сам, не ожидал, что «Над пропастью во ржи» будет иметь такой успех.
Они направились от побережья на север, вдоль реки Коннектикут, и остановились перекусить в Виндзоре, штат Вермонт. Местный агент по продаже недвижимости, Хилда Рассел, разговорилась с ними в ресторане. После ленча повезла их через крытый мост, соединяющий Виндзор в Вермонте и Корниш в Нью-Гемпшире, потом по грунтовой, крутой, грязной дороге, много миль по холмам и лесам. Они проехали молочную ферму, где коровы паслись, как в Альпах, на немыслимо крутых склонах. Не только коровам, но и фермерам на этих холмах жилось нелегко. Зимой многие работали на заводе шарикоподшипников в Виндзоре или на фабрике резиновых изделий «Гудиэр», пока та не закрылась. Другие, оставляя дом на долгие месяцы, нанимались на рыболовецкие суда, которые уходили зимой из Глочестера: жены и дети оставались стеречь добро.
Сразу за фермой дорога круто повернула и пошла к вершине холма, между двух пастбищ, расположенных на склонах. Вокруг сверкало яркими красками бабье лето – сиял золотарник, серебрились паутинки, багровел кендырь, чернел вороний глаз; всюду распевали птицы, жужжали пчелы, стрекотали цикады и кузнечики. Когда они перевалили через вершину холма, пастбище незаметно сменилось лесом, и машина, петляя между березами, соснами, старыми кленами и дубами, сбавила ход. На этом участке дороги им встретился лишь один знак человеческого присутствия: семь грубых, без надписей, могильных камней, заросших кустарником, покрытых мхом.
Проехав еще около мили, они увидели лесную поляну. Здесь, на вершине холма, на самой высокой точке дороги, стоит небольшой красный дом, похожий на амбар. Он прилепился на самом краю луга, который тянется примерно на акр, круто обрываясь к журчащему внизу ручью. Обрыв в самом деле такой крутой, что если вы подошли к его краю, вам, чтобы не упасть, лучше держаться за высокие, крепкие стебли травы. Ручей и оставшиеся внизу несколько футов старого пастбища исчезают среди высокого соснового леса, которым поросли склоны, тянущиеся на много миль, вплоть до реки Коннектикут. За рекой, со дна долины, гора Эскатни поднимается к небесам, словно синяя пирамида. Справа от горы зелеными и бурыми заплатками разбросаны по долине молочные фермы. За фермами и над ними горы поменьше гряда за грядой пропадают вдали, выцветая до голубизны, все более и более бледной; катятся волнами по Вермонту, расплескавшись до штата Нью-Йорк.
Агент сказала, что в ясный день можно увидеть Адирондакские горы, расположенные за сотни миль оттуда. Окна гостиной выходили на запад; из них, заявила та дама, можно наблюдать закат солнца над горой Эскатни. Дорис согласилась, что вид великолепен, однако дом – другая песня. «Ах, Пегги, то был не дом, а кошмар». Тетю даже оскорбило, что их вообще повезли сюда. Водопровода и прочих удобств не было и в помине. Кухня под навесом. Во всем доме лишь маленькая, с пятнами сырости, спальня, да гостиная, сущий амбар в два этажа высотой, с выгнутым дощатым потолком и торчащими стропилами. Наверху белка вывела бельчат. «Полно было зверья», – возмущалась Дорис. К восточной стороне, откуда вид не открывался, примыкала кухня: там виднелся почерневший каменный очаг. Подле очага, вдоль стены – шаткая деревянная лестница, ведущая на крохотный чердак.
Дорис не могла поверить, что брат хоть на минуту задумается о покупке этого дома – дело было задолго до моды на сельскую простоту, и в хлеву держали скот, не писателей. Она знала, что у Санни хватит денег только чтобы купить дом «как есть»: на ремонт ничего не останется, а Дорис к тому же с полным основанием полагала, что ремонт тут не поможет: дом нужно снести до основания и построить на его месте что-нибудь приличное. Но она без должного внимания отнеслась к мечте Холдена:
«…построю себе на скопленные деньги хижину и буду там жить до конца жизни. Хижина будет стоять на опушке леса – только не в самой чаще, я люблю, чтобы солнце светило на меня во все лопатки… я…встречу какую-нибудь красивую глухонемую девушку, и мы поженимся. (…) Если пойдут дети, мы их от всех спрячем. Купим много книжек и сами выучим их читать и писать» [101]101
Над пропастью во ржи. (Перевод Р. Райт-Ковалевой).
[Закрыть].
В первый день нового 1953 года, в свой тридцать четвертый день рождения, Джерри перебрался в этот дом в Корнише. Клэр часто проводила с ним здесь выходные. В пятидесятые годы для того, чтобы молодую девушку отпустили из колледжа на уик-энд, нужно было представить письменное приглашение от какой-нибудь уважаемой особы. Клэр и Джерри выдумали некую миссис Троубридж и сочиняли весьма забавные письма к матери Клэр и к прочим in loco parentis [102]102
Вместо родных (лат.).
[Закрыть]в Рэдклиффе с массой глупой, великосветской болтовни о том, как мило, что Клэр навещает маленьких Троубриджей, и как мы будем рады, если она приедет к нам в наш зимний домик.
Прямо по собственной своей книге «Над пропастью во ржи», где Холден под влиянием момента просит Салли Хейс бежать с ним в выдуманную солнечную хижину на опушке леса, Джерри просит Клэр оставить школу и насовсем перебраться к нему в Корниш. Когда Клэр отказалась, Джерри исчез. Мать думает, что он провел этот год в Европе, но до конца не уверена. В отчаянии она заняла у кого-то машину и поехала к дому, но там не было никаких признаков жизни. Если бы только можно было с ним связаться, говорила Клэр, она бы все отдала, только чтобы быть рядом. «Весь мир заключался в твоем отце – в том, что он сказал, написал, помыслил. Я читала те книги, какие он велел, а не те, что задавали в колледже, смотрела на мир его глазами, жила так, будто он все время наблюдал за мной. И когда я пошла ему наперекор в этом вопросе с колледжем, он исчез».
Клэр не была человеком, «способным функционировать нормально». Когда Джерри бросил ее, она слегла. Попала в больницу с сильным приступом мононуклеоза, который вылился в сложный случай аппендектомии. Рассказ матери о том, что случилось дальше, оставался на удивление стабильным все эти нестабильные годы – не рассказ, а снимок рушащегося здания. Я могу повторить его хоть во сне. Он начинается: «Я та-а-а-а-ак устала. Очень милый человек из бизнес-школы попросил моей руки. Он все время приходил ко мне в палату, просил выйти за него, и я в конце концов согласилась. И стало мне очень легко, и все меня оставили в покое: ведь я та-а-а-а-ак устала».
Они убежали вместе где-то весной: подробностей мать не помнит. Через год брак был аннулирован. Когда я девушкой слушала этот рассказ, у меня складывалось впечатление, что мама страдала лунатизмом или ее лихорадило. Меня беспокоило, что такие важные вещи могут происходить во сне, или на границе между сном и явью. И злило тоже. Когда мать рисовала себя такой безвольной, чуть ли не марионеткой в чужих руках; когда не желала признать за собой ни капли ответственности за случившееся, я буквально сатанела. Может, она и в самом деле была такой, но в детстве во мне постоянно боролись неистовое желание встряхнуть ее, привести в чувство, обрести, наконец, потерянную мать и инстинкт самосохранения, который одерживал Пиррову победу, – и я уходила на цыпочках, незаметно, не решаясь будить спящих тигров.
Джерри вновь появился в жизни Клэр летом 54-го. Осенью Клэр переехала к нему. Каждую неделю он отвозил ее из Корниша в Кембридж, чтобы она со вторника до четверга могла посещать занятия. Джерри снял номер в отеле «Коммодор», где она делила комнату с пятью разведенными или как-то по-другому, по ее словам, «не приспособленными к жизни в интернате» студен тками. Он все больше и больше страдал от такого распорядка, который, помимо всего прочего, мешал работе над повестью, известной сейчас под названием «Фрэнни». Мать до сих пор часто думает об этой книге, потому что, как она говорит, «это моя история, не история Фрэнни, и все было совсем не так». В реальной жизни девушку в синем платье, с сине-белой сумкой через плечо звали Клэр, не Фрэнни. У нее до сих пор сохранилось требование, которое она выписала в отделе книгообмена Брентано, – требование на книгу Фрэнни «Путь странника».
В январе 1955 года «Фрэнни», состоящая из тридцати семи страниц, первая часть книги «Фрэнни и Зуи», была опубликована в «Нью-Иоркере». В том же месяце, сразу после семестровых экзаменов выпускного класса, моей матери, как она вспоминает, вновь был предъявлен ультиматум. «Я была поставлена перед тем же выбором: Джерри и Корниш или Рэдклифф и диплом».
За четыре месяца до окончания курса Клэр бросила колледж. То, что случилось, когда Клэр, такая же юная, как и сестра Ирма, еще не принявшая постриг, о которой мечтал де Домье-Смит, оставила зеленеющие сады Кембриджа со своим Пьером Абеляром, напоминает мне один из наших любимых фильмов «Потерянный горизонт»: за воротами зеленеющего сада клубится туман. В день свадьбы Клэр и Джерри ехали, скорее, ползли тридцать миль в густой, почти непроницаемой пелене февральского мокрого снега из Корниша, Нью-Гемпшир, в Брэдфорд, Вермонт к мировому судье. Мать описывает, как они вчетвером набились в старый заезженный отцовский джип: Джерри проклинал дорогу, а свидетели – Бет и Майк Митчеллы – молча корчились на заднем сидении, наверное, остолбенев от страха, поскольку отец ездил весьма лихо даже и в лучших обстоятельствах. Отцовская версия свадьбы, которую он часто повторял брату и мне, обычно начинается так: он никогда не простит Бет и Майку, с которыми подружился еще в Вестпорте, за несколько лет до переезда в Корниш, того, что они его не отговорили, позволили совершить столь очевидную ошибку.
Тусклая действительность их бегства вступала в резкий контраст со сверкающей мечтой Симора о «святом, священном дне». Накануне бегства с невестой герой отца, Симор Гласс, записал в своем дневнике:
«Я ей звонил главным образом, чтобы упросить, умолить ее просто уехать со мной вдвоем и где-нибудь обвенчаться. Слишком я взвинчен, чтобы быть на людях. Мне кажется, что сейчас – мое второе рождение. Святой, священный день…Весь день читал отрывки из Веданты. «Врачующиеся должны служить друг другу. Поднимать, поддерживать, учить, укреплять друг друга, но более всего служить друг другу. Воспитывать детей честно, любовно и бережно… Как это изумительно, как разумно, как трудно и прекрасно и поэтому правдиво. Впервые в жизни испытываю радость ответственности» [103]103
Выше стропила, плотники. (Перевод Р. Райт-Ковалевой).
[Закрыть].
Однако в свой медовый месяц Симор в гостиничном номере садится на кровать, где спит его молодая жена Мюриэл, берет пистолет и стреляет себе в висок – так это описано в рассказе «Хорошо ловится рыбка-бананка», созданном около 1947 года. Пассаж о «святом, священном дне» из «Выше стропила, плотники» отец написал около 1955 года. Он исчез из жизни Клэр в 1953 году и тогда написал «Тедди», оду отрешению от всякой земной любви, особенно плотской; а потом, меньше чем через два года, в 1955-м, просит Клэр выйти за него замуж. Что произошло? Был ли то импульсивный порыв, очередной акт драматического контраста между блаженством ухаживания и выстрелом в висок, привлечением и отторжением, любовью и отказом от любви, минутой, когда даришь цветы, и минутой, когда бросаешь камни? [104]104
Я уже упоминала, что Симор ребенком бросил камень в девочку, которая сидела на солнце, и нанес ей серьезные повреждения: так раскроил лоб, что понадобилось накладывать швы. В рассказе все в семье сразу же поняли: это случилось «потому, что она казалась такой хорошенькой», когда сидела на солнце. Я этого не понимаю, но для семейства Глассов и для писателя, создавшего их всех, данный акт вполне вразумителен и имеет почти религиозное значение. Как-то приблизиться к его пониманию я смогла, понаблюдав за своим сыном. Мы прошли через период ужасного раздвоения, когда он то ласкал меня и нежно ко мне прижимался, то вдруг начинал меня бить или чем-то в меня бросать. Это было даже жутко: он вел себя так, когда мы нежно ворковали вдвоем, вовсе не в припадке ярости. Мы предположили, что порой эти отношения (Мама и Я) становятся для него слишком насыщенными, он чувствует, что тонет в них, что я и его любовь ко мне вот-вот засосут его, как в трясину. Его, конечно, наказывали, если он делал это, но и я старалась ему помочь: немного отстранялась, что-нибудь говорила, на время передавала папе часть родительских прав – до тех пор, пока малыш не обретал душевного равновесия. И я снова вспоминаю слова тети: «Они всегда были вдвоем: Санни и мама, мама и Санни. А папу… не признавали, не допускали, хотя он этого и не заслужил». Я знаю одно: мужчина, который слишком близок со своей матерью и не может как следует отделиться от нее, находится в такой же опасности, как и тот, который ненавидит свою мать и не в состоянии сблизиться с женщиной. Важно найти разумную середину, вовремя провести границу.
[Закрыть]
И я решила, что его уходы и появления, его отношения с Клэр до женитьбы были частью этой его личной драмы, нот конфликта. Но потом из разговоров с матерью я пыж пила, что к их браку привело некое событие совершенно иной природы: отец нашел нового гуру, в чьем учении вроде бы сглаживалось противоречие между земной любовью и небесной отрешенностью. Согласно проповеди этого гуру, Шри Парамахансы Йогананды, «женщина» – такой же, как и «злато», страшный враг просветления и кармического продвижения – могла преобразиться из мешка с «мокротами, грязью, слизью и нечистотами», о котором говорил Рамакришна, в нечто потенциально священное. За все то послевоенное время, когда отец предавался изучению религий, брак впервые представал чем-то потенциально возвышенным, а не изначально принижающим; Ева и змей уже не сплетались воедино.