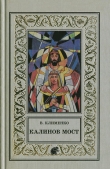Текст книги "Мост"
Автор книги: Манфред Грегор
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 11 страниц)
Солнце, солдатам ярче свети!
Кто знает, что ждет нас, друзья, впереди?
– Песня парашютистов, – проговорила пожилая женщина над ухом Клауса, и он почувствовал, что на глаза у него навернулись слезы. Внезапно ему захотелось тоже шагать в этих колоннах. Он не смог бы объяснить почему.
Но его чувствительность проявлялась не только в таких случаях.
Клаус Хагер любил по воскресеньям ходить в городскую церковь. «Странно, – думал он иногда, чувствуя укоры совести, – хожу в церковь, стою на коленях, а молиться не могу!» Приходил он обычно к самому началу службы, опускался на колени и начинал читать «Отче наш», но потом мысли его уносились куда-то далеко-далеко. Где-то там, под высокими сводами церкви, витали они, мощные звуки органа, и торжественное пение хора уносило их вдаль, а вид огромного зала, заполненного коленопреклоненной толпой молящихся, запахом ладана и мерцанием бесчисленных свечей, вселял в его душу благоговейный трепет.
Больше всего любил он, стоя где-нибудь в укромном уголке церкви, слушать майскую службу. Когда звонкие женские голоса и мощные раскаты басов возносили хвалу царице небесной в чудесных, полных религиозного экстаза гимнах, он вместе со всеми отдавался мистическому порыву. Клаус мог часами простаивать в маленькой оконной нише перед изваянием скорбящей богоматери в те предвечерние часы, когда последние лучи заходящего солнца преображали суровый лик статуи; он не мог оторвать от нее восхищенного взгляда, а сердце щемило от какого-то неземного блаженства. Однажды он покаялся на исповеди, что не молится в церкви, не может молиться, а только сидит и слушает, погруженный в свои мысли.
– Ты не согрешил, – тихо сказал священник, и едва заметная улыбка тронула его губы. Но Клаус Хагер не мог этого заметить сквозь решетчатое окошко исповедальни.
Если дома, ему случалось чувствовать себя несправедливо обиженным, то он рано ложился в постель, долго лежал, не двигаясь, уставившись невидящими глазами в потолок, и думал: «Я смертельно болен, скоро умру. Меня отнесут на кладбище, и все соберутся у моей могилы. Мать, отец, учителя, товарищи… Все будут плакать и вспоминать, как часто были несправедливы ко мне».
Он видел себя лежащим в гробу: бледное улыбающееся лицо, утопающее в цветах.
Когда он подружился с Франциской Феллер, все переменилось. Он реже думал о смерти, и сам не понимал, как мог прибегнуть к вероналу. «Если бы пришли на полчаса позже, меня бы теперь, вероятно, уже не было в живых, – думал он, и им овладевал ужас. – Обо мне бы, наверно, уже давно забыли».
Клаус Хагер не испытывал томления плоти, от которого страдало большинство его ровесников, и у него не бывало волнующих снов, из-за которых ночь для многих из них превращалась в сплошное мучение. Возрастные особенности проявлялись у него в той обостренной нервной чувствительности, в той болезненной эмоциональности, которая так легко отдавала его во власть любых настроений. Чаще всего это происходило под воздействием музыки. И хотя сам он был совершенно не способен научиться играть на каком-либо инструменте, он мог часами просиживать дома перед радиолой, слушая симфонии Брамса и Чайковского, скрипичный концерт Мендельсона или фортепьянный концерт Рахманинова.
Отнюдь не всегда он подходил к радиоле под влиянием случайного настроения. Нет, гораздо чаще он сам вызывал в себе это настроение, сам взвинчивал себя до такой степени, что мать, возвращаясь домой, не раз заставала его слушающим музыку со слезами на глазах. Музыка была для него ядом, сладким, опьяняющим дурманом. В такие минуты Эмели Хагер никогда не пыталась подойти и просто выключить радиолу, как поступила бы другая мать; она же склонялась над сыном, ласково поглаживая его по голове. «Он унаследовал мою чувствительность», – думала она, и в груди ее боролись гордость и грусть.
Таким образом, дружба с Франциской Феллер не угрожала Клаусу Хагеру внезапным пробуждением дремавшей чувственности. Зато возникла опасность совершенно другого рода. Клаус Хагер почувствовал в девочке слабое, послушное его воле существо и превратился в настоящего маленького тирана. Спустя два месяца дело зашло так далеко, что Штерн в отчаянии начал ломать себе голову над тем, как бы отдалить их друг от друга, не выводя Хагера из душевного равновесия и не убивая зародившейся было в нем веры в себя. Фиаско могло опять привести не в меру чувствительного юношу к «короткому замыканию». «Однако необходимо что-то предпринять», – думал Штерн, видя, какой встревоженной, растерянной и запуганной являлась маленькая Франциска на занятия.
Клаус Хагер был ревнив. Он считал Франциску чуть ли не своей собственностью. Она подолгу просиживала с ним у радиолы, относилась к его диким вспышкам с беспомощной и восторженной почтительностью и всегда смотрела на него снизу вверх. Но проблема, мучившая Штерна, разрешилась сама собой.
Как-то вечером Клаусу пришлось отнести срочное письмо матери на вокзал, чтобы оно ушло с последним поездом. Опустив письмо в ящик почтового вагона, он пошел по перрону к выходу и вдруг увидел у одного из головных вагонов Франциску. Она была не одна. Рядом с ней стоял юноша в военной форме, вдруг он наклонился к ее худенькому бледному личику и поцеловал ее. Потом, улыбаясь и махая на прощание рукой, поднялся по ступенькам в тамбур вагона и скрылся за дверью. Франциска тоже подняла руку и, словно оцепенев, не опускала до тех пор, пока поезд не тронулся. Клаус бросился мимо девушки к выходу. Франциска его заметила.
– Клаус! – воскликнула она изумленно. И, видя, что он не останавливается, уже со слезами в голосе: – Клаус, послушай, не убегай!
Она еще раз помахала рукой юноше, который теперь стоял у окна купе, улыбаясь и махая ей белым платком, потом пустилась вдогонку за Клаусом. Уже у самого дома она настигла его и заговорила. Она не понимала, что с ним стряслось. Он остановился, уставился на нее такими бешено горящими глазами, что она съежилась от страха.
– Убирайся! – прошипел он.
И она отступилась.
А Клаус Хагер, войдя в свою комнату, бросился на постель. Он вспомнил о веронале в ночном столике матери и прокрался в ее комнату. «Так я отомщу ей, так я больнее всего отомщу ей!» Он уже протянул руку к таблеткам, как вдруг рядом раздался голос матери:
– Нет, Клаус, на этот раз не удастся! Я слышала, как ты вошел, и сразу поняла, в чем дело. Девчонки не стоят того, Клаус!
И он пристыжено поплелся обратно. Мать последовала за ним.
– Почему бы тебе не послушать музыку? – сказала она тихо. – Тебе станет легче, Клаус!
Он включил радиолу. Зазвучала Шестая симфония Чайковского, и в его расстроенном воображении зародились пышные, красочные, сверкающие видения.
Через несколько дней он получил предписание явиться вечером в казарму. Эмели Хагер побежала к своему постоянному врачу, потом помчалась в гимназию, в магистрат, на военно-призывной пункт, в районный комитет национал-социалистской партии. И в конце концов поняла, что сделать ничего не удастся.
Впервые Клаус почувствовал сострадание к матери, но также и к себе, ко всему миру. Со слезами на глазах покинул он родительский кров.
В казарме товарищи и не думали считаться с его тонкой натурой. Не было больше мамы, ублажавшей его, не было и Франциски, восхищавшейся им. Только один-единственный раз за эти четырнадцать дней он решился заговорить о мучившем его вопросе с Мутцем.
– Ты круглый идиот, – весело заметил Мутц. – Я тоже видел маленькую Франциску в тот вечер. Она провожала своего брата!
– Брата?! – Хагер был совершенно подавлен. Он пошел к Шаубеку и попросил увольнительную в город.
– Сопляк, тебе-то что понадобилось в городе? – рявкнул тот и затрясся от злости. – В твои годы вроде рановато ходить по бабам!
И Хагер махнул рукой.
За два дня до тревоги он забежал ненадолго домой, а оттуда направился к Франциске. Но она не захотела его видеть. Из комнаты доносился ее голос, но мать вышла к нему и смущенно объявила:
– Франциске нездоровится, она лежит в постели!
Хагер вернулся в казарму и с того дня стал еще более замкнутым, еще более неприметным, чем раньше. Но в душе у него открылась глубокая рана, и он испытывал какое-то странное наслаждение от того, что все время бередил ее, пока она не начинала кровоточить. «Когда-нибудь я совершу небывало геройский подвиг, – мечтал он, – и погибну, но люди долго будут помнить обо мне».
На мосту он сначала испугался, но потом им снова овладело безразличие ко всему. Гибель Зиги Бернгарда и Юргена Борхарта потрясла его. А увидев мертвого Хорбера, он сказал себе: «Я теряю рассудок, ей-богу, я схожу с ума!»
Когда Шольтен принялся бить его по щекам, как бьют пьяных, приводя их в чувство, Хагер опомнился, и ему стало стыдно. От стыда он и поклялся еще раз совершить что-нибудь такое, доказать всем: «Я не тряпка, не размазня. Полюбуйтесь-ка, на что я способен!»
Очутившись на другой стороне моста, Хагер почувствовал огромное облегчение. «Что я буду делать, если удастся добежать до дома?» – спросил он сам себя и тут только заметил, что у него нет никакого оружия, кроме штыка.
Выхватив его из чехла, он ринулся прямо к дому напротив. Успел заметить, что наверху в окне показалась светло-зеленая фигура, вильнул в сторону. Обернулся на бегу и крикнул:
– Вот он, стреляйте, стреляйте же, он там!
Выстрела из окна он уже не слышал, не видел и огненной вспышки. Его со страшной силой толкнуло в грудь. Последнее, что он услышал в наступившей вдруг темноте, был бешеный стрекот пулемета.
«Теперь ему конец, – подумал он, – я свое сделал!»
Американцу действительно пришел конец. Шольтен прошил его очередью в тот самый момент, когда он хотел еще раз выстрелить в Хагера. Американец осел, цепляясь за раму окна, потом медленно повалился навзничь. Винтовка осталась на подоконнике, ствол ее все еще грозил кому-то.
Шольтен выпрямился. Он ощущал невероятную усталость. За ним поднялся и Мутц. Они долго молча смотрели на открытые окна, потом на маленькую скрюченную фигурку Хагера, одиноко лежавшую в устье улицы.
Правой рукой он все еще сжимал штык.
XIII
– Пошли, – сказал Шольтен Мутцу. – Идем домой!
– А Форст? – вдруг вспомнил Мутц. – Ведь он все еще лежит под мостом и ждет, когда придут танки.
Осмотревшись по сторонам, они спустились к Вальтеру. Он привалился плечом к куче фаустпатронов, и обоих пронзила одна и та же страшная мыль: «Неужели и его?..»
Но, подойдя поближе, они увидели нечто совсем уж невообразимое.
Форст лежал, раскинув руки и слегка похрапывая: Вальтер Форст спал. Он проспал весь бой! Шольтен пнул его ногой в бок.
– Вставай, дерьмо! – крикнул он грубо.
Форст потянулся, сонно зевнул и лишь после этого открыл глаза.
Некоторое время он еще продолжал лежать на спине, удивленно таращась на Шольтена и Мутца. Потом прислушался. И вдруг просиял:
– Ребята, я проспал всю войну! – Одним рывком он вскочил на ноги.
– Пошли, – бросил Шольтен, – пора сматывать удочки.
– Где американцы? – спросил Форст.
– Смылись, – ответил Шольтен.
В этот момент послышался вой авиационных моторов. Ребята хотели выбраться из-под моста, но было уже поздно. Воздух наполнился свистом и ревом, три «мустанга» прочесывали на бреющем полете мост, раздался лай крупнокалиберных пулеметов и уханье реактивных снарядов.
– Надеюсь, они не станут бомбить, – прошептал Мутц.
– Из пулемета их, пожалуй, можно бы достать, – заметил Форст.
– Не трогаться с места! – приказал Шольтен и прислушался.
Самолеты сделали второй заход, опять открыли огонь, опять раздалось отвратительное уханье. Еще трижды возвращались самолеты к мосту, после чего шум моторов затих вдали.
Шольтен и Мутц вскарабкались по откосу и вошли на мост. Форст ковылял за ними. На мосту он увидел трупы товарищей и онемел от ужаса. Асфальт проезжей части был изрыт крупными воронками, на тротуаре и перилах следы пуль. Пулемет, из которого напоследок стрелял Шольтен, разбит. Весь искореженный, словно стиснутый гигантской рукой, он уставился вывернутым стволом в небо.
Они бросили последний взгляд на запад, и Шольтен проронил:
– Пошли!
– А как же приказ? – голос Форста звучал неуверенно.
– Плевать я хотел на твой приказ! – грубо отрезал Шольтен. – Всему на свете есть предел! Никто не имеет права посылать нас на верную смерть. Да если бы и послали, толку от этого все равно не будет. Нам приказали удержать мост, и мы его удержали! Четверо из нас погибли, может, хватит?
Форст пробормотал:
– Да я как все! Это же ясно!
А Шольтен вспомнил о генерале.
«Так как же, – спрашивал он себя, – выполнили мы приказ или нет? Если мы его и теперь не выполнили, тогда, значит, генерал только того и хотел, чтобы мы тут дрались до тех пор, пока всех нас не перебьют! Черт возьми, – осенило его, – значит, смерть тех четверых на совести генерала. Мог ли генерал желать их гибели? Это ведь невероятно!»
XIV
Генерал стоял в низкой комнате крестьянского дома и смотрел на часы. Дверь поминутно открывалась, вбегали связные, поспешно отдавали честь и вручали донесения. В последнем говорилось: «Дивизия оставила квадрат Ц-4 – Б-2 и в полном порядке отходит к указанному в приказе пункту. Арьергард занял оборону на восточной окраине города». Генерал облегченно вздохнул. Вдруг он заметил, что на лбу его выступила испарина.
Он вытащил из-за обшлага носовой платок и вытер лицо, потом снял фуражку и провел платком по массивному затылку и шее. «Итак, все удалось», – подумал генерал. И ощутил гордость полководца, расчет которого оправдался. Он опять взглянул на часы – было ровно пять.
Явился еще один связной. Он прибыл с наблюдательного пункта на колокольне городской церкви. В донесении сообщалось: «Обнаруженные ранее передовые части американцев после короткой перестрелки у въезда на мост отошли. Мост в наших руках. Уничтожено два танка противника».
«Черт побери, – подумал генерал, – ну и молодцы эти ребята!» И перед ним, правда очень смутно, промелькнули лица мальчиков. Генералу приходилось видеть слишком много лиц, чтобы запоминать каждое в отдельности.
Все произошло в точности так, как он рассчитывал. Американцы выслали к мосту усиленный дозор, были встречены огнем и согласно приказу отступили. Генерал ясно представлял себе дальнейший ход событий. Штурмовики, артиллерия, разведывательный дозор и снова штурмовики, артиллерия, разведдозор, до тех пор пока разведчики не доложат: «Мост очищен!»
Так американцы теснили немецкие войска, начиная от самой границы. Что за чертова стратегия! Ее цель – во что бы то ни стало сберечь своих солдат. Самолеты и артиллерия, самолеты и артиллерия снова и снова перепахивают землю, пока солдаты в серо-зеленой форме, измотанные, обессиленные, истекающие кровью, не вылезут из своих нор и не потащатся, шатаясь, на восток, чтобы через два-три километра опять зарыться в землю. И тогда все начинается снова – самолеты и артиллерия, самолеты и артиллерия…
Прибыл еще один связной. Наблюдатель на колокольне докладывал: «Три штурмовика противника типа «мустанг» атакуют мост бортовым оружием и реактивными снарядами. Бомб не сбрасывают».
Перед мысленным взором генерала вновь смутно промелькнули семь ребячьих лиц, но тут он обратил внимание на последние слова донесения: «Бомб не сбрасывают».
Все ясно: американцы хотят сохранить мост. Генерал опять посмотрел на часы. 5 часов 6 минут. Он приказал вызвать лейтенанта – командира саперов, расположившегося со своими людьми перед домом и уже несколько часов ожидавшего боевого приказа.
– Хампель, – сказал генерал, – мы все-таки еще преподнесем американцам небольшой сюрприз. Мы взорвем мост. Возьмите шесть человек и отправляйтесь. Будьте осторожны, Хампель, возможен налет штурмовиков и даже встреча с танками!
Хампель отдал честь и направился к двери. Но прежде чем он вышел, генерал сказал:
– Минутку, Хампель. Передайте ребятам там, на мосту, что они могут идти по домам.
– Слушаюсь, господин генерал!
Хампель опять повернулся к двери, но генерал снова задержал его на пороге:
– И еще, Хампель, скажите ребятам, что я горжусь ими!
Он сказал это так, словно пытался оправдаться перед самим собой. И стал собираться в дорогу. А выйдя из помещения, вспомнил, что оставил в столе портрет жены. Он вернулся и вынул из ящика фотографию в изящной серебряной рамке. «Жаль всё-таки, – подумал генерал, и лица мальчиков у моста опять замаячили у него перед глазами, – жаль, что у нас нет детей».
И он остановился, неприятно задетый внезапной мыслью: «А ты отдал бы этот приказ, если бы среди них был и твой сын?». Генерал сунул портрет в карман. «Странно, – подумал он, стараясь отогнать мысль о семи подростках, – после трёх лет пребывания в России я вдруг стал сентиментальным!».
Трое на мосту решили уходить.
– Ступайте вперёд, – сказал Вальтер Форст, – я догоню вас, только гляну ещё разок, всё ли в порядке, а то как бы там внизу чего не вышло.
Он помахал им рукой. Шольтен перекинул автомат через плечо. Мутц взял карабин, и они вдвоём пошли по мосту на восточный берег, где остановились, поджидая.
В ту же минуту раздался грохот взрыва, справа и слева от моста сероватым едким туманом взвивался дым, и сразу же их настигла воздушная волна. Шольтен и Мутц бросились сквозь дым назад.
– Что случилось, Вальтер? – кричали они.
Ответа не было.
Вальтер Форст и штандартенфюрер.
В сущности, его никто не любил. Был он коренаст, но не казался сильным, держался ловко и уверенно, но был холоден и необщителен. Дома, сколько Вальтер себя помнил, никто никогда ему не приказывал, исключая, разумеется, штандартенфюрера, но на его приказания сын отвечал подчёркнутым пренебрежением. Возможно, из него вышел бы неплохой вожак организации «Гитлерюгенд». Для этого у него были все данные. Но он доставил бы тем самым удовольствие штандартенфюреру, а одного этого было достаточно, чтобы Вальтер отклонил любое предложение такого рода. Отца он ненавидел. Активный член нацистской партии, его отец в отношении вышестоящих был угодливо и лицемерно почтителен, а с подчинёнными так жесток и груб, что иногда это отдавало садизмом. Особенно жестоко штандартенфюрер обращался с женой, матерью Вальтера.
В школе мальчику часто доводилось слышать, как отзывались о людях подобных его отцу. Поэтому, приходя на товарищеские вечеринки, он нередко вынимал из кармана пальто покрытую пылью бутылку доброго старого бургундского, ставил на стол и говорил:
– Вот и нам от бонз перепала бутылочка.
В одном отношении он, бесспорно, внушал доверие: в его присутствии товарищи могли ругнуть военную муштру, рассказать свежий политический анекдот, чем, в общем, и исчерпывались их суждения о политике.
А по вопросам «красоты и верности» Вальтер Форст сам слыл первым знатоком. Чуть ли не каждый день он являлся в школу с новым запасом скабрезных историй.
Когда на уроке разбирали легенду о докторе Фаусте, и Вальтер начал читать за Мефистофеля, у остальных мурашки забегали по спине. К нему даже пристала кличка «Мефистофель». И Вальтер был доволен. Но потом кличку забыли, потому что Вальтер Форст мог быть и совсем другим. Лучший декламатор класса, он читал гётевского «Прометея» так, что это становилось гвоздём любого школьного праздника. Вальтер Форст, ближе остальных соприкасавшийся с господствующим режимом, был единственным в классе, кто пытался критически разобраться в нём. Об этом режиме он судил по своему отцу и, ненавидя отца, ненавидел режим.
Одно событие осталось в его памяти на всю жизнь. Это было в ноябрьский вечер 1938 года. Вальтеру только что исполнилось девять лет.
По соседству с Форстами жила семья Фрейндлихов. У них была небольшая лавка. Дела, видимо, шли удачно, потому что Аби Фрейндлих, их сын, ровесник Вальтера, был всегда хорошо одет, да и сами они жили довольно широко и считались уважаемыми людьми. Аби Фрейндлих, его полное имя было Абрам, очень дружил с Вальтером. Они то возились и шумели в детской у Вальтера, то составляли большую электрическую дорогу у Аби, куда Вальтер часто прибегал после обеда.
Однажды, когда мальчики играли в квартире Форстов, неожиданно вернулся штандартенфюрер. Вальтер услышал возбуждённые голоса, доносившиеся из соседней комнаты. Его родители о чём-то спорили. Одну фразу, сказанную отцом, мальчик разобрал совершенно отчётливо:
– В который раз говорю тебе! Наш сын не должен дружить с евреем!
Вальтер взглянул на маленького Аби.
– Ты еврей, правда? – спросил он удивлённо.
У Аби навернулись было на глаза слёзы, но он сдержался. Только молча кивнул головой и выбежал из комнаты. С тех пор он не приходил, а Вальтеру строго-настрого запретили бегать к Фрейндлихам.
Но запрещение исходило от штандартенфюрера, поэтому мальчик продолжал посещать своего друга. Отвечая на вопросы отца, он лгал уверенно и хладнокровно. Всё шло хорошо до того памятного дождливого вечера в ноябре 1938 года.
Он снова услышал, как спорили родители. После ужина мальчик ушёл в свою комнату и погрузился в чтение увлекательной книги из жизни индейцев. Вдруг до него донёсся гневный бас отца и звенящий от негодования голос матери.
– Ты не смеешь требовать, – кричала мать, – чтобы я участвовала в твоих гнусностях!
Затем хлопнула дверь. Штандартенфюрер ушёл.
Через несколько минут дверь в комнату Вальтера отворилась. Вошла мать. Мальчик взглянул на неё, она была смертельно бледна. Мать вложила в конверт маленькую записку, всего несколько строк.
– Уже довольно поздно, Вальтер, – сказала она, – но ведь ты пойдёшь сегодня к Аби поиграть, не так ли?
– Он же запретил мне, – ответил мальчик удивлённо, – и если я пойду вечером, он сразу заметит.
– Сегодня это не имеет значения. Очень важно, чтобы ты пошел. Речь идет о твоем друге. Понимаешь? Ты передашь его маме письмо. А они что-нибудь придумают.
Вальтер плохо понимал, почему мама придает такое значение маленькой записке, однако послушно надел дождевик и побежал к Фрейндлихам. Дверь отворил отец Аби.
– Мама вам кланяется и шлет это письмо, – сказал Вальтер, вручая записку.
Старый Фрейндлих смотрел то на письмо, то на мальчика. Наконец Вальтер спросил, можно ли ему немного поиграть с Аби.
– Ну, конечно. Он будет рад, – ответил Фрейндлих и как-то странно улыбнулся.
Вальтер вбежал по лестнице в комнату Аби, и они занялись своей железной дорогой. Из-за двери доносился какой-то шум, в доме непрерывно стучали, хлопали, бегали. Наконец в дверь просунулась голова госпожи Фрейндлих.
– Аби, на минутку!
Некоторое время Вальтер играл один. Потом вернулся маленький Аби в пальто и шапке; за ним вошли старый Фрейндлих с женой; тоже одетые по-дорожному, с сумками, зонтами и рюкзаками в руках.
– Передай маме большой привет, – сказал старый Фрейндлих, а мать Аби поцеловала Вальтера. Мальчик отвернулся: он терпеть не мог, когда взрослые нежничали с ним. Потом подошел Аби, взгляд его был серьезен, как у взрослого.
– Нам нужно уходить, а железную дорогу возьми себе.
И они пошли, а Вальтер бежал следом по лестнице и кричал:
– Ты не шутишь, Аби? Она теперь в самом деле моя?
– Не ходи ты за нами, не кричи… тише, тише… – остановил его старый Фрейндлих. – Да, она твоя, ступай наверх и собери ее. Возьми, пока не унес кто-нибудь другой. Ну, беги, беги, малыш!
Они пошли по улице, а Аби и Вальтер еще долго махали друг другу рукой, пока туман не поглотил удаляющиеся фигуры Фрейндлихов. Потом Вальтер вернулся в детскую, словно был у себя дома.
Он присел около железной дороги, разглядывая сокровище, столь неожиданно ставшее его собственностью. Включал трансформатор, переводил стрелки, подавал сигналы, соединял вагоны, пока, наконец, скорый поезд с черным паровозом не помчался, грохоча, по рельсам. Мальчик успел предотвратить крушение, переведя в нужном месте стрелку. Он настолько был поглощен игрой, что забыл обо всем на свете.
Потом кто-то затопал по лестнице, но мальчик не слышал. Только когда загремел чей-то бас, он весь съежился и оцепенел от страха: Вальтер узнал голос отца.
– Эй, Фрейндлих! Куда же ты запропастился, старый плут? – орал штандартенфюрер.
Кто-то ответил:
– Эге… Кажется, пташка-то упорхнула!
Дверь в детскую отворилась, и в щель просунулась голова в коричневой фуражке.
– Они забыли мальчишку, штандартенфюрер! – рявкнул незнакомец, уставясь на Вальтера.
– Это тоже кое-что… – раздался голос отца, и вслед за тем сам он появился в дверях.
– Добрый вечер, – робко сказал Вальтер и тут же почувствовал на щеке ожог от пощечины. – Он же подарил мне эту железную дорогу, – рыдая, оправдывался мальчик. Но отец, багровый от бешенства, со вздувшимися на лбу жилами, продолжал избивать его. Он не успокоился до тех пор, пока Вальтер, перепачканный кровью, сочившейся из ушей, из носа, изо рта, не свалился рядом со своей железной дорогой.
– И это мой сын! – прорычал штандартенфюрер. – Полюбуйтесь на него!
Вскоре они ушли. Затем появился какой-то человек в коричневой форме и отнес тихо всхлипывающего мальчика домой.
В этот вечер мать Вальтера долго ждала мужа. Он пришел пьяный и еще в передней, снимая шинель, ткнул в грудь служанку, отворившую дверь, так, что девушка ударилась о стену. Потом, шатаясь, прошел в комнату.
– Хорош твой сыночек, – заорал он при виде жены. – Якшается с евреем. Позорит отца! Кто предупредил Фрейндлихов?
Он остановился в двух шагах от жены, огромный, на голову выше ее. Но женщина не шелохнулась.
– Фрейндлихов предупредила я, и, если ты посмеешь тронуть мальчика, я убью тебя! Убью! Слышишь ты, скотина, подлое животное, ты… ты… мразь!
– А ну повтори! Повтори – и я засажу тебя за решетку!
– Возможно, – тихо проговорила женщина, но прозвучало это как угроза. – Возможно! Но и ты сядешь! Я продумала все заранее. Не так я глупа, как ты думаешь. Мой адвокат знает все, нужные документы у него в сейфе, и он отошлет их, если ты хоть пальцем тронешь меня или сына. И имей в виду, мой адвокат тоже член вашей партии. А теперь можешь упрятать меня за решетку, если посмеешь!
С этими словами она вышла из комнаты. Штандартенфюрер позвонил служанке и потребовал коньяку. Когда она принесла бутылку, он налил себе и усадил девушку на колени.
А маленький Вальтер лежал в это время в детской на кровати. Шум ссоры доносился и до него. «Как я его ненавижу! Как я его ненавижу!» – думал он, засыпая.
Мать с тревогой замечала, с какой невероятной легкостью ее сын мог из милого мальчика превратиться в маленького садиста. Он же, любя мать и всячески стараясь показать ей это, всегда жалел потом о своих злых выходках, но никак не хотел понять, что отнюдь не все способны забывать его проказы так же быстро, как он сам.
Вооружившись духовым ружьем, он мог часами выслеживать птиц во фруктовом саду возле дома. И когда маленькое тельце падало, кувыркаясь, на землю, в глазах у него вспыхивал опасный огонек.
Однажды он плохо прицелился, и черный дрозд с жалобным писком стал метаться по земле, волоча крыло. Вальтер пробовал прицелиться лучше, но все попытки кончались неудачей. Потом пришел старший дворник, он взял палку и одним ударом покончил с птицей.
Раздался едва слышный хруст. Больше ничего. Но этот хруст стоял у мальчика в ушах, все разрастаясь и не давая покоя. Он бросился на террасу и, размахнувшись изо всех сил, разбил ружье о стену. Потом побежал к матери и разрыдался. А мать, утешая его, думала: «Нет, мальчуган у меня не плохой, в нем, как и в каждом, уживается добро и зло. А вот отец его – тот неисправимый негодяй…»
Вальтер становился старше, и с возрастом его жестокость, его способность ненавидеть и причинять зло все глубже скрывались за холодной расчетливостью и непринужденной благовоспитанностью. Редко кто проникался к нему теплым чувством. Самый задушевный разговор товарищей он мог отравить циничным замечанием и почти в любой сказанной при нем фразе выискать двусмысленность.
Иногда Вальтера награждали одобрительным смешком, но не больше. Его не любили, и он, видимо, понимал это. Он мог совершенно сознательно оскорбить товарища, по-дружески обратившегося к нему, и нередко создавалось впечатление, будто ему нравится, чтобы его боялись, будто это желание внушать страх переполняло его и искало выхода.
Праздновали день рождения фюрера. Все ученики собрались в актовом зале. Директор гимназии произнес ничего не значащую речь. Потом включили радио, и все стали слушать более внимательно.
Первым забеспокоился классный наставник Штерн.
– Пакость какая! – шепнул он директору.
– Что вы, дорогой коллега! – ответил тот.
– Вы меня не так поняли, господин директор, – усмехнулся Штерн. – Здесь в зале воняет какой-то пакостью!
Теперь и другие почувствовали вонь. Сероводород! Узнается легко и безошибочно! Пришлось всем выйти. На том месте, где был выстроен шестой класс, нашли три раздавленные пробирки и пробки от них.
Преподавательница гимнастики Зигрун Бауэр потребовала расследования. Но класс молчал, хотя виновник не мог положить пробирки на пол незаметно. Подозревали всех, по крайней мере всех мальчиков. Исключая Вальтера Форста, сына штандартенфюрера. Хотя виновником был именно он.
Штерн занимался расследованием без должного рвения, его даже не раз упрекали в этом.
– Я не имел бы ничего против, если бы вы, коллега, взяли все в свои руки, – сказал он преподавательнице гимнастики, уставясь на нее сквозь толстые стекла очков. Она поспешила отойти, потому что в его присутствии всегда чувствовала себя несколько неловко. Про себя Штерн называл ее распутной, однако произносить это слово вслух опасался.
Юрген Борхарт был не единственным, кто, забежав после уроков в душевую при гимнастическом зале, чтобы взять забытые вещи, к своему ужасу, застал там преподавательницу Бауэр. С Вальтером Форстом произошло то же самое. Но он и не пытался улизнуть, встал на пороге, нагло глядя в упор на Бауэр, и под этим взглядом смех застрял у нее в горле.
Когда она крикнула, чтобы он убирался, Вальтер молча повернулся и ушел. На следующий день в тот же час, сразу же после уроков, он снова хотел заглянуть в душевую. Оттуда слышался звук льющейся воды, но дверь была заперта. Он явился на третий, на четвертый день, и так всю неделю.
Но потом, по-видимому, то низменное, что было в Зигрун Бауэр, пересилило страх. На шестой день дверь оказалась незапертой. Вальтер вошел, бесцеремонно оглядел ее и, не сказав ни слова, вышел.
Через две недели ученик Вальтер Форст и учительница Зигрун Бауэр поехали купаться на озеро в окрестностях городка. Домой Вальтер возвратился, познав то, чего так домогался. Два дня спустя он праздновал свое пятнадцатилетие.
А еще через две недели ему стало известно, что вечер на озере не прошел без последствий. Они встретились в конце дня за спортплощадкой. От эксцентричности и заносчивости Бауэр не осталось и следа, рядом сидела убитая горем, потерянная девушка.