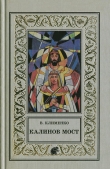Текст книги "Мост"
Автор книги: Манфред Грегор
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц)
Эрнст Шольтен стал другим. Это чувствовали все.
В глазах его появился какой-то фанатичный, дьявольский блеск. И эти глаза на детском еще лице казались совсем взрослыми. Вся сила страсти, вся сила ненависти, на какую способен был этот шестнадцатилетний юноша – товарищи могли лишь догадываться о ней по коротким и бурным вспышкам, – теперь прорвалась наружу. Ею дышало все его худое бледное лицо. До сих пор оборона моста была для него лишь приключением с патриотическим душком. Теперь приказ генерала приобрел для него особый смысл. Приказ узаконил решение Шольтена отомстить за погибшего товарища.
За какую-то минуту война перестала быть игрой в индейцев и превратилась в сугубо личное дело для Эрнста Шольтена. Теперь ему было совершенно безразлично, как поступят остальные. Уйдут – хорошо, останутся – тоже хорошо. Он будет лежать за этим пулеметом и ждать. Он будет ждать до тех пор, пока кто-нибудь с той стороны не вступит на мост.
«На мой мост», – думал Шольтен. Он будет целиться в этого человека очень точно до тех пор, пока промах станет невозможным. Он направит дуло очень точно, прямо в грудь, а не в голову. Потом он упрется в приклад, нажмет на спуск, и, как бы тот ни вилял и ни бросался из стороны в сторону, он будет стрелять до тех пор, пока не изрешетит его.
Да, пока не изрешетит!
А потом он скажет:
– Видишь, зайчишка, это первый. Я дарю его тебе! – Точно так он и скажет.
Подошел Хорбер и сообщил, не поднимая глаз, что они перенесли Зиги. Неподалеку от моста есть небольшая огороженная площадка, там стоит памятник старому военачальнику – отпрыску одной из самых аристократических фамилий города.
– Мы сможем рассказать об этом его матери, если останемся целы, – прошептал Хорбер, и мальчики взглянули друг другу в глаза.
Шольтен чувствовал, что после смерти Зиги перед ними снова встает вопрос, оставаться ли здесь, или потихоньку разойтись по домам. Он знал, что для всех пятерых родной дом очень, очень дорог, для всех, но не для него.
– Отправляйтесь восвояси, – сказал он снова, – не мучайте своих. – Он должен был это сказать, он был просто обязан это сказать. Но Хорбер не ответил, он продолжал сосредоточенно возиться со своей винтовкой.
Ответил Юрген Борхарт:
– Или мы уходим все – тогда все в порядке, либо остаемся здесь – и тогда тоже все в порядке. Если ты скажешь: «Я ухожу!» – это еще не значит, что уйдут все. Но если уж ты говоришь: «Я остаюсь!» – значит, остаются все. Это же ясно, дружище!
Подошел Альберт Мутц. На щеках у него были грязные полоски, соленые отметины слез.
– Я все равно остаюсь здесь, – сказал он с ожесточением.
– Мои старики забьют меня до смерти, если я вернусь, – загудел Хагер.
Впервые после смерти маленького Зиги в «команде» раздался смех. Сдержанный, правда, и мимолетный, но все-таки смех.
Со времени налета штурмовиков прошло около часа с четвертью. Стрелка на башенных часах показывала половину двенадцатого.
Им нечего было делать, но о еде никто и думать не мог. Хорбер перешел было на другую сторону моста и набрел на ту самую банку, из которой он еще недавно с таким аппетитом уплетал колбасу. Как бы ненароком он толкнул ее ногой, она отлетела на край моста и, описав дугу, плюхнулась в реку.
Злой как черт, Хорбер круто повернул обратно. Пятеро удивленно смотрели на него.
И вдруг все оцепенели. Артиллерийский залп, совсем рядом. Стреляли, должно быть, с расстояния километров в пять по цели, расположенной не дальше чем в километре от них. Не дальше. Вне всякого сомнения, не дальше.
– Если так, – заключил Хорбер, – спектакль состоится самое позднее через полчаса!
– Хорошо, если так, – Мутц усомнился даже в этом.
Но Шольтен снова напомнил им, что впереди еще есть немецкие войска. Не для собственного же удовольствия стреляют американцы.
– А не пора ли нам тоже заняться делом? – буркнул Шольтен. – Кто возьмет второй пулемет?
– Я! – выпалил Хорбер, опередив Мутца. Тот надулся. Ведь, ей-богу, он, Мутц, стреляет лучше. Но Шольтен, который, будто это само собой разумелось, принял на себя командование группой, стал на сторону Хорбера.
– Итак, все ясно, – заявил он примирительно. – Мутц! Пойдешь со мной. Захвати побольше коробок. Будешь подавать ленту, а когда надо, поддерживай сошки, чтобы не тряслись. Ты, Клаус, – он повернулся к Хагеру, – будешь вторым номером у Хорбера. Форст захватит три фаустпатрона и ляжет за парапет. Ты, Юрген, возьми у Хорбера самозарядную винтовку и забирайся на каштан.
Последнее предложение привело всех в восторг. Здорово придумал Шольтен! Блестящая идея!
Каштан стоял на западном берегу реки, метрах в двадцати от въезда на мост.
– Прихвати еще и карабин, – предложил Шольтен, – кто его знает, может, эта штучка быстро выйдет из строя. И еще возьми обоймы, естественно, с патронами, возьми столько, сколько сможешь унести и припрятать. Целую кучу, понимаешь, Юрген? Когда начнется заваруха, ты не сможешь слезть, чтобы сбегать за патронами, не до этого будет. Смекаешь?
Юрген подтвердил, что понял абсолютно все. И благодарит за исчерпывающие указания; сам он, конечно, до этого бы не додумался.
Затем он скорчил Шольтену страшную рожу, взял плащ-палатку из запаса, вытащил из груды боеприпасов ящик с патронами и стал набивать обоймы. К нему подсел Хагер, потом Форст. Они набивали и набивали, пока совсем не осталось пустых обойм.
Каждый из них заглянул в свой подсумок и проверил, в порядке ли боезапас. У Хагера недоставало пяти патронов. Он взял обойму из плащ-палатки. Шольтен осмотрел еще два диска для своего автомата. Они были полны.
– Ну, пора приступать, – сказал Шольтен и взял три фаустпатрона. Он отнес их к парапету у западного конца моста, положил за небольшим выступом и поманил Форста. – Вальтер! Собака! У тебя железные нервы. Я это знаю. Это все знают. У меня есть идея. Я придумал, как задать этим парням жару. Взгляни-ка туда, вниз!
От слов сурового Шольтена Форст зарделся так, словно его похвалил сам генерал, и перегнулся через перила. Между рекой и одетым в гранит берегом, под первым пролетом моста, видна была песчаная отмель. За долгие годы течение нанесло сюда песок и гальку.
– Если ты, – рассуждал Шольтен, – станешь под этим пролетом, в каких-нибудь восьми метрах от тебя будет поле обстрела шириной в сорок метров. Тут уж не может быть промаха. Они скорее разродятся, чем поймут, кто подбивает их танки. А другого пути на мост нет. Только через эту улицу.
Форст пришел в восторг. Именно о таком задании он и мечтал. Взяв два фаустпатрона, он отнес их под пролет, потом вернулся, взял еще два, и так много раз подряд. Когда он собрался унести в укрытие два последних фаустпатрона, все возмутились, а Хорбер сказал кротко:
– Твой папаша, конечно, важная шишка, но оставь хоть что-нибудь и нам. – Форст не обиделся. Он слышал это не в первый раз, к тому же сейчас ребята были правы.
Он ушел под мост и занялся своими фаустпатронами, стал снимать их с предохранителей один за другим. Шольтен понес ему карабин, который тот оставил на мосту, и в ужасе отпрянул назад.
– Сумасшедший! Разве можно снимать с предохранителей все эти штуковины и складывать в кучу? Одно неосторожное движение – и ты взлетишь в воздух!
– Тогда беги скорей, Эрнст, не то взлетишь вместе со мной! – Форст ослепительно улыбнулся. – Он продолжал возиться с фаустпатронами. – Все знаю, – криво усмехнулся он. – Но ведь тебе известно, что инструкций для меня не существует.
Шольтен ответил сдержанно и сухо:
– Желаю счастья, Вальтер, – и протянул ему руку. Но Форст не унимался.
– Шольтен, – сказал он, в точности повторяя интонации учителя Штерна, – прочти-ка это, из Гельдерлина… «Ты грянь, о битва, уже спускаются юноши с холмов… спускаются в долину…» Ну, как там дальше, Шольтен, как, старый барбос?
И Шольтен, этот шестнадцатилетний насмешник и циник, бросился из-под моста наверх, к остальным. Смех преследовал его.
«Странно, – думал он потом. – Сейчас снова все нормально, а там, у Форста, меня охватило странное чувство, очень странное чувство. Наверное, это был страх. И я забыл про маленького Зиги, а я не должен забывать о нем – тогда мне не будет страшно, конечно, тогда не будет страшно».
И он стал думать о Зиги. Ему удалось разжечь в себе прежнюю ярость, холодную, беспощадную ярость. Но тут же мелькнула мысль: «Хоть бы они пришли поскорее, а то может случиться, что мой гнев иссякнет».
А Борхарт между тем уложил свои пожитки в плащ-палатку. Перекинул через плечо самозарядную винтовку и карабин, попросил Хагера поднести плащ-палатку и направился к каштану.
– Нужна веревка, – решительно заявил он, – а то придется все эти штуковины втаскивать по отдельности. Где только ее взять? – И тут он заметил маленький спасательный плот. Плот был пришвартован длинной толстой веревкой.
Хорбер сбежал вниз и попробовал перерубить веревку штыком. Но от нее отщеплялись тонкие волокна. Тогда он положил ее на бревно и стал бить штыком, как секирой. Он вернулся с веревкой, и все, кроме Вальтера Форста, торчавшего у своих фаустпатронов и напевавшего что-то о ярком солнце Мексики, стали помогать Борхарту устраиваться на каштане.
– Забирайся на толстый сук так, чтоб укрыться за стволом, – решил Шольтен. – Карабин повесь рядом, и плащ-палатку с патронами пристрой поближе, а самозарядную винтовку укрепи на каком-нибудь суку поудобнее для упора, чтобы бить наверняка.
– Премного благодарен, – поклонился Борхарт, скорчил рожу и, словно обезьяна, мигом вскарабкался на дерево, захватив веревку.
– Будь у тебя красный зад, ты вполне сошел бы за павиана, – сострил Хорбер. Потом вспомнил о Зиги, и ему стало стыдно.
Наконец Борхарт сообщил, что он устроился совсем как в кресле, и спустил вниз веревку. Постепенно он перетащил к себе все свое имущество и стал ломать голову над тем, как разместить его поудобнее.
Четверо стояли внизу и смотрели наверх. И в это время снова появился тот самый человек, что и утром. Теперь он привел маленькую женщину, она едва поспевала за ним.
– Скажите, – спросил он, – неужели вы действительно собираетесь заварить здесь кашу?
На этот раз он держался довольно уверенно.
– Мы уходим к знакомым в восточную часть города. Их убежище надежнее. По эту сторону никого уже не осталось. Сегодня я за целый день не встретил ни души.
– Никакой каши мы не завариваем, – сказал Шольтен, – у нас есть приказ удержать мост. Вот и все. Ясно?
Человек ушел, маленькая женщина засеменила рядом.
– Приказали удержать мост, – бормотал он, – горсточке детей!
– Этот тип приносит нам несчастье, – прошептал Хорбер. – Я еще утром это подумал.
– Просто старый болтун, – проворчал Шольтен. – Обыкновенный старый болтун!
Шольтен стал каким-то озлобленным. Все это чувствовали.
Вот он вскинул на плечо автомат, схватил пулемет, подозвал Мутца и сунул ему в руки две коробки с пулеметными лентами. Они перешли на левую сторону и стали укрепляться там за выступом выложенного из бутовых камней парапета, который почти на полметра заходил на тротуар.
Шольтен установил пулемет и залег, а Мутц тем временем спустился на берег, где лежали оставшиеся от строительства моста обломки бута, и, с трудом ворочая большие глыбы, вкатил четыре штуки на тротуар.
Он уложил их прямо возле выступа, так, что ствол пулемета высовывался оттуда, словно из бойницы. Шольтен проверил, свободно ли вращается ствол, отодвинул сначала один камень, потом другой, попробовал еще раз, пока не убедился окончательно в том, что все в порядке.
Он подошел к Хорберу и Хагеру, показал на пулеметное гнездо и сказал:
– Посмотрите хорошенько и сделайте так, как у нас.
Те оглядели укрепление, решили, что все это выглядит весьма внушительно, и тоже отправились к берегу за камнями. Но они не ограничились четырьмя, а втащили двенадцать бутовых глыб, причем некоторые из них были так велики, что их можно было волочить только вдвоем, и возвели у правого парапета настоящее укрепление.
Шольтен осмотрел его, а Хорбер сказал:
– Теперь нас не продует, понимаешь, Эрнст? – и ухмыльнулся.
Артиллерийский обстрел, который так напугал их, прекратился. Но никто не обратил на это внимания, каждый был занят своим делом.
И вдруг все почувствовали гнетущую тишину. Ни звука, только река шумит, а под мостом поет Вальтер Форст:
– Кто отстал, тот не догонит…
Борхарт сидел на дереве и, казалось, спал. Остальные четверо стояли неподалеку.
– Хоть бы этот парень заткнулся, – заныл вдруг Хагер и даже позеленел. – Он действует мне на нервы.
Форст пел теперь:
Душистое сено лежит на лугу,
В долине трава растет,
Как только увижу девчонку мою,
Радость в груди поет.
Так будь же беспечна и весела
И знай, что из дальних стран
К тебе я вернусь, лишь дай нам добить
Янки и англичан.
– Заткнись, или я тебя пристукну! – крикнул Хагер вне себя от ярости, но Форст только засмеялся в ответ и продолжал петь:
Мы бросили якорь у мрачных скал
Острова Мадагаскар.
Чума на борту, и каждый день
Смерть косила людей,
А он все думал о крошке своей,
Он думал только о ней.
И, глядя на море, он вспоминал,
Как нежно ее целовал,
И, глядя на волны, он думал о том,
Как далеко родимый дом…[2]2
Стихи даны в переводе С. Круглова.
[Закрыть]
Форст пел, и Хагер больше этим не возмущался. Только сказал:
– Вспомни о малыше!
И тогда наступила тишина, такая, что Хагер готов был побежать к Форсту и умолять его: «Продолжай, Вальтер, ты не так меня понял!»
Но Форст молчал. Иногда только слышалось, как позвякивали фаустпатроны, как плескалась вода в реке, – и больше ни звука.
Хорбер посмотрел на башенные часы. Четверть третьего. Теперь уже недолго. Но с запада больше не доносилось ни артиллерийских залпов, ни шума боя.
Шольтен тихо сказал:
– Впереди еще должны быть наши части, иначе американцы не стреляли бы.
Он задумался и вдруг явственно услышал какой-то шум. Мотор! Шум мотора! Звук приближался, усиливался, его услыхали все!
– Танк! – закричал Шольтен. Но то, что обогнуло угол и выползло на улицу, – великолепная цель для пулеметов, фаустпатронов Вальтера и самозарядной винтовки Юргена Борхарта, – оказалось потрепанным немецким грузовиком, облепленным со всех сторон солдатами.
Грузовик, дребезжа, въехал на мост, замедлил ход и остановился. Шофер крикнул мальчикам:
– Будете взрывать?
– Нет, надо удержать! – ответил Шольтен.
– Какого черта! – выругался шофер. – Надо поскорее сматываться отсюда, а то как бы нас не приняли за подкрепление.
Он дал газ и хотел рвануться вперед. Но Шольтен бежал рядом с этим старым рыдваном и кричал:
– Американцы далеко? А наши там еще есть?
– Нет, – крикнули ему из кузова, – больше никого! Мы последние. И нас бы прихлопнули, не попадись нам эта телега. Остальные переходят реку выше по течению, в двух километрах отсюда. Но американцы не торопятся.
Солдаты в машине кричали еще что-то, но Шольтен уже не мог ничего разобрать. Он побежал что есть мочи, но не смог их догнать и махнул рукой.
Медленно, не в силах перевести дух, возвращался он на мост. Широко разводя руками, он глубоко дышал, как учили его на уроках гимнастики. Дыхание стало ровнее. А вот и пулемет. Он бросился к нему и сказал Мутцу:
– Теперь начнется, Альберт. Это были последние. Правда, говорят, что американцы не торопятся.
Мутц не знал, что сказать, он только спросил:
– У тебя случайно нет сигарет? Закурить бы, не то я усну.
Сигарет ни у кого не оказалось: ни у Хорбера, ни у Борхарта, ни у Хагера, ни у Форста, ни у Шольтена. Но Хорбер сказал медленно и многозначительно:
– Я знаю, у кого есть сигареты!
И он показал в сторону памятника, где под плащ-палаткой лежал Зиги Бернгард. И тут же на глазах у него показались слезы. Мутц сел на землю и заревел, а Шольтен сказал:
– Будь оно все проклято! Будь все проклято!
Форст, успевший присоединиться к остальным, двинулся к памятнику. Никто не смотрел в его сторону. Он принес полпачки сигарет и совал ее всем под нос.
– Мне уже расхотелось курить, – сказал Мутц, но Форст спокойно возразил:
– Кури! Все равно ему уже ничем не поможешь!
И тогда закурили все.
Они сидели на своих касках. И думали о Зиги Бернгарде, о малыше Зиги, о зайчишке Зиги. Хорбер сказал тихо:
– Хотел бы я знать, почему поплатился именно он. Нас было семеро. Так почему же он?
– Он так плакал, должно быть, предчувствовал что-то, – предположил Мутц.
Хагер покачал головой:
– Он плакал, потому что боялся, и именно потому, что боялся, погиб.
Все замолчали, потом Шольтен задумчиво сказал:
– Он погиб, потому что судьба!
Борхарт поспешил возразить:
– Он погиб потому, что был самым слабым.
Форст презрительно отмахнулся.
– Чушь! Он погиб потому, что не бросился вовремя на землю. Если бы он упал, как положено, осколок не угодил бы ему в висок. Он просто был еще младенец. Нечего ему было здесь делать!
Хорбер сидел, уставившись в одну точку:
– Малыш, верно, мечтал совершить великие подвиги.
Никто из сидящих на мосту не понимал сейчас Хорбера так хорошо, как Мутц.
– Я его по-настоящему любил. Мы часто бывали вместе, – сказал он, чуть не плача.
На лбу у Шольтена появилась резкая складка.
– Не мели вздор, Мутц. Мы все к нему неплохо относились, каждый на свой лад. Но любить – это уж слишком.
– А я любил, – упорствовал Мутц.
Форст обрезал:
– Чудак! Никакая это не любовь, просто жалость. А Зиги она теперь вовсе не нужна. Свое дело он сделал. Да тебе и не его жалко. Просто ты жалеешь самого себя.
На помощь Мутцу пришел Хорбер:
– Но Мутц прав. Я тоже любил Зиги. Он…
– Хватит, болтать! – разозлился Форст. – Зиги погиб. Очень жаль, но ничего не поделаешь. Мы сожалеем и скорбим. Но любить? Любить можно только баб!
Борхарт взглянул на него и спросил:
– Это ты про женщин, да, Форст? Про женщин?
И прежде чем Форст ответил, Мутц сказал упрямо:
– А я вообще не знаю, как это любят баб.
Все притихли, потому что этого не знал никто из них, кроме одного, а, тот сейчас думал совсем о другом. Все они сейчас думали о другом. Наконец Хагер проговорил:
– Мне кажется, что умирать вовсе не так уж страшно!
Форст усмехнулся:
– Умирать не страшно, но быть мертвым…. Только представь себе… Все, что ты имеешь, все, что тебе дорого, все, что ты делаешь, что ты есть, все это вдруг куда-то исчезает, проваливается, летит ко всем чертям! Страшная штука эта самая смерть!
Хагер не слушал. Он думал свое: «Страшно, когда ты заранее знаешь, что умрешь. Но ведь этого никто не может знать заранее. Всегда есть надежда, что тебя обойдет стороной. И я надеюсь».
– Все это судьба! – сказал Шольтен.
– Вот ты говоришь – судьба, а я прочту «Отче наш», когда это начнется, – возразил Мутц.
Форст, иронически:
– У тебя не будет времени.
Мутц, спокойно:
– На это всегда есть время.
Никто больше не возражал. Всех охватил страх, и если бы сейчас один из них позвал, ушли бы, вероятно, все. Даже Шольтен, даже Форст. Если бы они не стыдились друг друга, никто бы не остался на мосту. Наконец, словно желая дать какое-то разъяснение, Мутц сказал:
– Я остаюсь ради него. – Он показал в сторону памятника. Все его поняли.
– Веское основание, черт возьми! – заметил Шольтен. – Что тут возразишь?
– А что бы сказал Штерн? – изрек вдруг Мутц, и все сразу подумали о своем школьном учителе.
Учитель Штерн и наставница любовь

Он был из тех редких людей, у кого нет врагов. Еще в детстве он стал калекой. Когда после тяжкой болезни он вернулся в школу, на него обрушилось, как удар, сострадание окружающих. И ему пришлось нести этот крест.
Товарищи его щадили, учителя ему помогали.
– Ну, как дела, Штерн? – спрашивали его зачастую, когда весь класс в поте лица трудился над очередной задачей по математике. И учитель наклонялся над его тетрадью, чтобы помочь, а остальные принимали это как должное: всем было понятно, что этот человек нуждается в помощи.
Но людское сочувствие терзало сердце ученика Штерна, и чем больше горбилась его спина, чем тяжелее был недуг, тем чище и светлее становилась его душа, и пришел день, когда он понял, что в убогом теле может жить здоровый могучий дух. И он учился, учился без устали.
– Спокойной ночи, – говорила ему мать. И он осторожно гасил свет, чтобы через десять минут снова зажечь его и до полуночи сидеть над книгами.
Когда первая мировая война окутала тенью страну, Штерн сдавал на аттестат зрелости. Он сдал экзамены лучше всех в классе. И когда все решили проситься на фронт, он пошел вместе со всеми. Но когда они с горящими глазами, полные воодушевления, под ликующие возгласы провожающих и бравурную музыку шли на вокзал, он смотрел на улицу из-за занавески.

И клеймо «негоден», так же как раньше людское сострадание, жгло его сердце. Он сидел в полупустой аудитории университета и слушал лекции, когда стали приходить первые письма с фронта. Он давал частные уроки сынкам состоятельных родителей, когда в газетах появились первые сообщения о гибели друзей и одноклассников. И когда по вечерам, убогий и согбенный, брел он по улицам города, ему казалось, что все указывают на него пальцем: «Смотрите, он сидит дома, а наши сыновья проливают кровь!» И он снова попросился на фронт, но его снова не взяли. И сказали при этом: «Вам следовало бы радоваться тому, что вы непригодны. Тысячи других были бы счастливы, а вы жалуетесь!»
В первый год после войны он окончил университет, и тогда появилась Гизела. Как-то вдруг вошла в его жизнь. Он познакомился с ней в ночном ресторане, во время пирушки с молодыми коллегами; а когда он проводил Гизелу домой и простился с ней у ее двери, он уже знал, что это та самая девушка, о которой он мечтал всю жизнь. Они провели вместе чудесные месяцы, потом пришло лето, и Гизела стала все чаще и чаще уклоняться от встреч с ним: как раз именно сегодня она собралась плавать или кататься на лодке…
Однажды он отправился с ней, надел купальные трусы и стал ждать ее на берегу. Она прибежала в голубом купальнике, молодая, здоровая, безукоризненно сложенная. Он не мог отвести от нее глаз. Ему казалось в тот день, что каждое ее слово полно сострадания. Все в нем восставало против этого, но он не мог отказаться от девушки. Спустя два дня он принял приглашение друзей и привел с собой Гизелу.
Сначала все шло хорошо. Они пили кофе на террасе. Потом один из его товарищей предложил Гизеле сыграть партию в теннис. Горбун одиноко сидел на террасе и смотрел, как там, на корте, они ловко отбивают мячи, как Гизела, стройная и гибкая, радостная и полная жизни Гизела, царит на площадке! Тогда он поднялся и ушел. Никогда больше он не видел Гизелу. На следующий день он покинул большой город и уехал в провинцию, где получил место школьного учителя.
Он был хороший педагог, специалист в своей области, но плохой воспитатель. Ученики боялись его. Он был справедлив, но суров. Однако все изменилось в тот день, когда малыш Штепке, только что поступивший в его класс, подошел к нему после урока и, глядя большими доверчивыми, глазами, спросил, не согласится ли он руководить их кружком. Они хотят строить модели настоящих кораблей, но у них нет руководителя. И тут учитель внезапно почувствовал, что этот малыш не испытывает к нему никакого сострадания и не только воспринимает его физический недостаток как нечто само собой разумеющееся, но и ждет от своего учителя помощи и участия.
И Штерну захотелось сблизиться со своими учениками, полюбить их, излить на каждого нерастраченную душевную теплоту. Он добился того, что школьное начальство отвело ему обширное помещение на чердаке, и на свои собственные средства устроил там мастерскую, которая стала потом гордостью школы. Они простаивали там за верстаками все свободное время. Пилили, шлифовали, приколачивали, до блеска зачищали борта своих моделей.
И вот долгожданный день настал. С четырьмя изящными моделями кораблей они направились в бассейн и устроили гонки судов. И когда он взглянул на этих ребят – они стояли у края бассейна на коленях и не сводили глаз со своих кораблей, – он понял, что в этих детях смысл его жизни. Долг, который он должен выполнить, несмотря на тяжкий недуг. И когда на большом чердаке он устроил настольный теннис и очень быстро стал обыгрывать любого противника, он подумал о Гизеле. «Какой же я был идиот!»
Следующей зимой он отправился вместе с учениками на две недели в лыжный поход, и, когда болезнь давала себя знать, любовь и доверие детей придавали ему новые силы.
…Это был самый маленький из его классов – всего семь мальчиков и восемь девочек. Еще никогда ему не удавалось так сблизиться с учениками. Каждое утро он радовался, глядя в их милые юные лица. Он не жалел сил, чтобы пробудить в каждом из них лучшие задатки и искоренить дурные. Он хорошо знал их всех, но узнал еще лучше, когда побывал дома у каждого.
В тот вечер, когда к городу подошли американцы и начался бой за мост, учитель Штерн стоял в церкви и молился:
– Боже милостивый! Пощади моих мальчиков.
IX
Ребята сидели молча. Каждый думал о своем. Шел дождь. Не сильный, но после бессонной ночи их бил озноб.
Форст опять пустил пачку сигарет по кругу. Оставалось всего четыре штуки. Табак военного времени. Три сигареты поделили между собой, четвертая – про запас. Форст сунул ее обратно в карман. Все задымили. Крупная капля дождя погасила сигарету Шольтена. Он оторвал намокший кончик и еще раз зажег окурок. Но бумага так пропиталась влагой, что шов расклеился.
– Дерьмо, – выругался Шольтен и бросил окурок в мутную лужу у самого тротуара.
Они сидели на своих касках с таким видом, словно совсем позабыли, для чего их, собственно, прислали на этот мост и что на этом мосту ждет каждого из них. Но уже через секунду им напомнили об этом.
Издалека донесся приглушенный грохот и рев, которые неудержимо нарастали, близились. Все шестеро вскочили, словно их подбросило, прислушались, обернувшись лицом на запад, потом посмотрели друг на друга: смертельно бледные, с огромными, неестественно расширенными, горящими глазами. Потом надели каски, никто не проронил ни слова.
Борхарт ринулся к каштану, ухватился за ствол, подтянулся два-три раза и оказался на первом суку, потом быстро, по-обезьяньи вскарабкался наверх и исчез в ветвях где-то у самой кроны. Вальтер Форст, все еще покуривая сигарету, подчеркнуто небрежно спустился с моста к своим фаустпатронам. Шольтен присел у левого пулемета, потом залег и стал смотреть поверх прицела в пространство между выступом парапета и завалом из бутовых глыб. Его напарник Альберт Мутц открыл одну коробку с пулеметными лентами, потом вторую, подвинул их к себе поближе и принялся перебирать ленты.
Хорбер залег у пулемета на правой стороне моста и сделал знак Хагеру открыть коробку и вставить ленту. Все застыли в ожидании, нервы были напряжены до предела.
Хорбер чувствовал, как овладевает им волнение. Если бы можно было нажать спусковой крючок, дать короткую очередь, хоть одну, только для того, чтобы разрядить бесконечное зловещее напряжение!
Но он не сделал этого. Он лежал и ждал, как и все.
Тем временем шум моторов стал отчетливее. Вот-вот они окажутся здесь. «Что же тогда? – спрашивал себя Альберт Мутц. – Чем все это кончится? Смерть… А долго ли умирают? Успеваешь ли что-нибудь почувствовать? Или это замечают только оставшиеся в живых: а вот, мол, и Мутцу конец пришел!»
«Тогда уж пусть скорее приходят, – думал Шольтен, – пусть скорее. Минуты две я еще выдержу, но не больше, никак не больше. Начну считать до ста двадцати, и, когда досчитаю до конца, пусть они будут здесь!»
И Шольтен принялся считать: «Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь… тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять…» Потом бросил.
Борхарт сидел на дереве и не мог ни о чем думать. Он укрылся за стволом, направил самозарядную винтовку на улицу, по которой должны были двигаться американцы. Весь как заряд взрывчатки: стоило только слегка потянуть указательным пальцем за спуск (все дело в каком-то сантиметре!) – и этот заряд взорвется. Борхарт машинально подергивал за спуск, используя свободный ход, – то доводил крючок до упора, то опять отпускал.
Хагер толкнул локтем Хорбера:
– Кажется, сейчас начнется! – И вдруг все они застыли: четверо на мосту и пятый на дереве.
Отчетливо послышался свист. Свистел Вальтер Форст. Слабый звук как-то очень резко выделялся среди надвигавшегося грохота моторов.
Вальтер Форст насвистывал мелодию знакомой песни:
Сегодня нам принадлежит Германия,
А завтра – весь мир!
В этом свисте было что-то чудовищное, невыносимое. Шольтен подумал: «Хоть бы он заткнулся, не то я сойду с ума!»
И тут ему пришла в голову мысль. Очень важная. Нужно было немедленно сообщить ее остальным. Он встал, пригнувшись, перебежал к Хорберу, потом бросился к каштану, крикнул что-то, задрав голову, и помчался под мост, к Форсту.
Свист прекратился. Медленно двинулся Шольтен к своему месту, лег за пулемет. Он приказал не стрелять, пока он сам не нажмет на гашетку.
«А вдруг американцы попадутся на эту удочку? – размышлял Шольтен. – Они, наверно, решат, что на мосту им ничто не угрожает. И преспокойно приблизятся к нам. Ведь нас тут не видно. Они не могут знать, что встретят здесь сопротивление».
К грохоту приближающихся танков вдруг примешался вой авиационных моторов.
Команды не понадобилось. Те четверо, что лежали за пулеметами, мгновенно вскочили и бросились по обе стороны моста вниз, к Вальтеру Форсту, в надежное укрытие.
– Отличное вы себе подобрали убежище, – ухмыльнулся Форст, показывая на фаустпатроны.
Отсюда не было видно самолетов, несколько раз пролетавших над мостом. Но они слышали рев моторов и ждали, что вот-вот раздастся свист бомб. Готовы были вжаться всем телом в грязь, заткнуть пальцами уши, открыть рты и ждать. Но ждали они напрасно.
Шум моторов стал удаляться. Потом совсем затих. «Здорово! – подумал Шольтен. – Теперь они прилетят к себе и доложат: «С этим мостом все в порядке, там ни души». И сам господин генерал на той стороне скажет: «Олл райт, вперед!» И отдаст приказ войскам».
Ребята уже привыкли к рокоту танков. Он нарастал так медленно, что они почти не ощущали его приближения. Когда первый «шерман» вылез из-за угла, Хагер как раз говорил Хорберу:
– Послушай, мне нужно отлить!
– Нашел время, раньше надо было думать, – злобно прошипел Хорбер.
– Идут! Идут! – заорал Шольтен.
Хорбер и Хагер тотчас обернулись к улице. Тут уж все увидели его: серо-зеленое чудище, с грохотом лязгая гусеницами, медленно ползло с запада. Страшилище надвигалось прямо на них, спокойно и не спеша. Справа и слева от него шли люди. Солдаты в странных ботинках с гамашами, в светло-зеленых непромокаемых куртках спортивного покроя, с винтовками наперевес, на головах стальные каски.
Медленно и осторожно двигались они по улице, заходили во дворы, возвращались, иногда угрожающе задирали стволы винтовок и целились в окна верхних этажей, несколько секунд выжидали, затем трогались дальше.