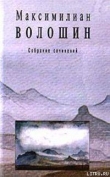Текст книги "Воспоминания о Максимилиане Волошине"
Автор книги: Максимилиан Волошин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 45 страниц)
Побывали мы и у наших русских революционеров. В задних комнатах кафе публика собралась совсем простая: растрепанные, небрежно одетые студентки, курсистки. Свежие румяные лица новоприбывших из российской провинции, а рядом позеленелые от недоедания физиономии парижских "аборигенов". Мне претили фанатические интонации и царивший здесь дух грубой политической пропаганды. Неужели от этих людей зависит спасение России? Чисто выбритые, с тонко очерченными лицами, парижские кельнеры бросали иронические взгляды на этих скифов – мне сделалось неловко, стыдно...
В ту осень мое восприятие Парижа изменилось. Я уже не была путешественницей, погруженной в красоты нового города... Передо мной внезапно возник страшный, замкнутый в себе самом, ослепленный мир, безудержно несущийся к пропасти. ...> Я познакомилась с Бенуа и Сомовым, прожившими в Париже уже несколько месяцев. Как удивительно было входить с их помощью в утонченную атмосферу искусства и культуры XVIII века. ...> У мадам Гольштейн, по-матерински опекавшей Макса, я подружилась с Одилоном Редоном 9, мы с Максом бывали у него дома... Мир его живописи, своеобразный, свободный от влияния импрессионизма и натурализма, лишенный малейшей тени стремления к успеху!.. Папки с этюдами, выполненными пастелью, дивные созвучия красок, настроение готических витражей, акварельные цветы фантастически пестрые, и тут же – тончайшие наброски углем – мимолетный жест, запечатленное ощущение тайны. Художнику уже немало лет, и мало кто понимает его искусство, но он лишь улыбается тихо и кротко, он любит предметный мир и помогает ему воплощаться в красках. Пройдет время – и Редон получит признание... Особенно запомнился мне один рисунок углем: голова Сатаны... Поражал взор, исполненный нечеловеческой печали, устремленный в беспредельную пустоту 10...
Мадам Гольштейн, одна из немногих почитательниц Редона, была родом из России, но постоянно жила в Париже. Она лишилась второго мужа, дочери ее были замужем. Средством для жизни служили ей литературные заработки. Мадам Гольштейн собирала вокруг себя лучших представителей русской и французской интеллигенции. Миниатюрная; голова резко вскинута вверх, шея искривлена следствие неудачной операции; умное оживленное лицо дышит задором – такой она осталась в моей памяти. Эта женщина все в мире делила надвое – любимое ею и вызывающее категорическое ее неприятие. Порой суждения ее отличались чрезмерной суровостью. Я подошла к ней на первой парижской выставке Ван Гога. Реплика ее была ошеломляюще-жесткой – цитата из Бодлера: "Jehais le mouvement, que deplace les lignees!" *
* "Ненавижу движение, смещающее линии!" (Франц.)
В то время мадам Гольштейн покровительствовала мне. Позднее, когда я подружилась с Вячеславом Ивановым, которого она не терпела, пришлось отказаться от общения с ней. Этой женщине я обязана знакомством с такими поэтами, как Рене Гиль, Садиа Леви, и другими. Передо мной раскрылся чрезмерно утонченный мир французской поэзии, где так трудно было добиться свежего звучания, достигнуть новизны.
Вдвоем с Максом я посещала увеселительные заведения аристократических и рабочих кварталов. Макс повсюду чувствовал себя "своим", легкость мысли служила ему своеобразной опорой. А я, в свою очередь, опиралась во всем этом хаосе на спокойную веселость и уравновешенность моего спутника. Сначала меня поражала его терпимость, потом я поняла, что за этим кроется высокая зрелость души. И в то же время сколько в нем было непосредственности! Вот он рассказывает что-то интересное, развивает какую-нибудь оригинальную идею; и так удивительно походит на грациозно-неуклюжего щенка сенбернара, озорно покусывающего случайно попавшую в зубы тряпку. ...>
То было время увлечения Макса различными оккультными учениями поры Французской революции. Как-то он рассказал мне поразительный эпизод: на великосветском собрании один из присутствовавших предсказал каждому, а затем и самому себе все подробности трагической гибели. Предсказание очень скоро сбылось, это подтверждается мемуарами современников 11... Но как же возможность предсказывать будущее соотносится с понятием человеческой свободы? Вопрос свободы человека – вот что занимало меня и казалось решающим. Если нет свободы, все остальные вопросы – мораль, добро, зло – не имеют смысла.
Подобные проблемы заполняли все мое время, я написала всего несколько пейзажей и портрет Чуйко 12. Его увлекли в Париж мои восторженные письма об этом городе. Помню его трогательную преданность Нюше и мне. Как он опекал нас! Словно добрая нянюшка. ...>
Весной внезапно перестал бывать Макс. Я огорчилась, терялась в догадках. Откуда мне было знать, что мое ровное, совершенно дружеское отношение к нему причиняет ему страдания. Нюша уехала в Россию. Я почти приготовилась к своему парижскому одиночеству, когда произошла встреча с петербургской приятельницей мадам Бальмонт – Анной Рудольфовной Минцловой 13. Она поселилась в том же пансионе, что и я. Мы были немного знакомы по Москве, тогда я мучительно размышляла о материализме. Помню ее слова на концерте: "У скрипки есть душа". Я почувствовала зависть: человек может верить в подобное; но одновременно меня захлестнула волна обиды: почему она не захотела развить, объяснить свое утверждение?! Теперь я увидела 45-летнюю женщину с бесформенной фигурой, чрезмерно широким лбом – такой можно разглядеть у ангелов на картинах старогерманской школы; с выпуклыми голубыми глазами – она была очень близорука, но казалось, перед ее взором – какая-то безмерная даль. Рыжеватые волосы, волнообразно завитые, причесанные на прямой пробор, – в постоянном беспорядке, пучок на затылке едва держался, шпильки выпадали... Грубоватый нос, чуть одутловатое лицо... Но руки! белые, мягкие, с длинными тонкими пальцами, – и кольцо – аметист... Здороваясь, она удерживала протянутую ладонь дольше обычного и слегка ее покачивала. В Москве эта привычка казалась мне очень неприятной; да еще голос, почти шепотной, словно утишающий сильнейшее волнение, да еще учащенное дыхание, отрывистость фраз, бессвязность слов, будто вытолкнутых сознанием... И одежда – вечное поношенное черное платье...
В Петербурге Минцлова жила у отца, известного адвоката 14. Познания ее были обширны, и она утверждала, что черпает их из хроник разных времен и стран, читаемых ею в подлиннике. Она пришлась, что называется, "не ко двору" в том кругу, к которому принадлежала по рождению. Ее мистические пристрастия воспринимались как помешательство, она казалась чуждой и непонятной. Ее не понимал даже отец, человек, видимо, умный, талантливый, но настроенный весьма материалистически и скептично. Впрочем, все признавали ее способности к хиромантии и графологии. Минцлова утверждала, что Екатерина Алексеевна Бальмонт первая по-настоящему поняла ее. ...>
Общение с Минцловой приподнимало над обыденным бытием. ...>
После смерти отца она стала своего рода бездомной, укоренялась то здесь, то там, и повсюду ее появление сопровождалось бурлящим круговоротом людей и событий. В этом круговороте она вовсе не являлась точкой опоры, страстность влекла ее вперед, в неведомое. И страстность эта многим казалась непривычной, эксцентрической. ...> Да, многие смогли, благодаря ей, как бы заглянуть в мир иной, но в то же время ее поведение навлекало всяческие несчастья и в конце концов привело к гибели и ее самое.
Однако я забежала вперед. Тогда, в Париже, она казалась мне доброй феей, могущей разрешить все мучительные для меня вопросы. Я предалась ей с полным доверием. Каким счастьем явилась для меня ее дружба, как ярко вспыхнуло все, что лишь слабо тлело в моей душе! Она гадала мне по ладони и открыла много значительного для меня...
В Париж Минцлову привлек Теософский конгресс, на который ожидалась из Индии Анни Безант 15. В Берлине Минцлова ознакомилась с германским направлением теософии и упоминала о его вдохновителе таинственными намеками, не называя имени.
Я устроила встречу Минцловой с Чуйко. У Минцловой же возобновилась моя дружба с Максом. Оба они тотчас поддались ее обаянию. Она и им предсказала по руке великую судьбу, таким образом, все мы очень возвысились в собственных глазах...
Возобновились парижские прогулки. Но как же меняется город, когда рядом с нами эта женщина! Перед внутренним взором ее то и дело предстают картины прошлого, и она все описывает нам. Как-то в Пале-Рояле она с такой удивительной достоверностью говорила о людях, живших перед Французской революцией, что я не удержалась и спросила, откуда ей все это известно. Она назвала нескольких писателей, в их числе Гонкуров, я прочитала указанные книги, но там не было ничего подобного! Запомнился мне один вечер, когда на небе стоял ущербный месяц. Мы шли мимо места казни тамплиеров, внезапно на лице ее выразился такой ужас, что я испугалась за нее, после она ничего нам не объяснила...
А вообще она говорила много – об оккультных течениях времени Французской революции, о средневековых процессах ведьм... Собственные рассказы увлекали ее настолько, что она сама испытывала ужас от своего чрезмерно яркого восприятия давно прошедших событий. Вместе мы слушали на конгрессе выступление Анни Безант. Мне оно показалось примитивным и безвкусным. Безант производила впечатление агитатора, не чувствовалось никакой мистической глубины. Определенным "мистицизмом" (в ироническом смысле) отличалось лишь ее свободное белое одеяние...
Париж одаривал нас своим летним очарованием. Бросали тень каштановые аллеи, повозки полнились цветами – алыми розами, голубыми васильками... Последнее, что мне запомнилось, было посещение выставки старых английских художников во дворце Багатель 16. Завершался целый период моей парижской жизни. Легкий ветерок нес розовые лепестки – сквозь широкие окна и распахнутые двери – прямо на полотна Гейнсборо и Рейнольдса...
Блаженное время прервалось письмом матери из Цюриха. Она хотела, чтобы я позаботилась о брате * – в Цюрихе Алеша готовился к экзамену... Технические науки... Скучная, лишенная малейшего изящества Швейцария 17... Как жаль было Парижа и друзей! Я почувствовала себя очень несчастной!..
* Алексей Васильевич Сабашников (1883-1954) – брат М. Сабашниковой.
Первое письмо Макса:
И в первый раз к земле я припадаю,
И сердце мертвое, мне данное судьбой,
Из рук твоих смиренно принимаю,
Как птичку серую, согретую тобой 18.
Во втором письме 19 он писал, будто в Китае существует закон: человек, спасший жизнь другому, принимает на себя ответственность за дальнейшую судьбу спасенного. Макс считал, что теперь я не имею права покидать его, наши жизни должны соединиться. Меня все это тронуло и в то же время испугало. Значит, то, что мы дружили, было совсем иным, не дружбой?.. Да, я должна, обязана... Тогда я даже не подумала о том, что могу ему дать, сможем ли мы всегда быть вместе...
Алеша и Макс пришли к мысли о том, что необходимо "выйти из себя", продвинуться за пределы своей личности, чтобы полно ощутить духовность окружающего мира. Они отправились на Сен-Готардский перевал 20. Вернулись жалкие, усталые, оборванные. Кажется, им не удалось "выйти из себя" и обрести духовность мира. А я углублялась в сочинения древних: Веды, Книга Бытия, Порфирий 21... Откровенно говоря, понимала я немного. Одно мне стало ясно: существуют такие состояния, когда изменяется само восприятие мира...
Конец лета. Объявление о лекции в Теософском обществе. Тема – пути познания духовного... Лекцию читает Рудольф Штейнер – это имя было мне незнакомо. Мы решили послушать, хотя в то время я относилась к теософии несколько свысока, считая ее дилетантским компромиссом между восточной мудростью и западным материализмом. В тот день пришло странное, сумбурное письмо Минцловой. Оказывается, у нас, в Цюрихе, состоится выступление доктора Штейнера, идейного вдохновителя Германской секции Теософского общества... Да это же тот самый, о котором она в Париже упоминала лишь многозначительными намеками! ...>
У кафедры пожилой господин, седая бородка, почтенная наружность Штейнер? Я проследила взгляд соседки и увидела, как в залу входит стройный, в черном сюртуке. Вороновым крылом слетают пряди на изящную выпуклость лба. Глубоко посаженные глаза... Что поражает более всего? Странное сочетание устойчивости и энергической подвижности... Шаги его упруги и легки, голову держит прямо, шея откинута назад, словно у орла. ...>
О чем же мне спросить? Мое тогдашнее открытие: самое мучительное и неясное – то, что не выходит за пределы чувственного восприятия... Как я понимаю состояние души, когда действительно словно бы "выходишь из себя", чувствуешь, что знаешь больше, чем обычно, – странное экстатическое состояние. Осенний пейзаж, Египетский зал в Лувре – оно! И проходит почти бесследно, лишь самое смутное воспоминание остается...
Как же прийти к постижению духовного мира, полностью владея обыденным сознанием, не утрачивая жизненной устойчивости?..
Попытаюсь припомнить ответ Штейнера.
Некоторые мысли и ощущения зависят от нашего местопребывания – в Москве – одни, в Париже – другие. Но существуют мысли и ощущения, независимые от места и времени. Культивируя, взращивая их в своем сознании, мы питаем в себе вечное, укрепляем его, наша зависимость от сугубо физических, материальных потребностей уменьшается. Штейнер посвятил нас в подробности медитации. Именно медитация образует в душе сверхчувственные органы, способные к восприятию объективно реального духовного мира. Штейнер говорил о том, что мышление должно сделаться активнее, живее – такому мышлению надо учиться. Надо научить свои чувства освобождаться от всего субъективного, тогда они станут органами духовного восприятия. Надо работать над своей волей, учиться сознательно направлять ее. Далее Штейнер сказал, что в нашу эпоху человек в состоянии постичь реальность духовного мира, не подавляя, но, напротив, укрепляя свое сознание. Постоянное обучение и самоконтроль сделают человека более устойчивыми в обыденной жизни. Штейнер выделил три ступени познания: имагинация – воображение, инспирация вдохновение и интуиция. Мне показалось, что предложенный им путь познания духовной реальности вполне созвучен нашему времени. Лицо Штейнера было совсем близко от меня! Речь его – горячая, приподнятая – радостное откровение! Неужели возможен такой человек у нас сейчас, человек, наделенный высшим знанием, истинный провозвестник духовного мира?!.
Продолжаю мечтать... Пока никак невозможна для меня связь преподанного Штейнером с моей реальной жизнью. Великая возможность глобальных перемен и мрачная действительность никак не соотносятся в сознании.
Я выхожу замуж за Макса, об этом нужно сказать родителям. Но я боюсь матери, она, разумеется, будет сердиться! Внутренне я все еще завишу от нее и, может быть, именно поэтому часто поступаю наперекор ей в своем безудержном стремлении к самоутверждению. Впечатляют меня слова Минцловой, она внушает мне, что Макс и я созданы друг для друга. Однако странно: я не чувствую себя счастливой. И все же о своем решении сообщаю родителям с такой твердостью, что даже мама не противится. Конечно, помогла мне и Екатерина Алексеевна *, она так любит Макса, так высоко ценит его. В письме отца я ощущаю любовь и доверие. Только три наши горничные – Маша, Поля и Акулина настроены минорно. Мою помолвку они встречают горестными причитаниями. По их мнению, не такой жених нужен мне! Увы, Макс не отвечает их идеалу!
В апреле я уехала в Москву. Макс отправился следом. Я находилась в каком-то странном состоянии. Все вокруг было чужое, меня самой как будто не было...
Венчание, красота обрядов русского православия 22... Нет, это не я... Всё – странный сон...
Тотчас после свадьбы – в Париж. Скоро там будет Штейнер. Минцлова ехала в одном купе с нами, к вящему недовольству моей тети Александры **, которая терпеть ее не могла и звала "Анной-пророчицей".
* Е. А. Бальмонт.
** Александра Алексеевна Андреева (1853-1926) – литератор и переводчик.
В Париже мы несколько дней провели в мастерской Макса, затем обставили маленькую солнечную квартиру в Пасси – несколько кушеток покрыто коврами, множество полок служат вместилищем для библиотеки Макса. Лучшее украшение нашего жилища – копия – в натуральную величину – гигантской, высеченной из песчаника головы египетской царевны Таиах с ее вечной загадочной улыбкой.
Еще до переезда пришла телеграмма: скоро будет Штейнер с друзьями. Он не хотел останавливаться в гостинице, и мы нашли для него квартирку неподалеку от нашей. Прибывшие с ним дамы занялись хозяйством, Минцлова священнодействовала, перетирая посуду...
Штейнер приехал в Париж на очередной Теософский конгресс. ...> Для небольшого круга он прочел в своей квартире на улице Ренуар цикл лекций. Первоначально цикл этот предназначался только для русских слушателей. ...>
В Париже мы застали также Мережковского с Зинаидой Гиппиус и Философовым. Они захотели познакомиться с Штейнером. Вместе с другими русскими слушателями мы пригласили их на улицу Ренуар 23. Но надежды на вечер-праздник не оправдались. Мережковский оказался предубежден против Штейнера. Зинаида Гиппиус, восседая на кушетке, надменно лорнировала Учителя как некий курьез. Мережковский допрашивал Штейнера возбужденно и, в буквальном смысле слова, инквизиторски. "Мы бедны, мы наги и жаждем! возглашал он. – Мы томимся по истине!" При этом было совершенно ясно, что вовсе они не томятся, а напротив, убеждены в том, что давно познали эту самую истину. "Откройте нам последнюю тайну!" – кричал Мережковский, на что Штейнер парировал иронически: "Сначала откройте мне предпоследнюю!" Спутницы Штейнера негодовали. ...>
Личность Штейнера настолько впечатлила нас, что мы решили поселиться в непосредственной близости от него. Будучи корреспондентом "Весов", Макс мог жить в Мюнхене. Намереваясь переехать туда зимой, мы передали нашу парижскую квартиру Бальмонтам и Нюше. Но прежде надо было побывать в Крыму, где ждала нас моя свекровь. Заботясь о моем слабом здоровье, Макс думал, что путешествие водой не так изнурит меня. Мы поплыли из Линца вниз по Дунаю до Констанцы.
Нам пришло на мысль сделать крюк и заглянуть в Бухарест на большую национальную выставку. Основными экспонатами во всех отделах были чудесные румынские вышивки и портреты королевы Кармен Сильвы 24. Город с его бесчисленными кафе казался причудливым конгломератом Востока и Парижа. Запомнился мне гуляш, посетители сами черпали горячее варево из клокочущих котелков.
Поздним вечером в Констанце мы узнали, что пароходы не ходят, потому что забастовали моряки русского черноморского флота. Половину ночи мы провели в душном кабачке, здесь кутила команда забастовщиков. Иные лица производили прямо-таки жуткое впечатление, но страшнее всех была сумасшедшая цыганка, бродившая между пьяных. Оказалось, что попасть из Констанцы в Ялту невозможно. Мы поплыли в Константинополь, решив выждать там.
В Бухаресте мы истратили слишком много денег и теперь очутились в довольно затруднительном положении. К счастью, нас приютили в монастырской гостинице для русских, здесь мы прожили несколько дней, ожидая денежного перевода из Парижа...
Разгар лета, мучительная жара. Монастырь помещался в Галате – самой грязной части города, улицы здесь очищают лишь голодные собаки. Макс не может заснуть -астма, ночи мы проводим на гостиничной кровле. В первую нашу ночь – с пятницы на субботу – окрестности оглашало пение мусульман. С субботы на воскресенье неописуемый галдеж учинили евреи. И наконец, кульминацией явились вопли христиан-левантийцев – с воскресенья на понедельник! Четвертая ночь прошла в роскошном дипломатическом отеле. Публика здесь отличалась особой элегантностью; а у меня пальцы унизаны кольцами, черная кружевная шаль, зеленая шелковая лента шляпки в стиле "либерти" завязана под подбородком. Изумленный портье берет наши паспорта: "Месье – парижанин, а мадемуазель, должно быть, из Константинополя?"
И все же я благодарна судьбе за то, что мы, хотя и помимо своей воли, попали в этот город. Роскошь царственной Византии, баюкающая прелесть Востока: плеск фонтанов, тихо жужжащие пчелиные ульи мечетей, надменность турок, необузданная алчность и лукавство христиан-левантийцев – все это осталось в памяти. И вот утренняя заря отплытия, после ночи, проведенной на палубе, – отдаленное великолепие мечетей и минаретов блистательного города... Следующая ночь прошла в трюме – из экономии мы плыли третьим классом... Капитан не пускает меня на палубу: татары, турки, многодетные евреи страдают от морской болезни... Волнуется море. ...>
Слава Коктебельского залива – прозрачные камешки вулканического происхождения, отшлифованные морем, они переливаются всеми оттенками розового и лилового. ...> Берег почти не заселен. Наши два домика окружены зарослями чахлых акаций. Неподалеку живет Поликсена Сергеевна Соловьева с подругой 25. Престарелая мать тогда уже умершего Владимира Соловьева живет у нас. Часто она сидит на своем балкончике, погруженная в молитву. Большие голубовато-серые, опушенные черными ресницами, глаза поэтессы Поликсены похожи на глаза брата, и смеется она так же – звонко, от души. "Соловьевский смех" знаменит. А вообще Поликсена смахивает на негритенка – коротко стриженные волосы, шальвары. Моя свекровь тоже в шальварах: Коктебельское побережье изобилует колючей растительностью.
Она большая оригиналка, моя свекровь. Внешне – вылитый тишбейновский * "Гёте в Италии" – высокие сапоги, мужской костюм. Такой она являлась не только в деревне, но и в городе. Ее, красавицу, отличала странная застенчивость. В коктебельской бухте, на Восточном побережье Крыма, она поселилась первая. Сначала выстроила дом для себя, затем другой – для Макса. ...> Отношения их были необычные. Мать страстно любила сына, и в то же время что-то в нем постоянно раздражало ее. Рядом с этой женщиной Максу приходилось нелегко 26. Ко мне она прониклась искренней симпатией прочно и надолго...
* Тишбейн Иоганн Генрих Вильгельм (1751-1823) – немецкий художник.
В Коктебеле Макс напоминает ассирийского жреца – длинная, ниже колен, рубаха, Зевсова голова увенчана полынным венком. Курортная публика, приезжающая из Феодосии – собирать разноцветные камешки, не желает смиряться со всеми этими экстравагантностями...
Феодосия – красивый старый город, город развитых культурных и художественных традиций... Из друзей Макса особенно помню художника Богаевского 27 – тихий серьезный человек большой душевной чистоты. Странствия по феодосийским окрестностям – для него род крестного пути. Весь он – в постоянном поиске, духовность пейзажа – вот что волнует его. И живопись его космична и священнодейственна. ...>
Интеллигенции обеих российских столиц – писателям, художникам, философам и музыкантам – была известна и другая живая феодосийская достопримечательность – наш с Максом друг – Александра Михайловна Петрова 28.
Через двор, мимо гигантской белой акации, по наружной лестнице – прямо в ее единственную скромно обставленную комнату. Рояль, узкий диван, стол и несколько стульев, – но каким безмерным уютом пронизано все! А приготовление кофе, изумительно вкусного кофе, – почти религиозная церемония, в тайны которой она посвятила и меня!.. А то редкостное горячее участие, с каким Александра Михайловна следила за всеми событиями культурной жизни! Не могу забыть ее огненно-черных глаз, голоса, хрипловатого от непрерывного курения, ее быстрого нервного смеха... Всеми силами своей души она переживала и стремилась постичь всякую идею, всякое явление жизни... Болезнь сердца отрезала ей пути к непосредственной активной деятельности, но в скольких судьбах приняла она участие, как чутко откликалась на события современности! ...>
Осенью мы отправились в Москву к моим родителям, затем собирались поселиться в Мюнхене. Но судьба распорядилась иначе. Макс поехал в Петербург для переговоров со своим издателем. В Петербурге произошло сближение с кругом поэтов, художников, философов, чей духовный уровень казался ему равным уровню аристократической интеллигенции древней Александрии. Душой этого круга был Вячеслав Иванов 29. Высоко над Таврическим садом возносилась угловая башня большого дома, здесь в полукруглой мансарде происходили собрания петербургских "александрийцев". Макс написал мне, что ниже этажом есть две свободные маленькие комнаты для нас, со временем мы сможем занять и прилегающую большую. Он спрашивал, не провести ли нам зиму в Петербурге, здесь он сможет писать свои заказные статьи по вопросам искусства...
Вячеслав Иванов!.. Его стихи уже давно виделись мне духовной родиной! Почти все я знала на память. Как часто их воспринимали с трудом или отвергали! Непривычность античной ритмики, архаизированное религиозное и в то же время философское содержание... С каким восхищением читала я его книгу "Религия страдающего бога" 30, где он – ученый, религиозный философ, поэт анализировал особенности дионисийского культа в Древней Греции... Мировоззрение Вячеслава Иванова объединяло античную одухотворенность реальной действительности с возвышенной духовностью христианства. Я считала его даже выше Ницше, хотя "Рождение трагедии из духа музыки" оказало на меня чрезвычайно сильное влияние.
Я знала, что Иванов много лет прожил с семьей в Женеве... Значит, теперь он в Петербурге, я смогу познакомиться с ним, даже жить в одном доме – дух захватывает!.. Телеграф – и мое восторженное "Да"!..
А как же Мюнхен? Познание духовной реальности?.. Пока с меня было довольно и того, что все это существует. Пленительны и полны мощи образы мировой эволюции, все в мире имеет смысл, есть путь к познанию духовности, возможно, я когда-нибудь вступлю на этот путь. Едва ли не с самого детства я искала его, а теперь почему-то успокоилась, решила, что у меня в будущем достаточно времени... Мы с Максом шли по жизни, держась за руки, как дети...
Об интимном говорить неприятно, но я не могу миновать последующий период. Все, что произошло, все мои переживания я нахожу симптоматичными для предреволюционной России, характерными для той "люциферической" культуры, что, по моему мнению, достигла в России наивысшего расцвета... Косный самодержавный бюрократизм закрывал пути к малейшим переменам для всех, кроме революционеров... Оторванные от практической деятельности, погруженные в свой внутренний, отделенный от реальной жизни мир, что неминуемо вело к переоценке собственной личности, российские интеллигенты пускались в разного рода чудачества, красочные и характерные.
Такой была и я. Не признаваясь самой себе, я в глубине души была уверена в том, что я выше простой практической жизни, ведь я так беспомощна, почти смешна в ней. Беззащитна я и перед хаотическим миром собственных чувств, у меня не хватает силы воли, я не умею сдерживать себя. Гипертрофированные душевные переживания дурно влияют на мое здоровье. Макс, добрый и самоотверженный, ничему не может меня научить в этом смысле, находит мою слабость трогательной и милой, нежно заботится обо мне. Но я страдаю от собственной слабости, кажусь себе какой-то блуждающей тенью...
Петербург встретил нас ветреным ноябрьским утром 31, морская поземка вилась над заледенелой Невой... Две крошечные комнатки ждали. Что касается третьей, большой, то мы так никогда и не поселились в ней... Мое пристанище напоминает узкий коридор, здесь умещаются лишь кушетка и обеденный столик. Комната Макса -каюта с диваном и широким подоконником вместо письменного стола... Серое петербургское небо заполняет огромные окна... Но что теснота! – ведь прямо над нами – божественное пиршество ума и таланта!...
Первыми нашими гостями были молодой поэт Дике (по-настоящему он звался Борисом Леманом *) и его кузина Ольга Анненкова **, блондинка, похожая одновременно и на хрупкого мальчика-подростка, и на какую-то странную птичку. Странной воспринималась и внешность Бориса – чрезвычайно узкая темноволосая голова, оливково-смуглое лицо, гортанные интонации голоса причудливое соединение Древнего Египта с самым современным модернизмом, и в то же время – что-то таинственное... Он числился в каком-то министерстве, где, разумеется, ничего не делал. Экзальтированные почитатели Макса, Ольга и Борис тотчас принялись дуэтом декламировать его "Stella Maria" ***32. Получилась какая-то заупокойная молитва, я засмеялась...
* Леман Борис Алексеевич (1880-1945)
** Анненкова Ольга Николаевна – филолог, переводчица.
*** Звезда Мария (лат.).
На следующий день – театр-студия Комиссаржевском Артисты разучивали хоры из греческой драмы Иванова "Тантал", они хотели поразить его своей декламацией. Я никогда не слышала ничего подобного и была захвачена мощью этого художественного чтения... Вячеслава Иванова я увидела в перерыве. Кажется, он был тронут, благодарил артистов и Комиссаржевскую. А мне вспомнился давний мой сон: пригнувшись, через узкую дверцу входит некто, кого я называю "злым жрецом". Иванов так походил на него, что я испугалась. Неужели это и есть поэт, мир стихов которого сделался и моим миром?!
Тогда ему было чуть больше сорока. Стройная высокорослость, волосы, легкие и светло-рыжие, обрамляют красивый лоб – "словно орифламма", подумалось мне. Остроконечная бородка, теплые тона почти прозрачного лица, небольшие серые глаза хищной птицы. Его улыбка показалась мне слишком тонкой, а высокий – чуть в нос – голос – слишком женственным. Всякий выговариваемый слог сопровождался вздохом, и от этого речь звучала странно торжественно.
Скорей, скорей бы проснуться, уйти от этого сна, узнать истинного Вячеслава Иванова, того, из стихов! Но, увы, то был не сон!..
Лидию Зиновьеву-Аннибал 33, жену Иванова, мне описали как "мощную женщину с громовым голосом, такая любого Диониса швырнет себе под ноги". Лицом она походила на Сивиллу Микеланджело – львиная посадка головы, стройная сильная шея, решимость взгляда; маленькие аккуратные уши парадоксально увеличивали это впечатление львиного облика. Но оригинальнее всего гляделась ее, что называется, "цветовая гамма": странно розовый отлив белокурых волос, яркие белки серых глаз на фоне смуглой кожи. Она была одним из потомков знаменитого абиссинца Ганнибала, пушкинского "арапа Петра Великого". Одеждой Лидии служила античная туника, красивые руки задрапированы покрывалом. Смелость сочетания красок в тот вечер – белое и оранжевое...
Макс целиком подпал под обаяние Иванова и был огорчен моим легким разочарованием...
Вскоре после нашего приезда мы отправились в гости к Ремизовым. Алексей Михайлович тогда начинал писать стихи – яркие, красочные, в русском народном стиле... Впервые в русской литературе в его полуязыческих -полухристианских апокрифах явились многочисленные стихийные духи, коими так богат российский фольклор. В то время я тоже искала свой национальный русский стиль, и произведения Ремизова стали для меня откровением.