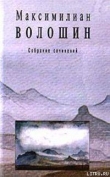Текст книги "Воспоминания о Максимилиане Волошине"
Автор книги: Максимилиан Волошин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 45 страниц)
Помню, Волошин с великим и понятным удовольствием передавал настроение осеннего пейзажа в верленовском стиле, в коротких, гибких, парящих строфах, или в одном из самых лучших своих лирических отрывков из цикла "Париж" "Дождь", где так отлично воссоздается ритм монотонно стучащего дождя, что это ощущали даже те, кто едва понимал по-русски. "В дождь Париж расцветает, точно серая роза", – начинается это стихотворение... Глаза загорались, темно-русые волосы в волнистых кудрях тяжело колыхались на огромной голове прирученного кентавра, а каштановая широкая борода скрывала волнение мускулов лица.
Из темного угла на темном постаменте белая колоссальная голова из гипса смотрела на поэта с загадочной улыбкой прикрытых век – его мистическая возлюбленная, египетская царица Таиах, та прекрасная дама, что ввела в крае сфинксов культ Крылатого Солнца. Поэт имел перед собой только ее голову, мудрую и таинственную, ее уста, обращенные к Вечности, а жаждал видеть весь ее сверхчеловеческий, неизвестный образ – и особенно движение ее поднятых рук с обращенными к зрителю ладонями: священный, молитвенный жест Египта.
Эту голову поэта, загипнотизированную властным обаянием царицы Таиах, скульптор Виттиг поставил на мощную каменную стелу в виде гермы и назвал ее "Поэт". Он дал правдивый портрет Волошина: гораздо больше, чем обычное "сходство", – выявил в песчанике пластический синтез души, души в наилучший, а следовательно, в наиправдивейший ее момент, ибо и в скульптуре, как и в жизни, судить о душе нужно по наилучшим ее моментам...
Виттиг интуитивно почувствовал то, что здесь возведено в принцип, – и создал прекрасное произведение. Мощная, смелая стилизация этого портрета удалась ему в совершенстве. Он создал какую-то не современную древнегреческую, геродотовскую голову, голову человека золотого века, тех доисторических времен, когда "королевны ходили по воду, а королевы знали число своих баранов". А тот, кто знал модель – этого прирученного кентавра с голубиной душой, в котором есть что-то и от послушника греческого монастыря на горе Афон, и от старославянского князя; русского, страстно влюбленного во фламандских мистиков, который написал цикл "Руанский собор", полный лиловых красок католической символики; этого жителя древней Киммерии, пустынного приазовского Крыма, открывающего на русском языке таких изысканных поэтов, как Верхарн, Эредиа или Анри де Ренье, – кто знал его хорошо, тот поверит Виттигу: он попал в точку, так сделав портрет такого поэта...
Алексей Толстой
ИЗ СТАТЬИ "О ВОЛОШИНЕ"
Вошел человек в цилиндре, бородатый, из-под широких отворотов пальто в талию выглядывал бархатный жилет 1.
Нечеловеческие икры покоятся на маленьких ступнях, обутых в скороходы.
Сел человек против меня и улыбнулся. Лицо его выразило три стихии.
Бесконечную готовность ответить на все вопросы моментально.
Любопытство, убелившее глаза под стеклами пенсне.
И отсутствие грани, разделяющей двух незнакомых людей, – будто о чем-то уже спросил его.
Сколь личин ни надевает человек, сколь в качествах своих ни уверяет, верю только первому мгновенному [и точному], прояснившему лицо выражению души его, застигнутой врасплох.
Человек этот поэт.
Три стихии превращаются в его поэзии: готовность в вежливость, любопытство в знание и отсутствие грани в то глубокое и проникновенное, что новым и вносит он в русскую поэзию.
Русская поэзия – яркая и алая заря, грубая и сочная – заря севера, пьяной кровью изумрудную высь над стынущим морем затопившая.
Гибкий образный несформировавшийся язык, мифология и творчество народа, как еще не разрушенная гробница, и время кровавых оргийных действ – вот атмосфера русского поэта, захлебнешься, опьянеешь от избытка невыявленного, жгучего.
Искусство слов, подхваченное ураганом революции, не разбирая, где брод, где яр, помчалось за синие моря, за крутые горы в тридесятые царства жар-птицу... искать. ...>
Созвездия
Вот здесь мы чувствуем тайные могучие голоса крови, здесь ритм рождает слова и слова вещи.
Но чьи голоса здесь находим...
Чья культура, растворенная в крови его, воплотилась в словах?
Солнечных песен, оргий, опьяненных кровью... менад – жриц солнечного бога.
Холодом вечности, ритмом знания смерти веет от слов его.
Видишь звездочета на вершине семиярусного холма, запрокинувшего большое бородатое лицо к вечным числам вселенной 2... Знаки тайные, астральные, непокорную стихию сковывающие, чувствуешь в словах его.
Культуру [магов], аккадийцев, семитов, халдеев, астральную и нашедшую ритм в тихом движении звезд, ритм вечности...
Поэт ритма вечности...
Вот то новое, [что] в наши категории вносит поэт М[аксимилиан] Вол[ошин]. ...>
Софья Дымшиц-Толстая
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
...> В конце 1907 года мы * надумали совершить заграничную поездку. Мои наставники в области живописи считали, что я должна посетить Париж, который слыл среди них "городом живописи и скульптуры", что я должна там многое посмотреть, а заодно и "себя показать", продемонстрировать свои работы тамошним "мэтрам". Мы же смотрели на эту поездку, прежде всего, как на своего рода свадебное путешествие. И вот в январе 1908 года мы выехали в Париж.
* Т. е. Алексей и Софья Толстые.
Приехав в Париж, мы поселились в большом пансионе на рю Сен-Жак, 225. Пансион был населен людьми различнейших наций, вплоть до двух студентов-негров, плененных принцев, воспитывавшихся на средства французского правительства и обучавшихся медицине.
В этом многонациональном пансионе Алексей Николаевич особенно охотно подчеркивал, что он из России, появлялся в шубе и меховой шапке, обедал плотно, как он говорил, "по-волжски". ...>
С французским языком у Алексея Николаевича в Париже были постоянные трудности. Он приехал во Францию со слабыми знаниями этого языка и обогатился здесь только словечками и выражениями парижского арго (жаргона) да еще различными французскими крепкими словесами. В этой области французской языковой "культуры", которая его весьма забавляла, он достиг такой полноты и виртуозности знаний, что вызывал изумление парижан. Однажды вечером мы нанесли визит нашему парижскому приятелю, русскому поэту и художнику Максимилиану Волошину. Явились мы поздно и без предупреждения, хозяева к нашему приходу не готовились, уже отужинали, и Алексей Николаевич вызвался пойти за вином и закусками в один из близлежащих магазинов. Пока он ходил, закрыли парадную, и консьержка отказалась впустить незнакомого ей визитера. Тогда Алексей Николаевич поговорил с ней на парижском арго, требуя, чтобы его пропустили к "месье Волошину". Консьержка, вне себя от ярости, прибежала к Волошину, заявив, что она не может поверить, что "нахальный субъект" у дверей в самом деле является его другом. Не менее удивлен был и Волошин. "Мой друг, – сказал он, – не говорит по-французски. Здесь какое-то недоразумение". – "О нет! – воскликнула консьержка. – Он говорит. И при этом очень хорошо".
Среда, в которой мы вращались в Париже, состояла из русских и французских художников и писателей. В эту среду ввела нас русская художница Елизавета Сергеевна Кругликова, которая годами жила в Париже, в районе Монмартра, на рю Буассонад. Елизавета Сергеевна познакомилась с моими работами и направила меня в школу Ла Палетт, где преподавали известные французские художники Бланш, Герен и Ле Фоконье. Из русских живописцев мы часто встречали К. С. Петрова-Водкина, тогда еще молодого художника, Тархова, погруженного в излюбленную им тему поэзии материнства, Широкова *, писавшего свои работы лессировкой, и Белкина **, начинавшего тогда свой художественный путь. Кругликова познакомила нас и с уже упоминавшимся Максимилианом Александровичем Волошиным, с которым мы дружили многие годы и после отъезда из Парижа.
* Широков Михаил Александрович.
** Белкин Вениамин Павлович (1884-1951).
Встречали мы в Париже и выходившего из моды символистского "мэтра" Константина Дмитриевича Бальмонта. Алексей Николаевич был с ним неизменно вежлив и корректен, присутствовал даже на комическом "суде" над Бальмонтом, но в новых его произведениях видел лишь признаки увядания таланта, а самая поэтическая природа Бальмонта – порывистого, несколько неврастенического импровизатора – была ему, неутомимому и целеустремленному работнику в литературе, абсолютно чужда. Он очень забавлялся смешным инцидентом, который привел Бальмонта на скамью подсудимых во французском суде. Дело было так. Однажды лунной ночью, после основательной выпивки, Бальмонт, возвращаясь домой, увидел впереди француженку, у которой был расстегнут ридикюль. Желая быть галантным, он принялся догонять незнакомку, крича ей по-русски: "Ваш ридикюль!.. Ваш ридикюль!" При этом Бальмонту не пришло в голову, что его восклицание в переводе на французский язык означало: "Смешная корова!" Возмущенная француженка обратилась за помощью к ажану (полицейскому), который остановил пьяного прохожего, производившего явно подозрительное впечатление: он ковылял (Бальмонт прихрамывал), сильно жестикулировал, ерошил и без того всклокоченную гриву рыжеватых волос и громко кричал: "Ваш!.. Ваш!.." Ажана эти выкрики привели в ярость, он принял их на свой счет, ибо на парижском арго ажанов звали "мор о ваш" ("смерть коровам"). Не вдаваясь в подробности, он арестовал Бальмонта за... приставание к женщине и оскорбление полицейского при исполнении им служебных обязанностей. Приятели Бальмонта нашли его на следующий день в тюрьме, облаченного в полосатый арестантский костюм, занятого выполнением арестантского "урока" – он клеил спичечные коробки. Был суд, и этот суд оправдал Бальмонта 1. Толстой ходил послушать и посмотреть на эту судебную комедию, которая его очень веселила.
В ресторанчике "Клозери де Лиля", охотно посещавшемся литераторами, мы встречались с Ильей Григорьевичем Эренбургом, тогда молодым поэтом. Прочитав в воспоминаниях Н. К. Крупской, что Владимир Ильич Ленин называл Эренбурга тех лет "Илья Лохматый", я подумала, что это определение было удивительно точным. Эренбург среди приглаженных и напомаженных французов-литераторов выделялся своей пышной шевелюрой. Мы однажды послали ему на адрес кафе открытку с надписью: "О месье маль куафэ" ("плохо причесанному господину") и эта открытка нашла Эренбурга.
Алексей Николаевич много, часто и подолгу беседовал с Максом Волошиным, широкие литературные и исторические знания которого он очень ценил 2. Он любил этого плотного, крепко сложенного человека, с чуть близорукими и ясными глазами, говорившего тихим и нежным голосом. Ему импонировала его исключительная, почти энциклопедическая образованность; из Волошина всегда можно было "извлечь" что-нибудь новое. Но вместе с тем Толстой был очень далек от того культа всего французского, от того некритического, коленопреклоненного отношения к новейшей французской поэзии, которые проповедовал Волошин.
Живя в Париже, вращаясь в среде Монмартра, среди французских эстетов, встречаясь с эстетствующими "русскими парижанами", ужиная чуть ли не ежевечерне в артистических кабачках, Алексей Николаевич оставался здесь гостем, любопытствующим наблюдателем – и только. Сжиться с атмосферой западноевропейского декаданса этот настоящий русский человек и глубоко национальный писатель, разумеется, не мог. ...>
В 1909 году летом мы по приглашению Максимилиана Александровича Волошина поехали к нему в Коктебель, на восточный берег Крыма.
Волошин и его мать жили постоянно в Крыму. Иногда Максимилиан Александрович выезжал по литературным делам в Петербург или в Париж. В Коктебеле он владел двумя деревянными домами, стоявшими на берегу Черного моря. В двухэтажном доме, где находилась мастерская Волошина, в которой он писал свои многочисленные акварельные пейзажи, проживали хозяева. Здесь же находилась превосходная библиотека Волошина, и сюда, как в своего рода художественный клуб, приходили "дачники" Максимилиана Александровича, которые занимали второй, одноэтажный домик. Эти дачники были главным образом людьми искусства: писателями, артистами, художниками, музыкантами. Летом 1909 года кроме нас у Волошина гостила группа петербургских поэтов 3.
Из Коктебеля мы несколько раз ездили в Феодосию, где посетили композитора Ребикова * и художника-пейзажиста Богаевского. С обоими Алексей Николаевич вел обстоятельные разговоры об искусстве. Он любил слушать, как Богаевский тихим голосом, запинаясь от скромности, комментировал свои пейзажи, как неказистый на вид и чудаковатый Ребиков вдруг загорался и проявлял бешеный темперамент в дебатах о музыке.
* Ребиков Владимир Иванович (1866-1920).
В Коктебеле, в даче с чудесным видом на море и на длинную цепь синих гор, Алексей Николаевич вернулся к стихам (здесь он работал над сборником стихов "За синими реками"), работал над фарсом "О еже", писал "Дьявольский маскарад"; пользуясь библиотекой Волошина, начал впервые пробовать свои силы в историческом жанре, изучая эпоху Екатерины II и языковую культуру того времени. Совершенно неожиданно проявил он себя как карикатурист. В свободное время он увлекался сатирическими рисунками, изображая Волошина и его гостей в самых необыкновенных положениях, и вызывал своими дружескими шаржами 4 веселый смех коктебельцев. Однажды поэты устроили творческое соревнование. Они заставили меня облачиться в синее платье, надеть на голову серебристую повязку и "позировать" им, полулежа на фоне моря и голубых гор. Пять поэтов "соревновались" в написании моего "поэтического портрета" 5, Лучшим из этих портретов оказалось стихотворение Алексея Николаевича, которое под названием "Портрет гр. С. И. Толстой" вошло в посвященную мне (посвящение гласило: "Посвящаю моей жене, с которой совместно эту книгу писали") книгу стихов "За синими реками", выпущенную в 1911 году издательством "Гриф". Напечатали аналогичные стихи и Волошин 6 и другие поэты. ...>
ИСТОРИЯ ЧЕРУБИНЫ
(Рассказ М. Волошина в записи Т. Шанько)
Я начну с того, с чего начинаю обычно, – с того, кто был Габриак. Габриак был морской черт, найденный в Коктебеле, на берегу, против мыса Мальчик *. Он был выточен волнами из корня виноградной лозы и имел одну руку, одну ногу и собачью морду с добродушным выражением лица.
Он жил у меня в кабинете, на полке с французскими поэтами, вместе со своей сестрой, девушкой без головы, но с распущенными волосами, также выточенной из виноградного корня, до тех пор, пока не был подарен мною Лиле **. Тогда он переселился в Петербург на другую книжную полку.
Имя ему было дано в Коктебеле. Мы долго рылись в чертовских святцах ("Демонология" Бодена 2) и наконец остановились на имени "Габриах". Это был бес, защищающий от злых духов. Такая роль шла к добродушному выражению лица нашего черта.
Лиле в то время было девятнадцать лет ***. Это была маленькая девушка с внимательными глазами и выгнутым лбом. Она была хромой от рождения и с детства привыкла считать себя уродом. В детстве у всех ее игрушек отламывалась одна нога, так как ее брат и сестра говорили: "Раз ты сама хромая, у тебя должны быть хромые игрушки". ...>
* Мальчик ("место выпаса скота", татарс.) – мыс, замыкающий Коктебельскую бухту с юго-запада.
** Елизавета Ивановна Дмитриева (в замужестве Васильева, 1887-1928) поэт, прозаик, переводчик.
*** Неточно: Дмитриевой в то время был 21 год.
Летом 1909 года Лиля жила в Коктебеле. Она в те времена была студенткой университета, ученицей Александра Веселовского, и изучала старофранцузскую и староиспанскую литературу 3. Кроме того, она была преподавательницей в приготовительном классе одной из петербургских гимназий 4. Ее ученицы однажды отличились. Какое-то начальство вошло в класс и спросило: "Скажите, девочки, кого из русских царей вы больше всего любите?" Класс хором ответил: "Конечно, Гришку Отрепьева!" К счастью, это никак не отразилось на преподавательнице.
Лиля писала в это лето милые простые стихи, и тогда-то я ей и подарил черта Габриаха, которого мы в просторечье звали "Гаврюшкой".
В 1909 году создавалась редакция "Аполлона", первый номер которого вышел в октябре – ноябре 5. Мы много думали летом о создании журнала, мне хотелось помещать там французских поэтов, стихи писались с расчетом на него, и стихи Лили казались подходящими. В то время не было в Петербурге молодого литературного журнала. Московские "Весы" и "Золотое руно" уже начинали угасать. В журналах того времени редактор обыкновенно был и издателем. Это не был капиталист, а лицо, умевшее соответствующим образом обработать какого-нибудь капиталиста. Редактору "Аполлона" С. К. Маковскому 6 удалось использовать Ушковых.
Маковский, "Papa Mako", как мы его называли, был чрезвычайно и аристократичен и элегантен. Я помню, он советовался со мною – не вынести ли такого правила, чтоб сотрудники являлись в редакцию "Аполлона" не иначе, как в смокингах. В редакции, конечно, должны были быть дамы, и Papa Mako прочил балерин из петербургского кордебалета.
Лиля – скромная, не элегантная и хромая – удовлетворить его, конечно, не могла, и стихи ее были в редакции отвергнуты.
Тогда мы решили изобрести псевдоним и послать стихи письмом. Письмо было написано достаточно утонченным слогом на французском языке, а для псевдонима мы взяли наудачу черта Габриаха. Но для аристократичности Черт обозначил свое имя первой буквой, в фамилии изменил на французский лад окончание и прибавил частицу "де": Ч. де Габриак.
Впоследствии "Ч" было раскрыто. Мы долго ломали голову, ища женское имя, начинающееся на "Ч", пока, наконец, Лиля не вспомнила об одной Брет-Гартовской героине. Она жила на корабле, была возлюбленной многих матросов и носила имя Черубины. Чтобы окончательно очаровать Papa Мако, для такой светской женщины необходим был герб. И гербу было посвящено стихотворение.
НАШ ГЕРБ
Червленый щит в моем гербе,
И знака нет на светлом поле.
Но вверен он моей судьбе,
Последней – в роде дерзких волей.
Есть необманный путь к тому,
Кто спит в стенах Иерусалима,
Кто верен роду моему,
Кем я звана, кем я любима.
И – путь безумья всех надежд,
Неотвратимый путь гордыни;
В нем пламя огненных одежд
И скорбь отвергнутой пустыни...
Но что дано мне в щит вписать?
Датуры тьмы иль розы храма?
Тубала медную печать
Или акацию Хирама? 7
Письмо было написано на бумаге с траурным обрезом и запечатано черным сургучом. На печати был девиз: "Vae victis! 7* Все это случайно нашлось у подруги Лили – Л. Брюлловой 8.
* Горе побежденным (лат.)
Маковский в это время был болен ангиной. Он принимал сотрудников у себя дома, лежа в элегантной спальне; рядом с кроватью стоял на столике телефон.
Когда я на другой день пришел к нему, у него сидел красный и смущенный А. Н. Толстой, который выслушивал чтение стихов, известных ему по Коктебелю, и не знал, как ему на них реагировать. Я только успел шепнуть ему: "Молчи. Уходи". Он не замедлил скрыться.
Маковский был в восхищении. "Вот видите, Максимилиан Александрович, я всегда Вам говорил, что Вы слишком мало обращаете внимания на светских женщин. Посмотрите, какие одна из них прислала мне стихи! Такие сотрудники для "Аполлона" необходимы".
Черубине был написан ответ на французском языке, чрезвычайно лестный для начинающего поэта, с просьбой порыться в старых тетрадях и прислать все, что она до сих пор писала. В тот же вечер мы с Лилей принялись за работу, и на другой день Маковский получил целую тетрадь стихов.
В стихах Черубины я играл роль режиссера и цензора, подсказывал темы, выражения, давал задания, но писала только Лиля.
Мы сделали Черубину страстной католичкой, так как эта тема еще не была использована в тогдашнем Петербурге.
СВ. ИГНАТИЮ *
Твои глаза – святой Грааль,
В себя принявший скорби мира,
И облекла твою печаль
Марии белая порфира.
Ты, обагрявший кровью меч,
Склонил смиренно перья шлема
Перед сияньем тонких свеч
В дверях пещеры Вифлеема.
И ты – хранишь ее один,
Безумный вождь священных ратей,
Заступник грез, святой Игнатий,
Пречистой Девы паладин!
Ты для меня средь дольних дымов,
Любимый, младший брат Христа,
Цветок небесных серафимов
И Богоматери мечта.
Я венки тебе часто плету
Из пахучей и ласковой мяты,
Из травинок, что ветром примяты,
И из каперсов в белом цвету.
Но сама я закрыла дороги,
На которых бы встретилась ты...
И в руках моих, полных тревоги,
Умирают и пахнут цветы.
Кто-то отнял любимые лики
И безумьем сдавил мне виски.
Но никто не отнимет тоски
О могиле моей Вероники.
* Игнатий Лойола – основатель ордена иезуитов.
Затем решили внести в стихи побольше Испании.
Ищу защиты в преддверье храма
Пред Богоматерью Всех Сокровищ,
Пусть орифламма
Твоя укроет от злых чудовищ.
Я прибежала из улиц шумных,
Где бьют во мраке слепые крылья,
Где ждут безумных
Соблазны мира и вся Севилья.
Но я слагаю Тебе к подножью
Кинжал и веер, цветы, камеи
Во славу Божью...
О Mater Dei, memento mei! *
* О Матерь Божья, помяни меня! (Лат.)
Кроме того, необходима была преступно-католическая любовь к Христу.
ТВОИ РУКИ
Эти руки со мной неотступно
Средь ночной тишины моих грез,
Как отрадно, как сладко-преступно
Обвивать их гирляндами роз.
Я целую божественных линий
На ладонях священный узор...
(Запевает далеких Эриний
В глубине угрожающий хор.)
Как люблю эти тонкие кисти
И ногтей удлиненных эмаль.
О, загар этих рук золотистей,
Чем Ливанских полудней печаль.
Эти руки, как гибкие грозди.
Все сияют в камнях дорогих.
Но оставили острые гвозди
Чуть заметные знаки на них.
Так начинались стихи Черубины.
На другой день Лиля позвонила Маковскому. Он был болен, скучал, ему не хотелось класть трубку, и он, вместо того чтобы кончать разговор, сказал: "Знаете, я умею определять судьбу и характер человека по его почерку. Хотите, я расскажу Вам все, что узнал по Вашему?" И он рассказал, что отец Черубины – француз из Южной Франции, мать – русская, что она воспитывалась в монастыре в Толедо и т. д. Лиле оставалось только изумляться, откуда он все это мог узнать, и таким образом мы получили ряд ценных сведений из биографии Черубины, которых впоследствии и придерживались.
Если в стихах я давал только идеи и принимал как можно меньше участия в выполнении, то переписка Черубины с Маковским лежала исключительно на мне. Papa Mako избрал меня своим наперсником. По вечерам он показывал мне мною же утром написанные письма и восхищался: "Какая изумительная девушка! Я всегда умел играть женским сердцем, но теперь у меня каждый день выбита шпага из рук".
Он прибегал к моей помощи и говорил: "Вы – мой Сирано" 9, не подозревая, до какой степени он близок к истине, так как я был Сирано для обеих сторон. Papa Mako, например, говорил: "Графиня Черубина Георгиевна (он сам возвел ее в графское достоинство) прислала мне сонет. Я должен написать сонет "de riposta" *, – и мы вместе с ним работали над сонетом.
* В ответ (итал.).
Маковский был очарован Черубиной. "Если бы у меня было 40 тысяч годового дохода, я решился бы за ней ухаживать". А Лиля в это время жила на одиннадцать с полтиной в месяц, которые получала как преподавательница подготовительного класса.
Мы с Лилей мечтали о католическом семинаристе, который молча бы появлялся, подавал бы письмо на бумаге с траурным обрезом и исчезал. Но выполнить это было невозможно.
Переписка становилась все более и более оживленной, и это было все более и более сложно. Наконец мы с Лилей решили перейти на язык цветов 10. Со стихами вместо письма стали посылаться цветы. Мы выбирали самое скромное и самое дешевое из того, что можно было достать в цветочных магазинах, веточку какой-нибудь травы, которую употребляли при составлении букетов, но которая, присланная отдельно, приобретала таинственное и глубокое значение. Мы были свободны в выборе, так как никто в редакции не знал языка цветов, включая Маковского, который уверял, что знает его прекрасно. В затруднительных случаях звали меня, и я, конечно, давал разъяснения. Маковский в ответ писал французские стихи.
Он требовал у Черубины свидания. Лиля выходила из положения очень просто. Она говорила по телефону: "Тогда-то я буду кататься на Островах. Конечно, сердце Вам подскажет, и Вы узнаете меня". Маковский ехал на Острова, узнавал ее и потом с торжеством рассказывал ей, что он ее видел, что она была так-то одета, в таком-то автомобиле... Лиля смеялась и отвечала, что она никогда не ездит в автомобиле, а только на лошадях.
Или же она обещала ему быть в одной из лож бенуара на премьере балета. Он выбирал самую красивую из дам в ложах бенуара и был уверен, что это Черубина, а Лиля на другой день говорила: "Я уверена, что Вам понравилась такая-то". И начинала критиковать избранную красавицу. Все это Маковский воспринимал как "выбивание шпаги из рук".
Черубина по воскресеньям посещала костел. Она исповедовалась у отца Бенедикта. Вот стихотворения, посвященные ему и исповеди:
[САВОНАРОЛА]
Его египетские губы
Замкнули древние мечты,
И повелительны и грубы
Лица жестокого черты.
И цвета синих виноградин
Огонь его тяжелых глаз;
Он в темноте глубоких впадин
Истлел, померк, но не погас.
В нем правый гнев грохочет глухо,
И жечь сердца ему дано.
На нем клеймо Святого Духа
Тонзуры белое пятно.
Мне сладко, силой силу меря,
Заставить жить его уста
И в беспощадном лике зверя
Провидеть грозный лик Христа.
ИСПОВЕДЬ
В быстро сдернутых перчатках
Сохранился оттиск рук,
Черный креп в негибких складках
Очертил на плитах круг.
В тихой мгле исповедален
Робкий шепот, чья-то речь;
Строгий профиль мой печален
От лучей дрожащих свеч *.
* Этой строфы в записи Шанько нет. Публикуется по тексту собрания стихов Черубины де Габриак, составленного в 1928 г. Е. Я. Архипповым.
Я смотрю в игру мерцаний
По чекану темных бронз
И не слышу увещаний,
Что мне шепчет старый ксендз.
Поправляя гребень в косах,
Я слежу мои мечты,
Все грехи в его вопросах
Так наивны и просты.
Ад теряет обаянье,
Жизнь становится тиха,
Но так сладостно сознанье
Первородного греха...
Вот [еще] образцы стихов Черубины:
КРАСНЫЙ ПЛАЩ
Кто-то мне сказал: твой милый
Будет в огненном плаще...
Камень, сжатый в чьей праще,
Загремел с безумной силой!?..
Чья кремнистая стрела
У ключа в песок зарыта?
Чье летучее копыто
Отчеканила скала?..
Чье блестящее забрало
Промелькнуло там, средь чащ?
В небе вьется красный плащ...
Я лица не увидала.
БЛАГОВЕЩЕНИЕ
О, сколько раз, в часы бессонниц,
Вставало ярче и живей
Сиянье радужных оконниц,
Моих немыслимых церквей.
Горя безгрешными свечами.
Пылая славой золотой,
Там под узорными парчами
Стоял дубовый аналой.
И от свечей и от заката
Алела киноварь страниц,
И травной вязью было сжато
Сплетенье слов и райских птиц.
И, помню, книгу я открыла
И увидала в письменах
Безумный возглас Гавриила:
"Благословенна ты в женах!"
Наряду с этим были такие:
Лишь раз один, как папоротник, я
Цвету огнем весенней, пьяной ночью...
Приди за мной к лесному средоточью,
В заклятый круг, приди, сорви меня!
Люби меня! Я всем тебе близка.
О, уступи моей любовной порче,
Я, как миндаль, смертельна и горька,
Нежней, чем смерть, обманчивей и горче.
Были портретные стихи:
С моею царственной мечтой
Одна брожу по всей вселенной,
С моим презреньем к жизни тленной,
С моею горькой красотой.
Царицей призрачного трона
Меня поставила судьба...
Венчает гордый выгиб лба
Червонных кос моих корона.
Но спят в угаснувших веках
Все те, кто были бы любимы,
Как я, печалию томимы,
Как я, одни в своих мечтах.
И я умру в степях чужбины,
Не разомкну заклятый круг.
К чему так нежны кисти рук,
Так тонко имя Черубины?
Легенда о Черубине распространялась по Петербургу с молниеносной быстротой. Все поэты были в нее влюблены. Самым удобным было то, что вести о Черубине шли только от влюбленного в нее Papa Mako. Были, правда, подозрения в мистификации, но подозревали самого Маковского.
Нам удалось сделать необыкновенную вещь: создать человеку такую женщину, которая была воплощением его идеала и которая в то же время не могла его разочаровать, так как эта женщина была призрак.
Как только Маковский выздоровел, он послал Черубине невымышленный адрес (это был адрес сестры Л. Брюлловой, подруги Лили) огромный букет белых роз и орхидей. Мы с Лилей решили это пресечь, так как такие траты серьезно угрожали гонорарам сотрудников "Аполлона", на которые мы очень рассчитывали. Поэтому на другой день Маковскому были посланы стихи "Цветы" и письмо.
ЦВЕТЫ
Цветы живут в людских сердцах:
Читаю тайно в их страницах
О ненамеченных границах,
О нерасцветших лепестках.
Я знаю души как лаванда,
Я знаю девушек мимоз,
Я знаю, как из чайных роз
В душе сплетается гирлянда.
В ветвях лаврового куста
Я вижу прорезь черных крылий,
Я знаю чаши чистых лилий
И их греховные уста.
Люблю в наивных медуницах
Немую скорбь умерших фей,
И лик бесстыдных орхидей
Я ненавижу в светских лицах.
Акаций белые слова
Даны ушедшим и забытым,
А у меня, по старым плитам,
В душе растет разрыв-трава.
Когда я в это утро пришел к Papa Mako, я застал его в несколько встревоженном состоянии. Даже безукоризненная правильность его пробора была нарушена. Он в волнении вытирал платком темя, как делают в трагических местах французские актеры, и говорил: "Я послал, не посоветовавшись с Вами, цветы Черубине Георгиевне и теперь наказан. Посмотрите, какое она прислала мне письмо!"
Письмо гласило приблизительно следующее: "Дорогой Сергей Константинович! (Переписка приняла уже довольно интимный характер.) Когда я получила Ваш букет, я могла поставить его только в прихожей, так как была чрезвычайно удивлена, что Вы решаетесь задавать мне такие вопросы. Очевидно, Вы совсем не умеете обращаться с нечетными числами и не знаете языка цветов".
"Но, право же, я совсем не помню, сколько там было цветов, и не понимаю, в чем моя вина!" – восклицал Маковский. Письмо на это и было рассчитано.
Перед Пасхой Черубина решила поехать на две недели в Париж, заказать себе шляпу, как она сказала Маковскому, но из намеков было ясно, что она должна увидеться там со своими духовными руководителями, так как собирается идти в монастырь. Она как-то сказала, что, может быть, выйдет замуж за одного еврея. Из этих слов Papa Mako заключил, что она будет Христовой невестой.
Уезжая, Черубина взяла слово с Маковского, что он на вокзал не поедет. Тот сдержал слово, но стал умолять своих друзей пойти вместо него, чтобы увидеть Черубину хотя бы чужими глазами. Просил Толстого, но тот с ужасом отказался, так как чувствовал какой-то подвох и боялся в него впутаться. Наконец Маковский уговорил поехать Трубникова *. Трубников на вокзале был, Черубины ему увидеть не удалось, но она, очевидно, его видела, так как записала в путевой дневник, который обещала Маковскому вести, что она ожидала увидеть на вокзале переодетого Papa Mako с накладной бородкой, но вместо него увидела присланного друга, которого она узнала по изящному костюму. Следовало подробное описание Трубникова. Маковский был восхищен: "Какая наблюдательность! Ведь тут весь Трубников, а она видела его всего раз на вокзале".