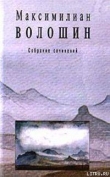Текст книги "Воспоминания о Максимилиане Волошине"
Автор книги: Максимилиан Волошин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 45 страниц)
* См. воспоминания М. Цветаевой, с. 249-250.
Даже в те годы – подросток – я подмечал в наружном облике Макса скрытые противоречия. На первый взгляд, Макс казался человеком могучим, титанически сверхмощным. Глазам легко было обмануться. На самом деле Макс был болен, чем-то серьезно болен. Тучность его не признак здоровья, а симптом тайной болезни. Поэтому же он не может есть, как все другие. Поэтому он – тот, кто вдвое тяжелее других, – должен есть вдвое меньше. Поэтому запрещено ему все сладкое.
И когда он признается доктору Саркизову-Серазини, что поглощает сотни "коктебельских пирожных", – это лишь мечта о том, что полностью для него запретно. ...>
Я свидетельствую, что, прожив в доме Макса около 250 дней (за три лета), я ни разу не видел в его руках сладкого пирожного. Вообще он ел мало – меньше каждого из нас. И за обеденным столом он – при раздаче "добавок" – редко их получал. Елена Оттобальдовна зорко следила за его диетой. Ему нельзя было много есть. Я не знаю названия той болезни обмена веществ, приводившей его плоть к такой повышенной тучности. Но болезнь была, и притом врожденная. Макс и ребенком был слишком толстым. ...>
Иногда случалось, что Максу относили обед в комнаты на втором этаже, когда он не хотел отрываться от работы. Как-то я присутствовал при таком обеде. Тарелку с супом и хлеб поставили рядом с рукописью. Я смотрел, как, погруженный в свои мысли, Макс неторопливым и точным движением черпал ложкой суп – и подносил его ко рту. С невольной мальчишеской улыбкой я сказал Максу о моем наблюдении. Он, оторвавшись от еды и владевшей им думы, внимательно взглянул на меня и серьезно, почти строго сказал: "Каждая еда причастие!" – и вернулся к своим занятиям.
* * *
...> О мгновенной прозорливости Макса значительно позднее я слышал много рассказов из уст его жены Марии Степановны. В этой, первоначальной редакции их правдивость и точность не подлежали сомнению. Конечно, когда они стали кочевать от одного слушателя к другому...
Вот один из таких случаев, по рассказу вдовы Волошина.
У Макса и Марии Степановны была договоренность давать приют и убежище каждому, кто просился переночевать или даже прожить в их доме несколько дней. Однажды вечером на балкон, где они сидели, поднялся совершенно незнакомый им человек и спросил: нельзя ли провести у них ночь? Взглянув на него, Макс сказал:
– Нельзя. У нас все места заняты. Вы можете переночевать у кого-либо в деревне.
– Но у меня, так случилось, совсем нет денег!
– А дальнейшие ваши планы?
– Мне надо добраться до Ялты. Там у меня есть знакомые. Они снабдят меня деньгами. Я должен сесть на пароход...
– Сколько же вам надо?
Тот назвал необходимую сумму. Но у Марии Степановны и таких денег не было.
– Сейчас вы получите, сколько просите.
Мария Степановна отвела Макса в сторону:
– В чем дело? Почему ты не хочешь, чтобы он побыл у нас? У меня совсем нет денег.
– Я соберу, сколько требуется. Но он не перейдет порога нашего дома!
Макс спустился вниз и со всех жильцов – людей весьма небогатых – собрал нужные деньги.
– Вот возьмите. И поторопитесь в деревню. Там рано ложатся.
Гость ушел. Почему же Макс нарушил принятый обычай – к удивлению Марии Степановны? В дальнейшем оказалось, что этот человек только что совершил ужасающее, чудовищное убийство. ...>
* * *
Вспоминаю такой случай.
Все Эфроны были допущены к пользованию библиотекой Макса, при условии, конечно, бережного обращения с книгами.
Лиля умудрилась забыть на пляже одну из волошинских книг. Это, хорошо помню, была одна из не очень толстых книг, плохо сброшюрованных, коктебельский бриз легко мог ее разметать по каменистому прибрежью. Так или иначе, Волошин набрел на свою книгу, бережно собрал ее. Книга была спасена.
Макс взял драгоценную беглянку к себе – обратно – и сказал, что при таком отношении к его книгам он не может позволить пользоваться библиотекой. Что есть книги незаменимые, которыми он дорожит. Что эта книга подверглась большой опасности – одна из таких нужных ему книг.
Но интердикт Макса вызвал взрыв негодования со стороны революционно настроенных Эфронов.
– Ну, Макс! Ты просто-напросто заядлый собственник. Моя книга, моя библиотека! Такого отношения мы не ожидали от тебя!
Но Макс – с кротким упорством – продолжал стоять на своем:
– Пожалуйста! В пределах библиотеки можете читать любую книгу. Там очень удобно: есть диван и стулья, можно читать и сидя, и лежа. Но выносить книгу из библиотеки (теперь это ясно) – значит ее разрушать.
Эфроны продолжали возмущаться. Я с ужасом следил, как разгорается ссора. Я – еще мальчик – не понимал, что весь инцидент – пустяковый и забудется через неделю-полторы. Но как? Такие люди, такие сверхлюди... И вдруг – они перестали разговаривать с Максом. И Макс с ними...
Но оказалось, что я тоже хожу в виноватых.
Вера Эфрон... Вера... А мое чувство к ней и впрямь граничило с юношеской влюбленностью – и вдруг жестоко упрекнула меня.
– Вот вы, Леня, тоже ведете себя нехорошо. Обдумайте твердо: кто из нас прав – мы или Макс? Решите окончательно – и станьте безоговорочно на чью-либо сторону!
"Безоговорочно". Разве до этого случая был повод мне "безоговорочно" выбрать одну из спорящих сторон?..
Теперь прошло шестьдесят шесть лет с тех пор. И я могу отдать себе трезвый отчет, как сложился такой упрек. Мне думается, что Эфроны, конечно, любили Макса, но до конца его не принимали. Они его не понимали "до конца" * Он не подходил полностью к их идеалу. Он не был, это они могли заметить, активным революционером. Его философия, его практика жизни – все это было им чуждо.
Я же не был ни "гением", ни потенциальным "мятежником". Они привыкли ко мне – неизменному члену "обормотника". Признавали, что я к рисованию способен и что память у меня на стихи весьма повышенная. Но и меня, моего сердца, моего отношения к Максу – и к ним самим, они не понимали.
Но я тогда не мог сам себе в этом признаться.
1913 ГОД
СНОВА В КОКТЕБЕЛЕ. ЛЕТО. СТИХИ...
Итак, в начале июня в третий раз я приехал в Коктебель. Я увидел, что дом Макса сильно изменился. За этот сезон Пра и Волошин сумели к дому с юго-востока пристроить обширный добавок – апсиду, сложенную из красивого, не до конца обтесанного камня (известняка?).
Там новая, большая – в два этажа ростом, мастерская Макса. Пятигранная апсида с четырьмя очень высокими окнами, такими высокими – в два этажа, что кажутся узкими. ...>
Я оценил все совершенство плана и конструкции этой замечательной мастерской. И все же мне было жаль двух обжитых мною в прошлом больших комнат Макса. Подросток быстрее и более прочно привыкает. И с трудом расстается с привычными комнатами и предметами. Впрочем, предметы остались те же. Только иначе смотрелись в перспективе нового внутреннего пространства. Голова Таиах стояла в самой глубине мастерской, как бы в более узком ее ответвлении. Над ней – потолком, навесом – проходила галерея. И в этом своего рода узком и коротком полукоридоре или полугроте стояло два дивана друг против друга. И над ними, помнится, по обе стороны две цепи японских деревянных гравюр: Хиросигэ, Хокусаи, Утамаро; еще выше – знакомые мне оттиски и репродукции... грустный, томящийся демон Одилона Редона... и другие... ...>
Как-то под вечер случилось, что мы гуляли втроем: Макс, Вера Эфрон и я. Помнится, мы прошли на перевал между Святой и Сюрю-Кая. Макс рассказывал легенды, связанные с этой горой. Мы уже возвращались. Оставалось еще минут двадцать ходьбы. Каменоломня (тогда еще возвышалось ее характерное изваяние) осталась позади. Два-три увала между нами и заливом. Красивое место. Огромные волны земли...
Макс предложил отдохнуть – присесть на гребне одного холма перед спуском. Мы сели на сухую траву. Макс сказал:
– Мне говорили, Леня, что вы помните весь мой венок сонетов. Может ли это быть?
– Да, Макс! Думаю, что помню.
– Тогда скажите нам.
– С радостью! Но условимся: если вам не понравится, как я читаю... или вы устанете слушать... тогда скажите: я докончу как-нибудь в другой раз.
Я начал читать. Старался читать спокойно, без малейшего оттенка пафоса. Только смысловая выразительность.
Пятнадцать сонетов заняли меньше получаса! Меня никто не прерывал. Макс слушал с простым, спокойным вниманием. Помню, ключевой сонет я прочел два раза: в начале и в конце цикла.
Сильно свечерело. Макс, после молчания, заметил:
– Но, Леня! Как вы могли все это запомнить?
Кажется, я сказал:
– "Corona astralis". Это запомнилось само собой. Конечно, надо было внимательно прочесть несколько раз...
* * *
Вероятно, в это же время я был восхищенным свидетелем: Волошин прочел нам, конечно, по рукописи свой второй венок сонетов "Lunaria" 4. Нам: слушателей было немного, человек пять-шесть. Среди нас – Пра, Марина Цветаева, Эфроны-сестры. Кажется, Сережи Эфрона не было: он был прикован к постели туберкулезной температурой. Кто еще? Не могу вспомнить с уверенностью. ...>
Итак, серый день. Белая комната. Несколько человек, сидящих довольно тесно. В центре нашего круга, точнее – сегмента – спиною к окну – Макс: спокойно-темное лицо, плавно-волнистое море волос, спокойный голос, прекрасно выговаривающий – строка за строкой – прекрасные стихи нового "венка сонетов". ...>
Мне никогда не приходилось слышать лучшего чтения стихов. Я слышал прекрасных чтецов, например, Яхонтова. Но значимость его декламаций коренилась именно в достоинствах чтения. Поэтому лучше всего было слушать у Яхонтова знакомые стихи, которые знаешь по памяти. Тогда – с особой силой можно было оценить изящное совершенство его трактовки.
Здесь совсем другое. Низкий баритон (отнюдь не бас) голоса Макса не акцентировал трактовки: выделял, обрисовывал образ, смысл каждой строки, и каждые четырнадцать строк слагались в четкий, компактный, особый конгломерат. Сумма контрастов здесь еще большая, чем в первом венке. В самом отношении к героине, к Луне, скрыта несовместимость: любование противопоставлено антипатии, признание красоты – ужасу, гибель – надежде.
Поэт не выдвигал себя на первый план. Он оставался в тени. Особенно от меня – темным силуэтом на фоне светло-серого окна. И только голос, плавный, внешне спокойный, но внутренне певучий, отчетливо доносил образы, содержание каждой строки. При этом – поражающее, ничем не затемненное, не поколебленное чувство стиха, совершенство просодии, совершенство самой поэзии...
Вероятно, это чтение и было самым значительным поэтическим впечатлением, извне дошедшим до моего слуха – за всю мою жизнь. Вероятно, у большинства слушателей, в разной форме и степени, было такое же чувство. Макс кончил. Молчание. И естественное, и неловкое. Необходимо было его прервать. Но никто не решался. Наконец, первое слово взяла Пра (она тоже слышала венок в первый раз).
– Ну что же, прекрасный венок сонетов, Макс. Очень не похожий на первый. Но ничем не хуже. Быть может, еще лучше.
Учтите твердый, спокойно-резюмирующий голос Пра.
– Однако одна строчка меня покоробила. С одной строчкой я не согласна!
– Да, мама? Но с какой же?
Как всегда, голос Макса, когда он не был согласен с Пра, принимал искусственно-жалобный оттенок. Сейчас он готовился к самозащите, к спору.
(Второй сонет. Завершающие триоли:
От ласк твоих стихает гнев морей,
Богиня мглы и вечного молчанья,
А в недрах недр рождаешь ты качанья,
Вздуваешь воды, чрева матерей
И пояса развязываешь платий,
Кристалл любви! Алтарь ночных заклятий!
Несколько необычный родительный падеж множественного числа в предпоследней строке нам непривычен. Правда, заклятия – заклятий, объятья объятий, проклятья – проклятий. Обычно: платье – платьев. Но по-старорусски: платия – платий, как братия – братии.
В чтении Макса эта строка тогда прозвучала так:
И раковины делаешь пузатей.)
– Как хочешь, Макс! "Пузатей" – недопустимо. Вносит комический элемент в очень строгие строки. Эту строчку ты должен изменить.
– Очень трудно! Может быть – "рогатей"?
– Нет, Макс! Звучит еще смешней. Видишь ли, сын. "Пузатей" – в этом что-то мягкое. Не подходит к раковине.
Кажется, Марина Цветаева была согласна с Пра.
Я мог бы сказать, что эпитет "пузатый" мы часто применяем к весьма твердым предметам. Мы говорим: "пузатый комод", "пузатый самовар". Но я промолчал.
Макс не согласился:
– Но, мама... ведь это вправду так и есть. Раковины увеличиваются в связи с фазами луны.
– Однако, Макс. Ты пишешь не научный трактат и не учебник. Стихи... у них другие законы. К ним другие требования. "Пузатей"... это недопустимо в твоем венке!
"И я молчал, но с нею был согласен..." ...>
* * *
Мне пришлось стать случайным свидетелем острой дискуссии между Алексеем Николаевичем Толстым и Волошиным. Приношу извинение читателю за то, что отнес этот небольшой рассказ к тринадцатому году, хотя, как я это выяснил потом с полной точностью, такой спор мог произойти только в двенадцатом.
Вопрос шел о небольшой детали, об одном эпитете в последней строке стихотворения "Делос". Последняя строфа этого стихотворения, посвященного не Толстому, а Сергею Маковскому, главному редактору "Аполлона", звучит так:
Делос! Ты престолом Феба
Наг стоишь среди морей,
Воздымая к солнцу – в небо
Дымы черных алтарей
Так вот, Алексей Николаевич категорически возражал против "черных алтарей". По его мнению, алтарь вообще не может быть черным. Такой цвет не присущ никакому алтарю – тем более алтарям, посвященным Фебу, богу солнца!
Макс спокойно защищал этот эпитет:
– Что же делать, если алтари на Делосе и впрямь черные, если они продымлены и обуглены?
Но Толстой настаивал:
– И вообще "черный" – это не цвет предмета, озаренного солнцем. Это цвет отверстия, дыры, воды на дне колодца. Этот эпитет – цвет внезапного провала в бездонное – в конце стихотворения.
Волошин тихим, плавным голосом возражал, защищая свою строчку:
– Возможно, что ты и прав. Но так и нужно в конце этих строф. Конечная строка должна уравновесить две первые:
Оком мертвенным Горгоны
Обожженная земля...
Есть внутри строк нарастание: "Делос знойный и сухой... Только лавр по склонам Цинта", и далее:
Но среди безводных кручей
Сердцу бога сладко мил
Терпкий дух земли горючей,
Запах жертв и дым кадил.
Но всего этого мало: первые две строки требуют простого и четкого конца. "Дымы черных алтарей". Это – конец. Завершение.
Но Толстой не хотел сдаваться. Настаивал. Но чем он сильнее возвышал голос, тем спокойней, отчужденней, замедленнее становились паузы Макса.
В конце концов каждый из спорящих остался при своем мнении.
Я всем сердцем был на стороне Макса. Но, конечно, не произнес ни слова.
Теперь, выводя из глубины памяти подробности этого спора, я отчетливо помню, что эта дискуссия проходила в одной из двух комнат на втором этаже. Значит, еще не была встроена мастерская. Итак, дата "двенадцатый год" верна.
* * *
...> Приближался день моего отъезда из Коктебеля. Мне казалось несомненным, что лето будущего, четырнадцатого, года я проведу опять – в четвертый раз! – в доме Волошина. Об этом я заранее договорился с Еленой Оттобальдовной. Мне и в голову не могло прийти, что пролетят тридцать семь лет – прежде чем я смогу снова перешагнуть порог дома Макса.
Конечно, я дорожил каждым коктебельским днем. И все же срок отъезда неумолимо приближался. Наконец, настал день, когда я должен был в последний раз пожать руку Макса. Но я не знал, что это – в последний раз...
Все знают, что Макс был убежденным "хиромантом". И большинство друзей Макса настойчиво просили его посмотреть линии их ладоней, "погадать". Но Макс очень редко соглашался. И я тоже как-то обратился к нему с той же просьбой. Но Макс молчаливо уклонился. И я больше не надоедал ему.
Однако несколько раз я был свидетелем, как Макс, согласившись на просьбу, у кого-нибудь "смотрел ладонь". И у меня создалось впечатление, что это для него не так просто, что такое "гадание" для Макса связано со своего рода "медитативным напряжением".
В своих стихах Макс не раз говорит о чтении линий руки. "Раскрыв ладонь, плечо склонила..." И еще детальней:
Мой пыльный пурпур был в лоскутьях,
Мой дух горел: я ждал вестей,
Я жил на людных перепутьях
В толпе базарных площадей.
Я подходил к тому, кто плакал,
Кто ждал, как я... поэт, оракул
Я толковал чужие сны...
И в бледных бороздах ладоней
Читал о тайнах глубины
И муках длительных агоний...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Я уже должен был идти. Меня ждали: я ехал не один. Я зашел в мастерскую, чтобы сказать Максу "до свидания" – и в неудачный момент. Макс рисовал портрет. Кого? Не помню. Модель была женская. Быть может, Субботина *?..
* Капитолина Субботина – актриса Свободного театра в Москве.
Макс не любил, когда его отрывают от портретирования. И я зашел на полминуты. Протянул руку: "До свидания, Макс. До будущего лета!"
Но Макс взял мою руку – и повернул ладонью вверх. Потом взял левую...
Он сказал:
– Мне сейчас некогда. Потом как-нибудь я посмотрю внимательней. ...>
Последний раз, когда я говорил с Максом.
Максимилиан Волошин
РЕПИНСКАЯ ИСТОРИЯ
Когда несчастный Абрам Балашов исполосовал картину Репина "Иоанн Грозный и его сын", я написал статью "О смысле катастрофы, постигшей картину Репина" 1.
На другой день после катастрофы произошел факт изумительный: Репин обвинил представителей нового искусства в том, что они подкупили Балашова. Обвинение это было повторено Репиным многократно, следовательно, было не случайно сорвавшимся словом, а сознательным убеждением.
Оно требовало ответа от лица представителей нового искусства.
Так как для подобных ответов страницы газет и журналов закрыты, то мне пришлось сделать его в форме публичной лекции.
В своем обвинении Репин указывал прозрачно на художников группы "Бубновый валет" и назвал по имени г. Бурлюка *. Я счел моральной обязанностью отвечать Репину под знаком "Бубнового валета" 2, ни членом, ни сторонником которого не состою, хотя многократно, в качестве художественного критика, являлся его толкователем.
* Бурлюк Давид Давидович – художник и поэт-футурист.
Я прекрасно знал, что мое выступление совместно с "Бубновыми валетами" повлечет для меня многие неприятности, злостные искажения моих слов и нарочито неверные толкования моих поступков. Но обвинение Репина я, как участник прошлогодних диспутов об искусстве, принимал и на себя, и отвечать на него счел долгом вместе с ними.
В лекции своей я не касался репинского искусства и его исторической роли вообще. Эта тема слишком большая и общая. Для нее нужна книга, а не лекция. Я говорил только о его картине "Иоанн Грозный и его сын". Я выяснял, почему в ней самой таятся саморазрушительные силы и почему не Балашов виноват перед Репиным, а Репин перед Балашовым.
Читатель найдет в тексте лекции мое толкование реализма и натурализма и, главным образом, выяснение роли Ужасного в искусстве.
Узнав перед началом лекции, что Репин находится в аудитории, я счел своим долгом подойти, представиться ему, поблагодарить за то, что он сделал мне честь прийти выслушать мой ответ и мои обвинения против его картины лично, и предупредить, что они будут жестоки, но корректны.
Последнее было исполнено, как всякий может убедиться из текста моей статьи.
Отвечая мне, Репин имел бестактность заключить свою речь словами: "Балашов – дурак, и такого дурака, конечно, легко подкупить".
Как можно было ожидать, и мои слова, и все, происходившее на диспуте, было извращено газетами. ...> В главе "Психология лжи" я даю точный протокол диспута и восстанавливаю процесс преображения действительности.
Относительно же членов общества "Бубновый валет" я должен сказать, что их участие в данном случае ограничивалось только административным устройством: никто из них в самом диспуте участия, как оратор, не принимал, так как даже г. Бурлюк, который вел себя на этот раз очень сдержанно, членом "Бубнового валета" не состоит.
Те же ругательные слова, что звучали в зале, относились только ко мне и исходили из уст самого Репина и его учеников.
Надеюсь, что сторонники Репина, на лекции не присутствовавшие, но покрывающие десятками подписей протесты против моего "поступка", не ограничатся одними лирическими восклицаниями, личными, на мой счет, инсинуациями и сочувственными адресами оскорбленному художнику.
Вот точный текст моей лекции. Они его обязаны прочесть. Я жду на мои обвинения, обращенные против картины Репина, ответа по существу. Того ответа, которого я еще не получил ни от самого художника, ни от его защитников. ...>
Психология лжи
В Берлинском университете, в Институте экспериментальной психологии, был сделан следующий опыт над студентами: во время лекции в аудиторию ворвался арлекин, а вслед за ним негр с револьвером в руке. Они добежали до середины амфитеатра. Здесь негр настиг арлекина, но тот свалил его с ног, после краткой борьбы вырвал у него револьвер, вскочил и убежал в противоположную дверь, а негр вслед за ним. Вся сцена длилась не больше двадцати секунд. Она была заранее подготовлена и разучена двумя актерами; все их движения срепетированы и записаны; костюмы и грим нарочно выбраны самые характерные и бросающиеся в глаза и предварительно сфотографированы. Револьвер не был заряжен.
Спустя две недели всем студентам, присутствовавшим при этом опыте, было предложено описать, что произошло. Получилась коллекция самых противоречивых показаний. Никто не мог определить точно, в каком костюме был негр, в каком арлекин, и большинство утверждало, что арлекин гнался за негром, а негр стрелял в арлекина. Многие слышали выстрел своими ушами. При этом надо принять в соображение, что свидетели хотя и не были подготовлены к данному эксперименту, однако находились в курсе подобных психологических опытов.
То, что произошло на моей лекции 12 февраля в Политехническом музее между мной и Репиным, и то, какие формы это приобрело сперва в газетных отчетах, потом в газетных статьях и, наконец, в коллективных и индивидуальных протестах в виде писем в редакцию и адресов, весьма напоминает опыт, произведенный в Берлинском университете.
Случай этот настолько характерен для психологии возникновения и развития лжи, что мне кажется интересным изложить фактически все то, что было, и во что все превратилось.
Лекция моя "О художественной ценности пострадавшей картины Репина" составляла тему для диспута "Бубнового валета". "Бубновый валет" взял на себя все хозяйственные хлопоты по устройству лекции, но этим его роль и ограничилась. Никто из членов общества "Бубновый валет" в диспуте участия не принимал.
Председательствовал присяжный поверенный Александр Богданович Якулов. Официальными оппонентами моими были литераторы: Георгий Иванович Чулков, Алексей Константинович Топорков * и художник Давид Давидович Бурлюк, который членом общества "Бубновый валет" не состоит.
Перед началом лекции представитель полиции объявил председателю, что участие в прениях разрешается только лицам, заранее помеченным в программе. Таким образом, никакое выступление членов общества "Бубновый валет" на данном диспуте не было возможно.
После лекции, по ходатайству председателя, представитель полиции дал, в виде исключения, право голоса самому Репину и его ученику г. Щербиновскому **.
* Топорков А. К. (1882-?) – философ, критик и журналист
** Щербиновский Дмитрий Анфимович (1887-1926) – художник.
Таким образом, на диспуте говорили: И. Е. Репин, г. Щербиновский, Георгий Чулков, А. К. Топорков, Д. Д. Бурлюк и я. Ни одного "бубнового валета".
Перед лекцией я имел следующий разговор с И. Е. Репиным. Узнав, что он в аудитории, я направился на верх амфитеатра, где мне его указали. Никогда не видав его в лицо, я спросил: "Не вы ли Илья Ефимович Репин?"
Получив утвердительный ответ, я представился и сказал: "Очень извиняюсь, что вам, вопреки моему распоряжению, не было послано почетного приглашения" (это было фактически так).
На что Репин ответил мне: "Если бы я его получил, я бы не пошел. Мне не хочется, чтобы о моем присутствии здесь было известно". Затем я поблагодарил его за то, что он пришел лично выслушать мою лекцию, прибавив: "Мне гораздо приятнее высказать мои обвинения против вашей картины вам в глаза, чем вы стали бы потом узнавать их из газетных передач. Предупреждаю вас, что нападения мои будут корректны, но жестоки". На это Репин ответил мне: "Я нападений не боюсь. Я привык". Затем мы пожали друг другу руки и я спустился вниз, чтобы начать лекцию.
Лекция моя была выслушана спокойно, без перерывов Только в одном месте, когда я говорил о том, что произведениям натуралистического искусства, изображающим ужасное, – место в Паноптикуме, кто-то из кружка Репина крикнул: "Как глупо!" Когда на экране появился портрет Репина – ему была устроена публикой овация Когда я закончил свою речь, раздались аплодисменты, перемешанные со свистками. Было ясно, что одна часть публики сочувствует Репину, другая – идеям, высказанным мною.
С этого момента я перестаю быть активным действующим лицом диспута и становлюсь только слушателем и зрителем происходящего. Следовательно, из области объективной правды перехожу в область субъективных свидетельских показаний.
Когда во время антракта выяснилось, что вся публика уже осведомлена, что И. Е. Репин находится в зале и что пристав разрешает слово самому Репину и его ученикам, то член "Бубнового валета" художник Мильман * подошел к Репину и предложил ему отвечать мне. Когда Репин поднялся на верху амфитеатра, чтобы говорить, вся публика повскакивала со своих мест, а председатель А. Б. Якулов предложил ему спуститься вниз на кафедру, чтобы лучше быть услышанным. Замешательство и крики "сойдите на кафедру", "пусть говорит с места" длились несколько минут. Речь И. Е. Репина сохранилась в моей памяти в таких отрывках.
* Мильман Адольф Израйлевич (1886-1930).
"Я не жалею, что приехал сюда... Я не потерял времени... Автор человек образованный, интересный лектор... У него ...> много знаний... Но... тенденциозность, которой нельзя вынести... Удивляюсь, как образованный человек может повторять всякий слышанный вздор. Что мысль картины у меня зародилась на представлении "Риголетто" – чушь! И что картина моя оперная – тоже чушь... Я объяснял, как я ее писал... А обмороки и истерики перед моей картиной – тенденциозный вздор. Никогда не видал... Моя картина написана двадцать восемь лет назад, и за этот долгий срок я не перестаю получать тысячи восторженных писем о ней, и охи, и ахи, и так далее... Мне часто приходилось бывать за границей, и все художники, с которыми я знакомился, выражали мне свой восторг... Значит, теперь и Шекспира надо запретить?.. Про меня опять скажут, что я самохвальством занимаюсь..."
Говоря это, Репин как бы все больше и больше терял самообладание. Сколько помню, затем он говорил об идее своей картины, о том, что главное в ней не внешний ужас, а любовь отца к сыну и ужас Иоанна, что вместе с сыном он убил свой род и, может быть, погубил царство. "И здесь говорят, что эту картину надо продать за границу... Этого кощунства они не сделают... Русские люди хотят довершить дело Балашова... Балашов дурак... такого дурака легко подкупить..."
На этом кончилась речь Репина. С появлением на кафедре его ученика г. Щербиновского бурная атмосфера начала еще более сгущаться.
Он говорил о том, что не может молчать, когда его гениальный учитель плачет, когда он ранен. "Мне пятьдесят пять лет, а я младший из учеников Репина, я мальчишка и щенок..." Затем он сравнивал Репина с Веласкесом. Говорил, что рисунок есть понятие, никакими словами неопределимое, что "искусство – это такая фруктина..." и т. д. Восстанавливать содержание его речи я не берусь.
Выступивший вслед за ним Д. Д. Бурлюк говорил очень сбивчиво. Выход Репина, покинувшего аудиторию при овациях со стороны публики, перебил его речь. Он спутался и заявил, что чувствует себя нехорошо и будет продолжать речь после 3.
Вслед за Бурлюком говорили Георгий Чулков и А. К. Топорков, оба официальных оппонента, принявшие участие в диспуте по моей просьбе. ...> После окончания речи Топоркова снова говорил Д. Бурлюк. ...>
В заключение диспута я, обращаясь к публике, сказал:
"Прежде всего, я хочу поблагодарить И. Е. Репина, хотя теперь и заочно, так как он уже покинул аудиторию, за то, что он сделал мне честь, лично явившись на мою лекцию. К сожалению, отвечая мне, он совсем не коснулся вопросов моей лекции по существу: он не ответил ни на устанавливаемое мною различие реального и натуралистического искусства, ни на поставленный мною вопрос о роли ужасного в искусстве. В последнем же вопросе, нарочно подчеркиваю и упираю на это, заключается весь смысл моей лекции и моих нападений на картину Репина" 4.
Затем я в кратких словах отвечал Топоркову, на его критику моего деления реального и натурального, и Чулкову, на вопрос о значении кубизма, не касаясь больше ни Репина, ни его картины.
Так прошел фактически диспут "Бубнового валета".
На следующий день начинается процесс преображения действительности в хроникерских отчетах. Свидетели начинают путать, кто за кем гнался: арлекин за негром или негр за арлекином. ...>
На второй день начинается следующая стадия. Выражают свое мнение те, что на лекции не присутствовали, а прочли отчеты об ней. Действительность получает вторичное преображение:
"...Третьего дня, во вторник, в Москве произошло явление, по реальным последствиям бесконечно меньшее, чем исполосование репинской картины, но по своему внутреннему содержанию гораздо более отвратительное. ...>
То, что произошло третьего дня, было безмерно постыднее, гаже, оскорбительнее, чем неосмысленный поступок безумного Балашова". ...>
На третий день те, что не были на лекции, не читали отчетов, а читали только статьи, написанные на основании отчетов, дают уже такие свидетельские показания:
"В лапы дикарей попал белолицый человек...
Они поджаривают ему огнем пятки, гримасничают, строят страшные рожи и показывают язык.
Приблизительно подобное зрелище представлял из себя "диспут" бубновых валетов, на котором они измывались над гордостью культурной России – И. Е. Репиным". ...>
Одна из газет воспроизводит мою фотографию, вырезанную из группы, где я снят вместе с Григорием Спиридоновичем Петровым и Поликсеной Сергеевной Соловьевой, в своем обычном рабочем костюме, который ношу у себя в Крыму (где живу, между прочим, уже 20 лет): холщовой длинной блузе, подпоясанной веревкой, босиком и с ремешком на волосах, на манер, как носят сапожники. Портрет воспроизведен с таким комментарием:
"Максимилиан Волошин, громивший Репина на диспуте. На фотографии он изображен в "костюме богов". В таком виде он гулял в течение прошлого лета в Крыму, где этот снимок и сделан (Ран[нее] утро)". ...>