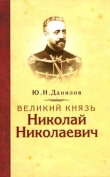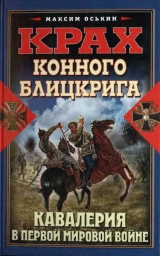
Текст книги "Крах конного блицкрига. Кавалерия в Первой мировой войне"
Автор книги: Максим Оськин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 27 страниц)
Теперь следовало оттеснить врага от жизненных центров империи, тем паче – от Минского железнодорожного узла. Так как главкосев ген. Н.В. Рузский продолжал сдерживать войска 5-й армии, одновременно терзая Ставку непрерывными просьбами о подкреплениях, хотя Северный фронт не испытывал давления противника, начальник штаба Верховного Главнокомандующего ген. М.В. Алексеев принял решение о формировании новой группировки. В районе Полоцка стала сосредоточиваться новая 1-я армия ген. А.И. Литвинова, передавшего корпуса своей прежней 1-й армии соседям: 4-й и 10-й армиям.
18 сентября русская конница перешла в наступление в районе Молодечно. Численность стратегической конной группировки Западного фронта в боях под Вильно в сентябре 1915 года, к 25 сентября, составила восемнадцать с половиной тысяч человек при пятидесяти трех пулеметах и шестьдесят одном орудии – по сути, целая Конная армия. Но тут-то и сказался импровизированный характер крупных кавалерийских соединений, которые пришлось восстанавливать уже в ходе войны. Начальники конных отрядов нехотя подчинялись общему начальнику – генералу Орановскому, артиллерия плохо взаимодействовала с конницей, и потому в целом наступление продвигалось медленными темпами. Однако общее превосходство сил позволило ген. В.А. Орановскому отбросить германскую конницу из района Молодечно на шестьдесят пять километров севернее, к озеру Нарочь. Немцы считали русскую кавалерию достойным противником, умело применяющимся к местности, ведущим разведывательную службу, искусно использующим завесу и прикрывающим отход [289]289
Позек М.Германская конница в Литве и Курляндии в 1915 году. М.-Л., 1930. С. 179 – 180.
[Закрыть]. Но русские командиры так и не сумели использовать в должной мере численное превосходство, позволив немецким частям счастливо избегнуть окружения.
Одновременно 20 – 22 сентября 1-я армия ген. А.И. Литвинова, переброшенная на полоцкое направление, пыталась оттеснить противника ударом в стык Неманской и 10-й германских армий. Наступление на широком фронте, в лоб, сковало врага, но 1-й армии не удалось продвинуться ни на шаг, зато потери составили более двадцати тысяч человек. К началу октября 1-я армия и конная группа генерала Орановского прочно сомкнули фланги армий Северного и Западного фронтов. Это те самые фланги, что были разрублены Свенцянским прорывом. Данными боями закончился период маневренной войны на Восточном фронте.
Теперь противоборствующие стороны, окончательно истощив свои силы в сражениях кампании 1915 года, как и во Франции, перешли к позиционной борьбе. При этом часть германцев не сумела выйти из окружения. Пусть это были небольшие группки людей, но зато они испытали на своей шкуре, как плохо находиться в неприятельском тылу без надежды выйти к своим. Участник войны вспоминал: «В районе Дуниловичей, в громадных лесах, все еще болтались одиночные, небольшие разъезды германской кавалерии, отставшие от своих главных сил. Доведенные холодом и голодом до отчаяния, они приходили в соседние деревни и сдавались в плен. Много трупов их осталось лежать в глубоких снегах, и весною крестьяне находили их умершими от истощения и замерзания» [290]290
Торнау С.А.С родным полком. Берлин, 1923. С. 83.
[Закрыть].
…Что ж, немцы могли подвести итоги своей оперативной деятельности на Восточном фронте в кампании 1915 года. В частности, уже после войны это сделал ген. Э. фон Фалькенгайн. Генерал Фалькенгайн так характеризует результаты борьбы в письме своему коллеге – австрийскому начальнику Полевого Генерального штаба – ген. Ф. Конраду фон Гётцендорфу: «Ему было сообщено, что для Германии, а по воззрению немецкого верховного командования, и для Австро-Венгрии, дело теперь сводилось не к тому, чтобы завладеть русской территорией, но только к тому, чтобы отыскать такую линию, которая на долгое время и при минимальном применении сил обезопасила бы Восточную Пруссию и Венгрию, в то время как мы на других театрах с возможно полным напряжением сил будем искать решения войны». То же самое Э. фон Фалькенгайн писал и главнокомандующему на Востоке ген. П. фон Гинденбургу как ответ на упрек в том, что русские вырвались из клещей («Канн») к середине августа: «Уничтожение врага никогда не ожидалось от текущих операций на Востоке, а только решительная победа, отвечающая целям верховного командования. Уничтожение в целом и не должно в данном случае делаться предметом достижений, так как нельзя задаваться целью уничтожить врага, значительно превосходящего в силах и стоящего фронтально против вас, раз он располагает прекрасными сообщениями, достаточным временем и безграничным пространством…» [291]291
Фалькенгайн Э.Верховное командование 1914 – 1916 в его важнейших решениях. М., 1923. С. 121, 129.
[Закрыть].
Да, Свенцянский прорыв имел для германцев большое значение. Прежде всего русские лишились последней рокадной железнодорожной магистрали, находившейся в их руках после оставления Польши, – той железной дороги, что шла от Двинска через Вильно. Это обстоятельство в кампании 1916 года не позволит Ставке Верховного Главнокомандования перебрасывать резервы с фронтов, расположенных севернее Полесья, на Юго-Западный фронт, бросившийся вперед в Брусиловском прорыве. Враг сумеет совершать перегруппировки гораздо раньше русских, что и позволит австро-германцам отражать русские удары, имея меньшие по численности силы. Однако, с другой стороны, Гинденбург и Людендорф не добились своей цели – уничтожения русских армий в «котлах». Имея численное превосходство, значительную разницу в качественной подготовке резервов и, наконец, совершенно несоизмеримое преимущество в боеприпасах, германцы не смогли создать ни одного «котла». Последний шанс для немцев – прорыв на Вильно – Свенцяны мощным ударом встык русских фронтов – также не увенчался успехом. Неприятель опоздал со Свенцянской операцией как минимум на месяц, ибо русские армии Северо-Западного фронта уже успели выйти из окружения, обозначавшегося в июле – начале августа в Польше, а немцы к осени явно выдохлись.
Глава 7
В БРУСИЛОВСКОМ ПРОРЫВЕ (1916)
В кампании 1915 года русская конница понесла относительно небольшие потери. Разумеется, относительно пехоты, которая успела по нескольку раз сменить состав своих полков. Последние кадры предвоенного времени, оставшиеся в строю после кровопролитных операций 1914 года, погибли именно в 1915 году. Конные же полки еще имели в своих рядах почти половину кадровиков. Во-первых, это обстоятельство объясняется тем фактом, что в современной войне главный упор делается на огонь. Развитие огнестрельного оружия – винтовки и пушки – сделало это оружие вдобавок еще и скорострельным. Скорострельные орудия и пулеметы сделали поле сражения, по выражению А.А. Свечина, «пустым». Отныне на поле непосредственного боя господствовала пуля, а не человек. Убедившись в невозможности кавалеристов атаковать посредством конного «шока», командование стало беречь кавалерию, оставляя на ее долю производство лишь частных атак на различных участках фронта с целью выручки отступавшей пехоты.
Вдобавок ко всему, стоит напомнить, что в кавалерию традиционно брали лучших людей из запасных подразделений. Поэтому задача сбережения кавалерии постепенно, к лету 1915 года, окончательно заняла приоритетное место в умах высших военачальников перед использованием конницы в общевойсковом бою. Попытка массового применения кавалерийских корпусов, объединенных в конную армию, в ходе ликвидации Свенцянского прорыва, не принесла всех тех плодов, что должна была бы дать. Конечно, русские остановили наступление противника, выиграв темпы развития операции и закрыв дорогу в тыл русского Западного фронта подоспевшими резервами.
Однако кавалерия действовала вяло и нерешительно, что обусловливалось уже качествами кавалерийских начальников. В связи с этим представляется неоптимистичной точка зрения Б.М. Шапошникова в отношении ген. В.А. Орановского, возглавлявшего в сентябре 1915 года эту конную армию. Б.М. Шапошников так говорил о генерале Орановском, с которым вместе служил перед войной, сравнивая его со своим командиром – начальником 1-го кавалерийского корпуса в 1914 году ген. А.В. Новиковым: «Как начальник дивизии, Орановский всегда брал на себя ответственность за принимаемые решения, учил дивизию и, нужно сказать, действительно сделал из нее хорошее боевое соединение. Плоды его работы во время войны пожинал уже Новиков, считавший себя чуть ли не русским Маратом. Как офицер Генерального штаба Орановский был деятельным, опытным, тактичным… более заботливого начальника я не встречал… Орановский был на голову выше иных генералов русской армии и с незапятнанной честью, как у его бывшего начальника генерала Жилинского» [292]292
Шапошников Б.М.Воспоминания. Военно-научные труды. М. 1982. С. 222, 232.
[Закрыть]. Понятно, что «иных генералов» в русской армии периода Первой мировой войны, к сожалению, хватало. Возможно, что ген. В.А. Орановский был хорошим офицером Генерального штаба и «с незапятнанной честью». Но в любом случае на высоком посту начальника нескольких кавалерийских корпусов он не оправдал надежд. Поэтому, наверное, справедливо, что высшей точкой карьеры генерала Орановского, не сумевшего объединить усилия двадцати тысяч сабель под Свенцянами, стала должность командира кавалерийского корпуса.
Соответственно, конница из средства развития успеха в решающий момент боя постепенно превратилась в средство преследования только в условиях значительного поражения врага, доходящего до полного материального и морального разгрома. Если на Западном фронте, во Франции, кавалерия вообще довольно быстро сошла на нет ввиду малой протяженности фронта и его чрезвычайной насыщенности техникой, то на Востоке масштабы борьбы и относительная бедность противоборствующих сторон в техническом отношении позволяли использовать кавалерию в несравненно большем объеме. Правда, этого-то сделать как раз и не удалось.
Напомним, что к началу мировой войны русская конница воспитывалась по устаревшим стандартам – как вполне самостоятельный род войск. Именно так русские кавалеристы воевали еще с Наполеоном. Что бы ни провозглашалось в уставах, однако на деле русская кавалерия вовсе не училась взаимодействию на поле боя с пехотой и артиллерией. Именно этим, то есть довоенной подготовкой конницы и косностью мысли ее начальников, и объясняется малое и, как правило, необоснованное использование кавалерии в годы войны. Первоначально, в маневренный период войны, конница служила для войсковой разведки, но и тогда неприятельская завеса настолько плотно закрывала свое расположение, что усилия кавалеристов оказывались тщетными. Авиация годилась гораздо больше. Что же касается боя… Сознавая непригодность конного удара по противнику непосредственно на поле боя, а также и не умея использовать кавалерию в качестве средства развития успеха в оперативном масштабе, русские военачальники предпочитали использовать конников либо как ездящую пехоту, либо не использовать вовсе, держа кавалерийские дивизии в качестве резерва.
Все успехи кавалеристов выпадали на долю небольших подразделений – до полка. Конные атаки на опешившую неприятельскую пехоту, а также несколько дивизионных кавалерийских боев с австрийцами не изменяют общей картины: ни дивизии, ни тем более конные корпуса ничем особенно выдающимся себя не проявили. По крайней мере, в том смысле, что могли бы иметь в случае более правильного тактического и оперативного применения конницы в общеармейских операциях. Громадные (относительно общих представлений, разумеется) конные группы ген. Г. Хана Нахичеванского в Восточной Пруссии в 1914 году или ген. В.А. Орановского под Свенцянами в 1915 году особенного успеха также не имели.
Теперь же, в 1916 году, замыслив широкомасштабный прорыв неприятельской обороны на Востоке усилиями трех русских фронтов, русское командование намеревалось исправить прошлые ошибки. Начальник штаба Верховного Главнокомандующего ген. М.В. Алексеев планировал после производства прорыва бросить в него конные массы. Ведь кавалерия еще сохраняла в своем составе кадровых солдат и офицеров, в отличие от пехоты, где кадровые офицеры занимали должности не ниже батальонных командиров, а кадровые нижние чины были чрезвычайно редки. Не являясь специалистом в использовании конницы, генерал Алексеев отдал подготовку развития успеха в прорыве в компетенцию фронтов. Про войска Западного (ген. А.Е. Эверт) и Северного (ген. А.Н. Куропаткин) фронтов и говорить нечего: там вовсе ничего не сделали. Армии Северного фронта вели локальные бои, а прорыв армий Западного фронта под Барановичами провалился. Таким образом, применительно к кампании 1916 года следует говорить только о Юго-Западном фронте (ген. А.А. Брусилов), чьи армии достигли выдающегося успеха в Луцком (Брусиловском) прорыве.
Общая численность конницы Юго-Западного фронта к моменту майского наступления достигала внушительной цифры в более чем шестьдесят тысяч сабель – до половины всей конницы Действующей армии. Сосредоточение половины русской кавалерии на Юго-Западном фронте обусловливалось прежде всего условиями местности. Северный фронт должен был наступать в болотах и узких дефиле, где применение больших конных масс было по определению невозможно. Западный фронт наносил главный удар, для чего ему передавалась большая часть тяжелой артиллерии. В то же время армии Юго-Западного фронта располагались на широком фронте южнее Полесья, имели против себя более слабого по сравнению с немцами противника – австрийцев. Кроме того, главнокомандующий армий Юго-Западного фронта сам был кавалеристом. Надо сказать и то, что два кавалерийских корпуса генерала Брусилова располагались на стыке двух фронтов, закрывая географически неудобный «провал» Полесья.
Австрийцы могли противопоставить войскам Брусилова около двадцати семи тысяч сабель. Таким образом, русские имели более чем двукратное превосходство над противником в коннице, что позволяло с успехом использовать кавалерийские корпуса после вероятного успеха в прорыве неприятельской обороны. Конечно, производя этот подсчет, надо знать, что общая цифра складывается как из отдельной армейской конницы (корпуса и дивизии), так и войсковой конницы. Но в любом случае двукратный перевес русской стороны в саблях не подлежит сомнению. Как сказано, большая часть русской кавалерии была сведена в кавалерийские корпуса, а ряд более мелких кавалерийских подразделений находился в распоряжении корпусов и дивизий в качестве войсковой конницы. Кроме того, несколько кавалерийских дивизий находилось в резервах армий и фронта (12-я кавалерийская дивизия ген. барона К.-Г. Маннергейма). По армиям конница распределялась следующим образом:
– 8-я армия (ген. А.М. Каледин): 4-й кавалерийский корпус ген. Я.Ф. фон Гилленшмидта в составе 9000 шашек, 13 000 штыков, 112 пулеметов, 82 орудий. Также 8-й армии передавался 5-й кавалерийский корпус ген. Л.Н. Вельяшева в 6000 шашек, 1300 штыков, 31 пулемет. 12-я кавалерийская дивизия непосредственно перед ударом была передана из резерва фронта в резерв командарма-8. Всего в 8-й армии насчитывалось 23 000 шашек, считая и войсковую конницу;
– 11-я армия (ген. В.В. Сахаров): Заамурская пограничная конная дивизия ген. Г.П. Розалион-Сошальского в 4000 шашек. Всего в 11-й армии – 6000 шашек;
– 7-я армия (ген. Д.Г. Щербачев): 2-й кавалерийский корпус великого князя Михаила Александровича в 6000 шашек при 26 пулеметах и 20 орудиях. В резерве командарма-11 находилась 6-я Донская казачья дивизия ген. Г.Л. Пономарева. Всего в 7-й армии – 12 300 шашек;
–9-я армия (ген. П.А. Лечицкий): 3-й кавалерийский корпус ген. графа Ф.А Келлера в 11 000 шашек при 24 пулеметах и 20 орудиях. Резерв командарма-9 составляла Кавказская Туземная конная дивизия ген. князя Д.П. Багратиона. Всего в 9-й армии насчитывалось 19 000 шашек.
Все орудия в конных частях были легкими и, как правило, конными. Кроме того, как видно из перечисления конных частей, большую часть конницы получили фланговые армии – 8-я (северный фас) и 9-я (южный фас), – которые получали главные задачи. На плечи войск 8-й армии ложилась задача главного удара на Юго-Западном фронте. А войска 9-й армии своими успешными действиями должны были побудить Румынию вступить в войну на стороне Антанты. Таковы были задачи, поставленные перед фронтом Ставкой, и затем эти задачи были спущены вниз, в армии фронта.
Очевидно, что решающая роль в поддержке предстоящего прорыва отводилась той конной массе, что находилась в 8-й армии ген. A.M. Каледина. Прежде всего это относится к 4-му кавалерийскому корпусу ген. Я.Ф. Гилленшмидта. Состав 4-го кавкорпуса:
– к 22 мая в составе 8-й армии: 16-я кавалерийская дивизия ген. Н.Г. Володченко, 2-я казачья Сводная дивизия ген. П. Н. Краснова, 3-я Кавказская казачья дивизия ген. П.Л. Хелмицкого, 7-я кавалерийская дивизия ген. Ф.С. Рерберга. Общая численность: 9126 шашек, 13 272 штыка (+1128 в командах), 112 пулеметов, 82 орудия;
– к 19 июня в составе 3-й армии: 16-я кавалерийская, 3-я кавалерийская (ген. Е.А. Леонтович), 2-я казачья Сводная, Забайкальская казачья (ген. И.Д. Орлов), 3-я Кавказская казачья, 1-я Кубанская казачья (ген. А.Д. Кузьмин-Короваев) дивизии. Общая численность: 15 504 шашки, 2268 штыков в командах, 97 пулеметов, 54 орудия [293]293
Наступление Юго-Западного фронта в мае – июне 1916 года. Сборник документов империалистической войны. М. 1940. С. 518 – 523.
[Закрыть].
Организация прорыва неприятельской обороны в 8-й армии носила характер образования сильных групп на различных направлениях, объединенных общей целью. В качестве цели ставился захват мощного железнодорожного узла – Ковель, с намерением развития прорыва навстречу удару Западного фронта, который должен был совместно с армиями Северного фронта опрокинуть германцев и развивать наступательную операцию на виленском стратегическом направлении. Следовательно, захват Ковеля предполагался как промежуточный этап между достижениями тактической (уничтожение противостоящих сил противника на оборонительных линиях) и оперативной (развитие прорыва в Польшу) задач.
Ударная группа 8-й армии, получившая условное наименование Ровненской группы, состояла из 8-го армейского корпуса В.М. Драгомирова, 32-го корпуса ген. И.И. Федотова, 39-го корпуса ген. С.Ф. Стельницкого, 40-го корпуса ген. Н.А. Кашталинского. Эти войска должны были наступать на луцком направлении, используя наиболее удобную для удара местность, дабы затем выйти к Ковелю с юга. Для атаки непосредственно на Ковель сосредоточивалась группа ген. А.М. Зайончковского в составе 3-го армейского корпуса и 5-го кавалерийского корпуса. То есть очевидно, что конница должна была развивать успех прорыва 30-го армейского корпуса – одного из лучших корпусов русской Действующей армии. Еще севернее располагалась Сарненская группа – 4-й кавалерийский корпус ген. Я.Ф. фон Гилленшмидта, поддерживаемого 46-м армейским корпусом ген. Н.М. Истомина.
Казалось бы, что организация предстоящего прорыва являлась правильной. Ударная группа движется на Ковель обходом через Луцк, в то время как еще две группы, в каждой из которых сосредоточен армейский корпус и кавалерийский корпус, движутся на Ковель. Согласно замыслу штаба фронта конная масса должна была ударом на Ковель не только занять данный железнодорожный узел, но и выйти в тыл той разгромленной неприятельской группировке, что будет отброшена от Луцка, где наносится главный удар, к Ковелю. Однако все было не так просто. Дело в том, что сама по себе взятая конница не могла прорвать австро-венгерскую оборону. Кавалерия предназначалась для развития успеха после того, как тактическая зона неприятельских оборонительных рубежей будет прорвана и занята пехотой при поддержке артиллерии. Как видим, задача прорыва возлагалась на армейские корпуса (30-й и 46-й), а развитие прорыва – наг кавалерийские корпуса (4-й и 5-й).
Как указано, 4-й кавалерийский корпус ген. Я.Ф. фон Гилленшмидта, располагавшийся севернее Ковеля, поддерживался 46-м армейским корпусом ген. Н.М. Истомина. То есть формально все было правильно. Изюминка заключалась в слабом кадровом составе этой пехоты. В 46-й корпус входили второочередная 77-я пехотная дивизия ген. В.Г. Леонтьева, сильно разбавленная новобранцами после боев 1915 года. А также – только что образованная из ополченцев и новобранцев 100-я пехотная дивизия ген. С.И. Гаврилова. Более того – 100-я пехотная дивизия по численности являлась половинной, представляя собой одну бригаду.
И это еще не все. Подразделения 4-го кавалерийского корпуса вместе с 60-километровым участком фронта были переданы в состав 8-й армии тогда, когда план предстоящего наступления был уже разработан в штабе армии. Почему-то сейчас принято возлагать все ошибки и недочеты в организации прорыва на штаб фронта и лично генерала Брусилова, в то время как все успехи отдаются штабу 8-й армии и ее командующему генералу Каледину. Это несправедливо. Так, что касается кавалерии, то ген. A.M. Каледин, сам являвшийся кавалеристом и вступивший в войну начальником 12-й кавалерийской дивизии, был сторонником того мнения, что конница должна всего лишь навсего обеспечивать пассивный северный фланг армии – прямо напротив Ковеля.
Передача 8-й армии 4-го кавалерийского корпуса означала, что конная масса должна будет нанести свой удар по врагу. Поэтому 5-й кавалерийский корпус должен был наступать вслед за 4-м кавкорпусом, а также в конную группу (ее мы будем условно называть группой Гилленшмидта) были переданы пятьдесят дополнительных легких трехдюймовых орудий. Штаб фронта еще предполагал, что после успеха прорыва главной группы на луцком направлении тяжелая артиллерия, которой в войсках Юго-Западного фронта катастрофически не хватало, – 168 орудий на четыре армии, так как львиная доля тяжелых батарей была отдана Западному фронту ген. А.Е. Эверта, – будет переброшена в группу Гилленшмидта. Правда, этого так и не произошло.
Имела ли право на существование такая группировка конницы 8-й армии в Брусиловском прорыве? Ведь стоит напомнить, что приданная группе Гилленшмидта пехота была исключительно слаба, предварительной подготовки прорыва не проводилось, а тяжелая артиллерия отсутствовала. Так, участник войны, в будущем эмигрант-белогвардеец, являвшийся непримиримым врагом Советского Союза, Е.А. Месснер писал, что такая группировка явилась бессмысленной. Месснер указывал: «…планом генерала Брусилова, который хочется назвать невежественным уже потому, что главнокомандующий, располагая 13 кавалерийскими дивизиями, все 13 включает в ударные группы для атаки мощной и глубокой фортификационной системы, непосильной, может быть, и для пехоты». И далее он разъясняет подробно причину неудачи прорыва: «Прорыв фортификационной системы – дело артиллерийско-пехотное; коннице, неогневому роду войск, тут делать нечего. Ее можно приберечь для завершения битвы, когда пехота прорвется через всю фортификационную систему противника. Брусилов же забывал всю войну, что он общевойсковой (генеральный) полководец, и думал, как и в бытность свою корнетом, кавалерийским образом. Это – отличный образ военных мыслей, но для главнокомандующего фронта он не годится. Если в Черновицком сражении конница атаковала неприступные окопы, то это не значит, что план Брусилова был хорош – хороша была, изумительно хороша была конница. Нельзя также не удивиться постановкой конных дивизий в резерв Ровненской группы 8-й армии и ударных групп 7-й и 9-й армий. Их немыслимо было применить для поддержки атакующей пехоты, потому что коню не пройти в лабиринте траншей и ходов сообщения, да еще под напряженнейшим вражеским огнем. А если употребить эти конные дивизии в спешенном виде, то их огневая и ударная сила будет так незначительна, что в позиционном сражении роли большой не сыграет» [294]294
Хочешь мира, победи мятеж-войну! Творческое наследие Е. Э. Месснера. М., 2005. С. 516 – 518.
[Закрыть].
Как видим, вновь главная вина сваливается исключительно на ген. А.А. Брусилова, в чем, несомненно, есть своя немалая доля истины. Но нельзя забывать, что и командармы отводили кавалерийские дивизии в резерв, не веря в успех развития прорыва конной массой. Именно командармы усадили конницу в окопы, прикрывая оголявшиеся участки фронта, так как пехота сосредоточивалась на решающих направлениях атаки, чтобы получить решительный численный перевес над противостоящим противником. Здесь вина за неумелое использование кавалерии – общая.
Напротив, именно штаб Юго-Западного фронта, передав 4-й кавалерийский корпус 8-й армии, последовательно настаивал на производстве прорыва и на этом участке, который должен был ведь организовывать не Брусилов, а штаб 8-й армии. Повторимся, что коман-дарм-8 ген. А.М. Каледин вообще не предусматривал использование конницы в прорыве,' отводя ей роль прикрытия северного фаса армейской линии. Таким же образом, кстати говоря, поступил командарм-9 ген. П.А. Лечицкий, отправив 3-й кавалерийский корпус в окопы напротив Черновиц.
Другое дело, что, настаивая на вводе большой конной массы в сражение, главкоюз должен был лично проконтролировать разрешение этой проблемы и провести надлежащую группировку конницы 8-й армии, раз уж командарм-8 не желал использовать конницу по ее прямому назначению – вводу в прорыв. Этого-то ген. А.А. Брусилов не сделал, ограничившись общими указаниями и даже больше того – отдав приказ об ударе конной массой по предварительно не разрушенной пехотой обороне врага. Такой подход не мог принести успеха. Кавалерия не может стать средством прорыва укрепленной полосы. Ее роль – средство развития такого прорыва. Давление на фланги отступающих частей противника должно перемалывать его войска и дробить сопротивление на отдельные очаги. То есть локализация до подхода своей пехоты. В любом случае прорыв конницы есть великий моральный фактор окончательного поражения врага, так как один только вопль далеко в тылу «Казаки!» способен заставить обозы побежать и забить дороги для своих отходящих войск. Для войск же главное – психологическое ощущение постоянного присутствия на фланге конницы врага, с глубоким заходом ее в тыловую зону. А в русской армии конница применялась как средство проведения редких и ограниченных по своим результатам контратак узко тактических задач.
Действительно, многочисленная конница 8-й армии – два кавалерийских корпуса – была сосредоточена на отшибе от главных сил, в стороне от атаки главной группы, на неудобной для прорыва местности. И это в то время, как конница была так нужна в центре, где австрийцы бежали, бросая оружие, и требовалось только добить бегущего неприятеля, введя в прорыв большие конные массы. Просто корпус генерала Гилленшмидта предназначался не для преследования, а для организации прорыва без поддержки тяжелой артиллерии, сквозь неприятельские позиции, укреплявшиеся восемь месяцев! Между тем уже впоследствии, в 30-е годы, было установлено, что прорыв укрепленных полос противника, насыщенных артиллерией и пулеметными точками, невозможен даже посредством легких танков. Что уж говорить о коннице!
Поэтому атака 4-го кавалерийского корпуса, в принципе, и не могла удаться. Безусловно, главкоюз ген. А.А. Брусилов постарался насытить группу ген. Я.Ф. фон Гилленшмидта пехотой – тринадцать тысяч штыков – это почти целая пехотная дивизия! Плюс 46-й армейский корпус, пусть и слабого состава. Однако генерал Брусилов не дал главного – средств для непосредственного производства прорыва: должного количества батарей, в том числе тяжелых. Легкие орудия не смогли проделать в обороне противника надлежащих брешей, и потому удар дивизий 4-го кавалерийского корпуса захлебнулся, несмотря на тот факт, что неприятельские окопы защищались спешенными кавалеристами венгерской конницы и польскими легионерами.
Действительно, штаб фронта рассчитывал, что успех конного удара будет возможен еще и потому, что противостоящая русским линия обороны занималась спешенной конницей и поляками Ю. Пилсудского. Русские были уверены в малой устойчивости войск Польского Легиона, а в 1916 году дополнительно к пехотным бригадам были сформированы еще и два уланских полка. На данную точку зрения влияло и то обстоятельство, что в 1916 году Польский Легион комплектовался преимущественно из русских подданных польской национальности. Тем не менее поляки проявили себя упорными бойцами. Ведь австрийцы обещали много, а вот смогли бы они реализовать свои обещания полякам, уже оказавшись в экономической и политической зависимости от Германии, которая не торопилась с обещаниями.
Всего противник имел на противостоящем русскому 4-му кавалерийскому корпусу участке 1, 9 и 11-ю кавалерийские дивизии, а также Польский Легион. Укрепленная полоса здесь состояла из трех линий траншей с тремя полосами проволочных заграждений по четыре ряда кольев, а также фугасы. На наиболее опасных участках окопы были усилены несколькими бетонными капонирами для пулеметов и противоштурмовых 57-мм орудий. Откуда же взялось столько огневой мощи у этих спешенных кавалерийских дивизий, оказавших русским надлежащий отпор? Ответ прост: в ходе боев 1916 года австрийским кавалерийским дивизиям придавались пехотные батальоны и даже целые полки. Это при том, что созданные еще в 1915 году при кавалерийских дивизиях стрелковые дивизионы (из спешенных конников) как раз в 1916 году были развернуты в стрелковые полки. Русская разведка отмечала, что у неприятеля «кавалерийские дивизии в рассматриваемый период превратились в полупехотные путем не только разворачивания стрелковых дивизионов в полки, но и придачи кавалерийским дивизиям пехотных батальонов и даже полков. Подобно пехотным дивизиям, и кавалерийские теперь входят в состав корпусов (армейских и конных)» [295]295
Боевое расписание австро-венгерской армии к 18 августа 1916 г. Б.м., 1916. С. 106.
[Закрыть]. Например, в 4-ю кавалерийскую гонведную дивизию графа Маренци был включен 3-й босно-герцеговинский полк, в 7-ю кавалерийскую дивизию генерала Мицевски – 16-й ландверный полк.
Соотношение сил на участке прорыва группы Гилленшмидта: русские – 14 400 штыков и 6526 сабель против 27 500 штыков и 9700 сабель. Поэтому в 4-й кавалерийский корпус к моменту наступления передали 3-ю Кавказскую казачью дивизию и 7-ю кавалерийскую дивизию. Также сюда же был переброшен 46-й армейский корпус, южнее которого находился 5-й кавалерийский корпус. Как видим, русские не имели решительного перевеса в силах и средствах, чтобы конница смогла бы прорвать неприятельскую оборону.
Необходимо сказать несколько слов о создании группировки. Еще на совещании командармов в Волочиске 5 апреля главкоюз ген. А.А. Брусилов указал (правда, последним пунктом в обширном списке указаний): «В прорыв, образовавшийся после атаки, надлежит пускать конницу, не считаясь с потерями, и направить ее в глубокий тыл противника, где конница найдет широкое поле для использования своих боевых качеств при действиях массами» [296]296
Цит. по: Луцкий прорыв. Труды и материалы. М.г 1924. С. 239.
[Закрыть]. 15 апреля командарм-8 представил генералу Брусилову оперативный план атаки 8-й армии. Согласно этому плану правый фланг армии должен был обеспечивать атаку по центру на Луцк, оставаясь в стороне от общего наступления. Главкоюз остался недоволен тем, что 4-й кавалерийский корпус останется вне участия в наступлении, и потому, как говорилось выше, усилил корпус еще двумя кавалерийскими дивизиями. А для поддержки сюда же был направлен 46-й армейский корпус. Затем к группе Гилленшмидта был подтянут и 5-й кавалерийский корпус.