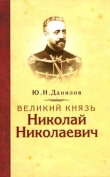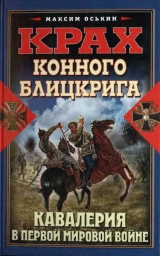
Текст книги "Крах конного блицкрига. Кавалерия в Первой мировой войне"
Автор книги: Максим Оськин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 27 страниц)
На наш взгляд, М. Галактионов не прав в своем выводе относительно целесообразности образования конной армии. Действительно, действия кавалерии на поле боя против неприятельской пехоты в конном строю вели к неоправданно большим потерям. А спешивание кавалерии, фактически – использование конников в качестве ездящей пехоты, вело к потере темпов операции, и здесь лучше было бы использовать пехоту. М. Галактионовым недооцениваются два фактора. Первый и неглавный – психологический. Само только наличие сильной кавалерии, нависающей над оборонительным флангом, в период маневренной войны (каковая и была во Франции в первые три месяца), само по себе дезорганизует пехоту. Причем – даже стойкую пехоту. А ведь англо-французы были разбиты в пограничном сражении, потерпели ряд неудач в период отступления к Марне и вообще ничего не могли противопоставить неумолимому «катку» 1, 2 и 3-й германских армий, вплоть до образования Парижской группировки и переброски немцами двух корпусов на Восточный фронт после Гумбиннена.
Иными словами, в августе 1914 года французская пехота была в какой-то мере подломлена психологически серией поражений. Заслуга французского главнокомандующего ген. Ж. Жоффра, не только своевременно свершившего перегруппировку, но и переломившего пассивные настроения (французы готовились даже сдать Париж!), велика. А будь у немцев на крайнем заходящем фланге еще и конница в десять дивизий – более тридцати тысяч сабель? После одного из боев в Восточной Пруссии русский поэт Н.С. Гумилев писал: «Теперь я понял, почему кавалеристы так мечтают об атаках. Налететь на людей, которые, запрятавшись в кустах и окопах, безопасно расстреливают издали видных всадников, заставить их бледнеть от все учащающегося топота копыт, от сверкания обнаженных шашек, грозного вида наклоненных пик, своей стремительностью легко опрокинуть, точно сдунуть, втрое сильнейшего противника, это – единственное оправдание всей жизни кавалериста» [176]176
Гумилев Н.С.Записки кавалериста. Омск, 1991. С. 16.
[Закрыть].
Психологический фактор на войне всегда велик. И маневренное средство ведения боя всегда ужасно неумолимостью и быстротой темпов своего удара. Участник войны пишет: «Существенными особенностями, выгодно отличающими конницу от пехоты, в отношении способности к накапливанию моральной силы, являются большая скорость ее движения, дающая ей инициативу действий,и сохранение благодаря наличию боевого коня физической силы бойцов-всадников, обеспечивающей им тем самым и известный импульс морального характера» [177]177
Гатовский В.Н.Конница. М.-Л.г 1927. Кн. 1. С. 18.
[Закрыть]. Хорошая конница всегда навязывает пехоте свою маневренную инициативу. Хотя бы уже вследствие своей скорости на поле боя и вне его.
Действительно, спешенная конница чрезвычайно слаба. О неудобстве ведения боя спешенной конницей участник войны справедливо сообщает: «…когда массы конницы наслаивались на сравнительно небольшом пространстве, лишаясь вследствие этого своего главного преимущества: способности к быстрому маневру. Спешиваясь на узком фронте, коннице трудно состязаться с пехотой, так как спешенная дивизия по числу ружей могла дать только один-два батальона, которые при том стеснены в своем тылу тысячами лошадей с коноводами» [178]178
См.: Суворов А.Н.Тактика в примерах. М, 1926. С. 286 – 287.
[Закрыть]. То есть военачальник не должен допустить главной ошибки – использования кавалерии как ездящей пехоты. Бесспорно, что конница имеет меньшую по сравнению с пехотой огневую силу и высокую потребность в фураже. Для компенсации этого прежде всего необходимо придавать коннице подвижную пехоту, артиллерию и специально образуемые пулеметные команды. Во-вторых, использовать конницу в местности, где потребность в фураже может быть покрыта за счет местных средств.
Но в начале войны конница еще действовала без непосредственной придачи стрелковых подразделений и большого количества пулеметов. Поэтому ее роль заключалась в ведении оперативных действий: ударам по флангам и тылам противника. При этом не столько вступая в огневой бой с неприятельской пехотой, сколько растягивая угрожаемые фланги, дабы собственная пехота могла бы с меньшими потерями вклиниваться в ослабленную оборону противника. Конница – единственное маневренное средство оперативного уровня. Конница обеспечивает высокий темп наступления армий и фронтов в целом. Прорывы конницы на большую глубину позволяют экономить силы пехотинцев. Кавалерия мешает отступающему врагу восстанавливать фронт. При этом именно она формирует внешний фронт окружения отдельных группировок противника. Пехота же добивает обойденные кавалеристами очаги сопротивления.
Именно поэтому действующая на флангах армейских группировок кавалерия должна была иметь значительный состав – кавалерийские корпуса, а также не вступать в общевойсковой бой непосредственно на самом поле сражения. Конница должна угрозой флангу и тылу неприятеля заставить его ослабить фронт, что облегчит выполнение задачи собственной пехоте и артиллерии. Кроме того, конница должна быть всегда готова к удару в тыл расстроенного противника (германская 1-я кавалерийская дивизия под Гумбинненом), довершая его поражение. И если этого не удавалось осуществить в значительном масштабе, то потому, что конница не готовилась к таким действиям до войны, а затем борьба перетекла в позиционную фазу. Советский исследователь пишет: «…Несмотря на все неудачи, опыт маневренного периода войны совершенно отчетливо выявил, что фланговый удар, завершающийся окружением противника, является сильнейшей формой оперативного маневра, и если он не удавался, то причина этого, во всяком случае, была не в существе этого маневра. Основной причиной неудачи операции на окружение в кампаниях 1914 и 1915 гг. было недостаточное превосходство в силах наступающего и отсутствие такого подвижного средства борьбы, которое позволило бы, преодолевая возможное сопротивление, выполнить маневр окружения раньше, чем противник организует контрманевр. Единственным подвижным родом войск того времени была конница, которая не имела вооружения, отвечающего требованиям подобного рода маневра, была плохо подготовлена для его выполнения в широком размахе, оперативно неправильно использовалась и часто плохо руководилась своими начальниками» [179]179
Таленский Н.А.Развитие оперативного искусства по опыту последних войн// Военная мысль, 1945, № 6 – 7. С. 18.
[Закрыть].
Ярким примером отвратительного вождения кавалерийских масс, причем неважно, какого размера, явились действия русской конницы в ходе завершающего этапа Лодзинской оборонительной операции ноября 1914 года. Как известно, в ходе этой операции германское командование, дабы остановить готовившееся русское вторжение в Познань с целью – Берлин, нанесло упреждающий фланговый удар от крепости Торн. Воспользовавшись перегруппировкой русских армий Северо-Западного фронта, приведшей к возникновению внутренних флангов между растянувшимися армиями, немцы бросились в стык между 2-й (ген. С.М. Шейдеман) и 1-й (ген. П.К. Ренненкампф) русскими армиями, имея целью окружение и уничтожение 2-й русской армии в Лодзи.
На острие 9-й германской армии ген. А. фон Макензена, осуществлявшей прорыв, шла группа ген. Р. фон Шеффера-Бояделя, разбросав в стороны русские заслоны; немцы вошли в прорыв, окружая 2-ю русскую армию. При этом пехота противника на первом этапе операции выигрывала темпы движения у русской кавалерии, так как русские командармы не сумели толковым образом распорядиться действиями вверенной им конницы: «Невольно приходишь к выводу: как только крупные силы конницы попадали в армию, которой командовал «коренной» кавалерист, то она, конница, использовалась не в соответствии с ее ролью и назначением. Такие «завзятые кавалеристы», как командующий 2-й армией генерал Шейдеман, стремились использовать конницу в основном на поле боя, не понимая ее превалирующего значения в оперативном маневре… Факты свидетельствуют, что наше высокое начальство не понимало роли конницы в боевых операциях 1914 года… [Генерал Шейдеман] стремился возложить на конницу решение задач не в оперативном просторе. Тактические же задачи одна конница, без поддержки пехоты, решить не могла: у нее не хватало сил» [180]180
Шапошников Б.М.Воспоминания. Военно-научные труды. М., 1982. С. 344, 352 – 353.
[Закрыть].
В ходе ожесточенных боев группа Шеффера сумела почти окружить 2-ю русскую армию, которая оказалась заперта в Лодзи и получила приказ во что бы то ни стало удерживаться на своих позициях, так как Ставка справедливо опасалась, что приказ об отходе приведет ко всеобщему бегству и разгрому. К счастью русских, у немцев не хватало сил: вся группа Шеффера насчитывала около пятидесяти тысяч штыков и сабель, а ведь ей предстояло не только окружить одну русскую армию, но и удержать внешний фронт окружения от контрнаступления другой русской армии. В ходе деблокирующих ударов германскому командованию стало ясно, что уничтожить 2-ю русскую армию не удастся, а так как русское широкомасштабное наступление было сорвано, то генерал Шеффер получил приказ на прорыв к своим.
В ходе преследования группы Шеффера по русским тылам был создан импровизированный Ловичский отряд, который шел вслед за прорывающимися немцами. Ясно, что впереди прочих продвигалась кавалерия: 1-й кавалерийский корпус ген. А.В. Новикова (8-я и 14-я кавалерийские дивизии) и 5-якавалерийская дивизия ген. А.А. Морица. С флангов окружение группы Шеффера должны были замкнуть 1-я гвардейская кавалерийская дивизия ген. Н.Н. Казнакова и Кавказская кавалерийская дивизия ген. Г.Р. Шарпантье. Однако сам же ко-мандарм-2 уже после войны заметил, что «приемы использования конницы, уменье поставить ей определенные задачи и настоять на выполнении ихне были у нас в достаточной мере выработаны. С другой стороны, надо сознаться, что для талантливого выполнения этих задач, для «вождения конницы» у нас было мало подготовленных начальников. Мы по-прежнему, как в Турецкую и Японскую войны, отстали в этом деле. А между тем от правильного употребления и талантливого вождения конницы зависит в значительной мере успех дела. Нужны полководцы, понимающие первое, и кавалерийские начальники, усвоившие второе» [181]181
Шейдеман С.М.Стратегическая деятельность конницы на театре военных действий. М., 1921. С. 5.
[Закрыть].
Отметим, что вслед за каждым конным соединением спешила пехота, и в случае затяжного боя она успевала подойти на место боя. Иными словами, конница должна была остановить прорывающихся немцев на срок не более суток, чтобы успели подойти армейские корпуса 1-й и 5-й армий и раздавить противника.
Несмотря на тот факт, что к 11 ноября 1914 года группа Шеффера насчитывала всего около шести тысяч штыков и сабель, многочисленная русская кавалерия позволила противнику не только выйти из «мешка». По пути прорыва немцы разбили 6-ю Сибирскую стрелковую дивизию, а затем вывели за собой в качестве трофеев шестнадцать тысяч русских пленных и несколько десятков орудий. Все это время – пока германцы прорывались, пока громили сибиряков, пока выводили трофеи – русская конница пассивно созерцала происходящее. В качестве оправдания кавалерийские начальники выдвинули то обстоятельство, что конница не может атаковать подготовившуюся к бою и усиленную пулеметами пехоту. Кто мешал атаковать внезапно и неожиданно для противника? Генерал Шейдеман, чьи войска в Лодзинской операции деблокировала кавалерия, пишет: «Успех неожиданного нападения конницы основывается главным образом на впечатлении ужаса, которое производит на неготового к бою противника внезапная. А иногда и веденная в темноте атака, когда, как показывает опыт, силы атакующего представляются преувеличенно большими и когда обороняющемуся приходится отражать нападение и исправлять его последствия, находясь еще под его ошеломляющим впечатлением». По замечанию Н.С. Гумилева, «пехота в походном порядке, не подозревающая о присутствии неприятельской кавалерии, – ее добыча» [182]182
Гумилев Н.С.Записки кавалериста. Омск, 1991. С. 201.
[Закрыть].
Конечно, атака конницы на пулеметы, как правило, бессмысленна. Однако кто же мешал русской кавалерии ударить по врагу, когда тот находился на марше? Суть отказа русской конницы от атаки заключался в вопиющем консерватизме кавалерийских командиров. Приведем пример из предвоенных маневров 1910 года. Эскадрон С. Гребенщикова неожиданно ударил на двигавшуюся без охранения пехоту условного противника с двухсот шагов. При пехоте находился пулемет, который успели снять с передка за несколько секунд до столкновения. Пехотинцы успели дать лишь несколько выстрелов. Однако часть посредников стала настаивать на том, что открытая конная атака на пулемет невозможна, а потому эскадрон потерпел поражение, будучи по большей части уничтоженным. Возмущенный рутинерством офицер писал в военной печати: «Хотя признано, что огонь пулемета для атакующей пехоты почти невыносим, но, мне кажется, считать из-за этого кавалерийскую атаку на пулеметы невозможной, будет уже слишком осторожно. Стрелять по медленно двигающейся пехоте и по несущейся коннице – это большая разница». С. Гребенщиков справедливо заметил, что нельзя атаковать издалека на уже установленные и готовые к боюпулеметы. Однако внезапный удар на двигающиеся пулеметы при слабом пехотном прикрытии просто необходим. «На маневрах мы должны учиться тому, что мы должны будем делать на войне. Если же посредники… будут всегда приговаривать конницу к бездействию даже за атаки, произведенные чуть ли не с места в карьер, то это приучит более или менее осторожных кавалерийских начальников к тому, что на войне они будут упускать самые удобные случаи для атак, отговариваясь или оправдываясь тем, что среди пехотной колонны или цепи находилось чудовище, именуемое пулеметом… Было бы крайне полезно как для конницы, так и для пехоты, если бы в инструкции для посредников было точно и определенно указано, что атаки конницы на пехоту и пулеметы, произведенные внезапно, то есть с 200 – 500 шагов, в рассыпном строю и соответствующим аллюром, то есть полным карьером, должны признаваться безусловно успешными и вполне возможными; пехоту это заставит лучше нести охранную службу, а кавалерии даст толчок к более энергичным действиям» [183]183
См.: Вестник русской конницы, 1910, № 4. С. 166 – 167.
[Закрыть].
Сделанные в 1910 году офицером С. Гребенщиковым выводы по результатам маневров в точности описывают ту ситуацию, что сложилась в ходе Лодзинской оборонительной операции ноября 1914 года. Повторимся, что практический итог такого рутинерства в данном случае – выход из «мешка» группы Шеффера с трофеями – 16 000 пленных и около 60 орудий! А ведь суть успеха прорыва немцев в том, что русская конница не была объединена в крупную кавалерийскую единицу (корпус) во главе с толковым командиром. Первые кавалерийские корпуса постоянного состава (то есть не переподчинение одних дивизий другим для выполнения той или иной малой задачи) будут образованы лишь зимой 1915 года в Карпатах.
Германский участник войны справедливо пишет, что существует два основных момента в боевой деятельности конницы: «…применение конницы в массах, что одно только обещает крупные успехи, и способность конницы вступать в бой непосредственно с похода, что обеспечивает всестороннее и полное использование ее быстроты и подвижности» [184]184
Брандт Г.Современная конница. М., 1936. С. 10.
[Закрыть]. Как кажется, данный тезис явится применимым скорее к наступательным действиям. Однако первый русский кавалерийский корпус импровизированного характера был образован в ходе отступления. Конная группа ген. Г. Хана Нахичеванского в Восточно-Прусской наступательной операции предполагалась еще до войны в качестве ударного средства относительно небольшой Неманской (1-й) армии Северо-Западного фронта. Практика войны показала, что кавалерийские дивизии не имеют возможности для выполнения оперативных задач, и потому необходимо их объединение в кавалерийские корпуса – то есть в те самые войсковые единицы, что были расформированы незадолго до войны.
1-й кавалерийский корпус, правда, еще не получивший официального оформления, был образован уже в сентябре 1914 года, сразу по окончании Галицийской битвы, из шести кавалерийских дивизий Юго-Западного фронта, действовавших на левом берегу Вислы. Парадоксальным образом причиной его образования стала задача сдерживания австро-германского контрнаступления на крепость Ивангород, долженствовавшее разорвать единство русского фронта в самом его слабом месте и опрокинуть русское наступательное планирование в отношении вторжения в Германию. Теория говорит, что «особенно желательно присутствие конницы за участком главного удара, где мы хотим нанести наибольшие потрясения врагу. После того как часть начальников в войсках неприятеля выбудет из строя, вся масса противника будет потрясена напряжением смертельной опасности: когда связь нарушается, то в настроении войск, в ведении ими боя наступает перелом. Если этот перелом немедленно использовать, то часть противника может быть целиком уничтожена, взята в плен и т.п. Если же такого положения не использовать немедленно, то командование врага будет в состоянии взять часть снова в руки, влить в нее свежие силы, новый комсостав и привести ее в порядок. Использовать минуту потрясения – дело конницы» [185]185
Верховский А.И.Общая тактика. М., 1927. С. 170.
[Закрыть]. Конница должна продвигаться вслед за наступающей пехотой на поле боя, причем держась свободного фланга боевого порядка. Однако же русскому командованию пришлось бросать кавалерию для преграждения неприятельского прорыва, дабы иметь возможность подтянуть к угрожаемому участку фронта (переправа через Вислу в районе крепости Ивангород) свою пехоту.
Кавалеристам генерала Новикова удалось выполнить эту задачу. С помощью подтягивавшихся на выручку частей пехоты, хотя и терпевшей поражения (например, отряд ген. П.А. Дельсаля), конница сумела немного сбить наступление 9-й германской армии. В итоге, когда передовые корпуса Гинденбурга вышли к Висле, комендант Ивангорода ген. А.В. Шварц уже получил пехотную поддержку. Все еще пытаясь переломить успех операции, Гинденбург бросил к Варшаве часть своих сил под командованием комкора-17 ген. А. фон Макензена, что заставило ген. А.В. Новикова разделить свой громадный корпус на две части. Три регулярные кавалерийские дивизии отступали к Ивангороду, а три казачьи дивизии – к Варшаве.
И вновь казаки сбивали темпы неприятельского порыва, позволив Ставке своевременно перебросить в столицу русской Польши Сибирские корпуса. Основное свойство кавалерии – подвижность в сочетании с маневром и широким применением кавалерийских масс. То есть «весь успех действий конницы поставлен в зависимость от уменья использовать элемент подвижности» [186]186
Баторский М.Служба конницы. М. 1925. С. 29 – 30.
[Закрыть]. Войска 4-й русской армии сдержали противника под Ивангородом, а 2-й армии – под Варшавой. Немцы не смогли переправиться через Вислу, а превосходство русских в живой силе стало причиной образования плацдармов и перехода русских армий в контрнаступление на левом берегу Вислы. Конница – представительница подвижности – имеет в маневренной войне все преимущества. Кавалерия перед фронтом наступающего противника вынуждает его развертываться в боевые порядки, что позволяет обороняющейся стороне выиграть время для переброски пехоты и артиллерии на угрожаемое направление. Как только противник подтягивал артиллерию, русская конница тотчас снималась с обороняемых позиций и отходила, занимая следующий рубеж – в паре десятков верст от предыдущего. И здесь все повторялось сначала.
Какого-то особенного ущерба австро-германцы, разумеется, не несли, так как огневая мощь кавалерийских дивизий довольно низка. Однако потеря времени перед каждым очередным импровизированным рубежом обороны, который занимала спешенная русская конница, предполагала выигрыш времени русскими для перегруппировки. Такой тактический прием – оборонительные действия кавалерии на широком фронте – получил наименование завесы: «Завеса является могучим органом в руках высшего командования, обеспечивающим наиболее беспрепятственное и скрытое сосредоточение войск в желаемом направлении, лишая противника возможности раскрыть наш маневр и встретить его соответствующим контрманевром» [187]187
Шейдеман С.М.Стратегическая деятельность конницы на театре военных действий. М. 1921. С. 6.
[Закрыть].
Поражение австро-германцев в ходе Варшавско-Ивангородской наступательной операции подразумевало организацию преследования. Правда, противник отходил в полном порядке, разрушая за собой инфраструктуру. Но в таком случае действия конницы на флангах тем более являлись безальтернативными, потому что для продвижения пехоты требовалось восстановить железнодорожную сеть, мосты, шоссе. К сожалению, как раз в преследовании русские кавалерийские начальники по ряду объективных и субъективных обстоятельств оказались подготовленными наиболее слабо. Участник войны писал: «Раз совместное действие конницы с другими родами войск на поле сражения почти невозможно, то кавалерия тогда окажется в состоянии принять участие в решении боевых операций,когда широко использует свою подвижность и силу огня. Сосредоточенная в больших массах на флангах,направляясь в обход этих флангов и в тыл, конница, отбросив встретившуюся кавалерию противника и широко используя свой огонь, должна отвлечь резервы последнего от участия в решительном бою» [188]188
См.: Военное дело. Сборник статей по военному искусству. М., 1920. Вып. 2. С. 138.
[Закрыть]. Сосредоточение на флангах конной массы было произведено. Но ни разу эта кавалерия не смогла добиться тех результатов своих действий, что вынудили бы противника приостановить свой отход. Тем более ни разу русская конница не смогла придержать отступавшего неприятеля на тот срок, что оказался бы достаточным для подхода к району сражения своей пехоты.
Таким образом, уже в Варшавско-Ивангородской операции отчетливо выявилось то противоречие, что было свойственно русской кавалерии в ходе всей войны. Во-первых, конница выше всяких похвал держалась в обороне, когда было необходимо прикрыть отступление армий, сбить темпы наступления противника, удержать какой-либо район до подхода общевойсковых соединений. Наиболее ярко такая сторона деятельности русской кавалерии сказалась в период Великого отступления 1915 года, когда на всем протяжении Восточного фронта в широких размерах применялась кавалерийская завеса, прикрывающая отход переутомленной тяжелыми многодневными боями пехоты. Небольшие конные отряды вполне могли придерживать движение значительных войсковых колонн противника, а также сдерживать конную разведку неприятеля. О сторожевом охранении в коннице Б.М. Шапошников пишет: «…Обычно это была застава силою в один взвод. Если учесть, что у взвода часть людей оставалась коноводами, то для отражения противника на заставе в лучшем случае было 15 – 16 винтовок. Таким образом, сторожевое охранение особой устойчивости не имело. Оно было скорее величиной морального порядка, нежели существенным огневым барьером. Однако через такое охранение все же не могли пробиться ни австрийские, ни немецкие разъезды. Объясняется это тоже чисто психологически. Если конный разъезд встречали ружейным огнем, то начальник разъезда в большинстве случаев решал, что он натолкнулся на пехоту, которая сильна огнем, и атаковать ее, в конном строю немыслимо. Так на это смотрели не только в австрийской и немецкой коннице, но и в русской» [189]189
Шапошников Б.М.Воспоминания. Военно-научные труды. М., 1982. С. 271.
[Закрыть].
Характерно, что придание кавалерии задачи арьергарда в отступлении стало обыденным явлением в самом начале Великого отступления – во время Горлицкой оборонительной операции апреля – мая. Также в ходе этой операции конница прикрывала то и дело оголявшиеся стыки между корпусами, которые с большими потерями отступали под ударами австро-германцев. Например, командарм-3 ген. Р.Д. Радко-Дмитриев, чьи войска вынесли на себе всю тяжесть поражения, 3 мая сообщал главнокомандующему армий Юго-Западного фронта ген. Н.И. Иванову: «Все кавалерийские дивизии вверенной мне армии в настоящее время совместно с ослабленными продолжительными боями частями пехоты непрерывно участвуют в боевых действиях. И в случае дальнейшего вынужденного отхода армии эти дивизии послужат единственной гарантией твердого, вполне упорядоченного отхода, особенно имея в виду присутствие перед фронтом армии неприятельской конницы» [190]190
Горлицкая операция. Сборник документов империалистической войны. М., 1941. С. 315.
[Закрыть].
Во-вторых, русская конница, как правило, не умела организовать преследование – то преследование, что должно было бы добивать надломленного поражением неприятеля. Иными словами, насколько хороша была русская кавалерия в обороне, настолько же малоприменима она оказалась в наступлении, и речь здесь идет, разумеется, об оперативных масштабах – действиях не менее дивизии. Кавалерия захватывает важные пункты и рубежи в тылу противника, чей оборонительный фронт рухнул под ударами общевойсковых армий. Разумеется, что захват местечек и железнодорожных узлов осуществляется в пешем строю. Прорыв кавалерии во вражеский тыл вынуждает противника вводить контратакующие соединения и резервы в бой по частям, по мере прибытия. Противник, следовательно, реагирует на наши действия, импровизирует, что вынуждает его делать ошибки уже при развертывании. Не зная дальнейшего направления действий нашей кавалерии при выходе ее на оперативный простор, инициатива принадлежит нам, и враг всегда реагирует на наши действия с некоторым запозданием.
Однако русские общевойсковые командиры привыкли, что кавалерия, участвующая в наступлении, должна быть подпираема с флангов наступающей рядом с ней пехотой. В итоге конница обращается в простой боевой участок общего фронта с пониженным боевым коэффициентом в силу слабости кавалерийской дивизии в простом фронтальном столкновении по сравнению с пехотным полком. А причина тому – в неумении использовать конницу в операции в качестве маневренной силы. Военачальники, ориентировавшиеся на довоенные маневры, привыкли, что конница в общевойсковом бою просто бросается в преследование уже в самом сражении. Не ударом через оголенный фланг в тыл, а просто, практически в лоб на пехотный и артиллерийский огонь пусть и потерпевшего поражение, но ведь еще не совершенно разгромленного противника. «Ошибочно возлагая на крупные соединения конницы преследование на поле сражения, русское командование и не видело такового от своих кавалерийских дивизий и корпусов. Не будучи в состоянии вследствие дальности и губительности современного огня располагаться за пехотными линиями для своевременного преследования противника, крупные соединения русской конницы опаздывали появиться на поле сражения… Крупные соединения конницы ведут оперативное преследование, наилучшее направление которого будет параллельное… Стараясь опередить отступающие колонны противника, конница должна остановить их и дать возможность уничтожить настигнувшей нашей пехоте» [191]191
См.: Военное дело. Сборник статей по военному искусству. М., 1920. Вып. 2. С. 142.
[Закрыть].
В отличие от русских и австрийцев, в оперативном отношении действовавших еще хуже русских, немцы умело применяли свою относительно немногочисленную конницу. При прорыве русского оборонительного фронта, как только немцы прорывались в глубь заблаговременно подготовленных рубежей, они старались тут же выбросить вперед конницу. Конные отряды стремились выйти на коммуникации русского отхода и своим порывом, смешанным с неожиданностью, остановить отходивших русских и пленить как можно больше людей. Данная тактика, в значительных масштабах являвшаяся, по сути, уже преддверием оперативного искусства, была взята немцами на вооружение из опыта русско-японской войны 1904 – 1905 гг. Прежде всего – Мукден. Если бы во время Мукденской операции, когда две русские армии из трех в панике катились к Харбину по Мандаринской дороге, японцы имели сильную конницу и бросили бы ее на пути русского отхода, то война была бы кончена одним ударом. Львиная доля русской группировки в Маньчжурии могла быть уничтожена только своевременным выходом в русский тыл сильной японской кавалерии. Другое дело, что японцы имели в Маньчжурии лишь несколько кавалерийских бригад слабого состава. Однако опыт есть опыт, и он должен был использоваться в Большой Европейской войне: «Немцы это постигли прекрасно, и все свои наступательные операции: Сольдау, Лодзь в 14-м году, Праснышскую и Цехановскую операции в феврале и июне 15-го года, Сморгонскую и т.п. они сопровождали решительными и весьма успешными действиями конницы в тыл противника» [192]192
Шейдеман С.М.Тактика конницы. М., 1920. С. 157.
[Закрыть].
Конечно, бывали и исключения – и в успехе фронтальных контратак, и в преследованиях. Например, во второй половине апреля 1915 года, во время боев на южном фасе Юго-Западного фронта, противоборствующие стороны старались обойти южный фланг противника. Австро-германцы намеревались развить успех Горлицкого прорыва, а русские стремились парировать поражение на северном фасе Юго-Западного фронта, победой на южном его фасе. В итоге, подобно «бегу к морю» 1914 года на Французском фронте, линии сторон растягивались все более и более. К середине месяца австрийцы сумели выйти к реке Онут и стали охватывать левый фланг 9-й армии ген. П.А. Лечицкого. Для контрудара был предназначен только что переброшенный в 9-ю армию с левого берега Вислы 3-й кавалерийский корпус ген. графа Ф.А. Келлера. В состав корпуса входили 10-я кавалерийская дивизия (с образованием конного корпуса на посту начдива графа Келлера сменил ген. В.Е. Марков) и 1-я Донская казачья дивизия (ген. Г.И. Чоглоков). В качестве резерва располагалась 1-я Терская казачья дивизия ген. Т.Д. Арютинова.
Дабы обеспечить успех, следовало бить по укрепившимся австрийцам (42-я гонведная пехотная дивизия), которые обеспечивали исходный район для возобновления флангового наступления. В течение 24 – 26 апреля конная артиллерия кавкорпуса (двадцать четыре легких орудия) непрестанно обстреливала австрийские позиции у Баламутовки и Ржавенцев, чтобы дать коннице возможность развернуться для удара. Здесь следует напомнить, что в огневом отношении 3-й кавалерийский корпус уступал противнику: одна кавалерийская дивизия по мощи ружейного огня равна одному пехотному батальону. Таким образом, только в ружейном огне русские уступали неприятелю на треть (австрийская дивизия – три батальона). Плюс нехватка боеприпасов у русских, плюс более сильная артиллерия у австрийцев. Выход мог быть только один: атака в конном строю с решительными целями. Для удара граф Келлер построил свои части в два эшелона: донцы как ударная группа и 10-я кавалерийская дивизия в качестве группы развития успеха. 27-го числа русские неожиданно перешли в атаку: казаки в конном строю прорвали неприятельскую оборону и погнали противника на запад. К австрийцам вовремя подошли резервы – польские «легионы», создаваемые под патронажем будущего президента независимой Польши Ю. Пилсудского, и генерал Келлер был вынужден ввести в дело второй эшелон. Всего русские ввели в дело девяносто конных сотен и эскадронов. Упорная борьба перед австрийскими позициями завершилась днем 28 апреля, когда противник был сломлен непрестанными конными атаками и побежал. Преследование велось двое суток, вплоть до реки Прут. Сюда же подошла пехота, закрепившаяся на занятых рубежах. Только на самих австро-венгерских позициях во время прорыва трофеями русских стали почти три тысячи пленных, в том числе до двухсот офицеров [193]193
Соколов Т.И.Боевые действия конницы. М. 1940. С. 76.
[Закрыть]. Это контрнаступление получило название Заднестровского сражения.