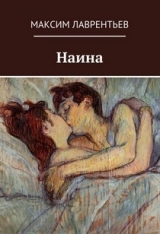
Текст книги "Наина (СИ)"
Автор книги: Максим Лаврентьев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 9 страниц)
Максим Лаврентьев
НАИНА
Роман
Дай-ка мне твою задницу, и я переверну мир!
Из приписываемого Архимеду.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Я люблю и ненавижу Литературный институт. Его обшарпанные и пыльные стены, проваливающиеся в подвал скрипучие полы его аудиторий, сквозняки на узких лестницах и в коридорах, его казенную, как тюремная роба, историю, умещающуюся в трех предложениях: «Был организован по решению…», «В разные годы преподавали…», «Среди выпускников...».
В джунглях Юго-Восточной Азии есть индуистский храм Та Прохм, сквозь стены которого, сдвинув камни, проросли гигантские, невиданные в северных широтах фикусы. Вот так и Литинститут оплел, охватил и сдавил своими чудовищными корнями старинный особняк на Тверском бульваре. Издалека, с бульвара, загазованного и оглушенного мчащимися по обе его стороны машинами, непосвященный прохожий, будь то заезжий театрал или просто какой-нибудь дурак, завернувший сюда со Спиридоновки, ничего необычного, разумеется, не разглядит, не почувствует и не угадает в этом двухэтажном доме с памятником во дворе одному из прежних жильцов, неузнаваемому Герцену.
В первый раз, набравшись смелости, я вошел под внутренние фанфары в распахнутые решетчатые ворота бывшего дворянского особняка осенью девяноста пятого года – я искал приемную комиссию. Комиссия, как выяснилось, помещалась в небольшой комнате на первом этаже левого флигеля. Той осенью я вообще впервые, так сказать, сунул голову в пасть литературы – прочитав объявление в газете, записался на платный семинар известного советского поэта-песенника, отвез стихи в редакцию журнала «Юность» на Триумфальной площади, получил там приглашение в Центральный Дом литераторов на Совещание молодых писателей, – одним словом, приобщился. Ни пьяное сборище писак, ни публикация моих стихов в рубрике «Задворки», ни совет редактора поступать на филфак МГУ («только там дают нормальное образование») не сбили мне прицел – в нем по-прежнему маячило родовое гнездо Герцена на Тверском, куда я собирался впорхнуть сперва на кукушечьих правах слушателя подготовительных курсов.
Итак, я нашел комиссию, подал заявление вместе с кипой рифмованного абсурда (для допуска к экзаменам нужно было еще пройти так называемый творческий конкурс) и в ожидании однозначного, как мне казалось, вердикта записался на платные курсы. Занятия должны были начаться в феврале. Оставшееся время я, как обычно, слонялся по улицам, что-то сочинял или играл заполночь на дребезжащем фортепиано в цокольном этаже библиотеки Тимирязевской сельхозакадемии, куда меня, как перспективную творческую личность, устроили по знакомству работать ночным сторожем.
Летели дни, летели с полок долой штудируемые романы Толстого и Достоевского (в школе, вместо того чтобы читать по программе, я неплохо поиграл в баскетбол), летел и падал снег, заваливая соседний с библиотекой парк, и мне казалось, что я – нежданное, но вполне законное Аполлоново дитя в суровой стране гипербореев, еще неведомый избранник.
В феврале начались занятия – по нескольку лекций два-три дня в неделю. Ничего особенного, разве только однажды мужчина-лектор в клетчатом пиджаке виртуозно «разобрал по косточкам» небольшое стихотворение Тютчева, да еще в другой раз пришел тогдашний ректор, сильно навеселе, вызвал в коридор пожилую лекторшу и с силой, сдирая кожу, насадил ей на кисть руки деревянный браслет – подарок на Восьмое марта.
Я сидел на последних рядах, слушал вполуха, – мое внимание больше привлекали «стены» – актовый зал с хрустальной люстрой, особенно роскошной среди общей нищеты и неустроенности, обшитая деревом и обклеенная советскими лозунгами учебная аудитория на втором этаже. Ну и, конечно, другие «подготовишки». Видя, как в перерывах они кучкуются под лестницей, где было устроено место для перекура – несколько просиженных кресел и огромная заплеванная урна, я очень хотел заинтересовать их своей персоной, но из робости пополам с чувством внутреннего превосходства (О, это проклятье, проклятье мое!) держался особняком.
Маша сама подошла ко мне, курившему, забравшись с ногами на подоконник, в конце коридора и строившему из себя, черт знает кого.
За пять минут до этого случился небольшой международный конфуз: под лестницу завернули какие-то дорого одетые люди, закашлялись от дыма, ошарашено глянули на курящих, потом на стены и потолок со свисающими с него горелыми спичками (мы забавы ради поджигали эти спички, бросали их вверх и они приклеивались к штукатурке), полопотали что-то по-иностранному и удалились. Через мгновение нас уже распекал выросший как из-под земли ректор: «Что же вы, сукины дети? Это же были потомки Герцена – специально приехали из-за границы особняк посмотреть, а тут…».
Машу я навсегда запомнил такой – крепко сбитая, небольшого роста девица, с красными от выпитого винца пухлыми щечками, с густой и жесткой, как медвежья шкура, шевелюрой. Она пускала табачный дым, подобно заводской трубе, и пила спиртное, словно юная медведица, пришедшая за тридевять земель к водопою. Об этой последней ее особенности узнал я через несколько дней, когда навестил новую знакомую в просторной профессорской квартире на Ленинском проспекте – она жила там с мамой, вечно раздраженной ее поведением, и двумя малосимпатичными собаками. Запершись в Машиной комнате, мы курили, глотали шампанское и водку, заедая мороженым, читали друг другу вслух «Слово о полку Игореве» в переложении Заболоцкого, а потом, после неловкого объяснения, начали целоваться – как-то очень по-медвежьи, да еще то и дело захлебываясь пьяным и глупым смехом.
Маша была моложе меня на три года, собиралась поступить на семинар критики, мечтала писать о театре. Она не была влюблена, просто я показался ей подходящим для первого поцелуя – ведь даже очень крепко пьющая девушка в глубине души всегда остается трепетным романтиком. То, что я оказался неопытным даже и в этом отношении, несколько охладило ее пыл, но тут уж я, одержимый той же целью, сделал на нетвердых ногах шаг навстречу.
Вскоре весна полностью вступила в свои права – снег исчез с улиц, солнце вовсю светило и грело, и можно было часами стоять у парапета набережной Москвы-реки, не опасаясь застудиться от близкой воды, и целоваться, целоваться, целоваться взасос, до распухших и раскрасневшихся, как пьяная вишня, губ.
Ни разу еще с тех пор, как мама вынимала меня из ванны, вытирала и, отнеся в комнату, укладывала спать, я не был настолько близок с женщиной. Лавина манящих, тревожащих, таинственных девичьих запахов обрушивалась на меня, смешиваясь то с пронзительной сыростью на Болотной площади, то с удушливой гарью за Крымским мостом, то с ароматом едва раскрывшихся почек в аллеях Нескучного сада. И тогда мое тело стало реагировать соответствующим образом. Сперва я чувствовал ужасное желание – между ног у меня все напрягалось так, словно там пущен электрический ток, затем, после часа-другого объятий и поцелуев, мой рубильник опускался в положение «выкл», но спустя некоторое время, обычно когда я уже возвращался со свидания домой, начинало ныть в паху. Понять причину этой боли я был не в состоянии. Временами мне казалось, что я мог через поцелуи заразиться какой-нибудь венерической болезнью, и тогда я проклинал Машу с ее вечно вожделеющим ртом.
Вдруг все закончилось. Помню, как мы на прогулке повздорили по незначительному поводу. В вестибюле метро Маша первая прошла через турникет, обернулась ко мне и сказала, что между нами ничего больше быть не может. И ушла. Стоя как баран перед турникетом, в первую минуту я испытал недоумение. За что? Из-за чего? Но при более широком взгляде на вещи становилось очевидным, что и впрямь ничего больше у нас Машей не может быть. Девушка расчетливая и, когда надо, трезво мыслящая, Маша рассудила верно: требовать с меня что-то еще кроме полудетских шалостей преждевременно, мы достаточно послужили друг другу тренажерами для поцелуев, пора переходить к другим, более серьезным снарядам. И я, рассматривая это как некую закономерность, конечно, был полностью согласен с Машей, хотя в то же время и дулся и даже скучал – не по ней в целом, а главным образом по ее губам, разбухшим от моих щенячьих покусываний.
Но юность и наступившее лето взяли свое – в бодряще прохладном июне я выкинул Машу из головы, отдавшись подготовке к вступительным экзаменам в институт, к которым был допущен, благополучно миновав рифы творческого конкурса.
Июль принес с собой жару и травму – купаясь в Водниках, я поранил ступню бутылочным осколком и пару недель провалялся дома с забинтованной ногой под распахнутым настежь по случаю духоты окном. Здесь меня чуть не ежедневно навещали тогдашние друзья – соседка Юля, уже учившаяся в «художке», ее подруга Марго, родившая двойню, Саша, Юлин молодой человек, подававший надежды художник, и Сережа, ухажер Марго, вообще-то торговавший дверными замками, но в духе того бесшабашного времени и той компании пытавшийся что-то наигрывать на электрогитаре. Мы засиживались в моей комнате далеко заполночь, потягивая разбавленную водкой пепси-колу и распевая очередную песенку, от скуки сочиненную мною к приходу гостей:
Раньше я был прост.
На любой вопрос
Не отвечал всерьез и никогда не заходил в тупик.
Я был молодой.
Я жил с самим собой.
Был утонченный эстет, а стал – настоящий мужик.
Я пью пиво утром,
Работаю на химзаводе,
Смотрю ежедневно цветной телевизор,
Женат.
Коплю на машину,
Воспитываю наркомана,
Таскаю по улице злого бульдога – и дни мои быстро летят.
И мой сын тоже прост,
Хотя и не пошел в рост
И доводит до бесчувствия свою ненормальную мать.
Ему пятнадцатый год,
Он много курит и пьет,
Но в сложной ситуации может за себя постоять.
Он будет пить пиво утром,
Работать на химзаводе,
Смотреть ежедневно цветной телевизор,
Раз в год за границу летать.
Женится,
Купит машину,
Будет растить наркомана,
Таскать по улице злого бульдога…
И все повторится опять.
Дальше вступал хор:
Настоящий мужи-и-ик…
Настоящий мужи-и-ик…
Наконец нога поджила, наступил август, и я приковылял в институт – начались вступительные экзамены.
Первый – «творческий этюд» – сошел для меня благополучно, а на втором, на изложении, чуть не произошла катастрофа. Чтобы понять, почему я едва не срезался, нужно немного углубиться в мою биографию.
Я рос болезненным мальчиком, вечно под опекой мамы, не спускавшей с меня настороженно-влюбленного взгляда. Подросши и уже самостоятельно гуляя во дворе, каждые пятнадцать минут я должен был выбегать из-под деревьев на мамин крик – она громко, по имени звала меня с балкона. Контроль был тотальным. А там, где мама не могла сама присмотреть за мной, она просила об этом других. О, сколько драгоценных конфетных коробок было роздано учителям в школе! Зимой меня кутали, кажется, во все, что только оказывалось под рукой. Под штанишки надевались аж две пары теплых детских колготок, а под меховую шапку – пуховый бабушкин платок. Летом зорко берегли меня от сквозняков, активного солнца и немытых яблок. Но все же я ухитрялся наносить себе ущерб – прищемленные дверями пальцы, разбитые об асфальт коленки, проглоченные шарикоподшипники, кашель и насморк были верными спутниками моего, в общем-то, вполне счастливого советского детства. И странно: чем плотнее меня опекали, тем упрямее становился я, тем все более непримиримые формы принимало мое неповиновение. Колготки и подштанники снимались в школьном туалете, платок срывался с головы, как только я сворачивал за угол дома. Причесанные в парикмахерской волосы тут же взлохмачивались всей пятерней, а калорийный домашний обед тайком смывался в унитаз. Более серьезными были метаморфозы внутреннего «я»: видя, как с него сдувают пылинки, бузотер во мне негодовал, но в то же время чувствовал свою особость, исключительность. Годам к пятнадцати маме стало совершенно ясно, что я – подозрительная личность, себе на уме, опасный мечтатель и потенциальный маньяк.
В действительности мне никого не хотелось мучить. Более того, я всегда держался в стороне от тех детей, что любят ловить голубей и отрывать крылышки мухам. Я вообще старался иметь как можно меньше дел с кем бы то ни было и начал исподволь презирать окружающих. Отчуждение и замкнутость искали какого-то выхода и, наконец, выплеснулись в первые же сочиненные мною стихи:
Жизнь кузнечика калечит,
Ведь кузнечик – донжуан.
Только бог его полечит
И отпустит в свой карман.
В этом маленьком кармане
Встретит он своих подруг
И на белом таракане
Повезет их в чистый луг.
Там он будет с ними прыгать,
Будет песни стрекотать,
Будет он ногами дрыгать
И как бабочка летать.
Вдоволь будет пить и кушать,
Ночью сон сойдет к нему
И покой его нарушить
Не позволят никому.
Написав немалое количество подобных стишков, где вместо людей фигурировали разнообразные насекомые, я вообразил себя великим поэтом и оттого еще больше вознесся духом, возгордился и напыжился.
Теперь следует досказать о том, что собственно произошло на втором экзамене.
Это было, напомню, изложение. Требовалось всего лишь достаточно близко к тексту воспроизвести своими словами только что зачитанный вслух короткий рассказ Горького. Все так и сделали. Но ведь на экзамене присутствовал еще и великий поэт, незаметный в густой толпе бездарей. Он не мог просто выполнить поставленное задание – о нет, ему нужно было как-то показать себя, выделиться.
И вот, я написал вместо изложения сочиненьице, настолько вольно поступив с заданной темой, что, если бы не заступничество пожилой лекторши, той самой, кому в международный женский день с кровью досталось от ректора деревянное кольцо на руку, гулять бы мне по Тверскому мимо ограды института еще как минимум год. Однако тут повезло.
Повезло и еще раз, когда после итогового собеседования меня, недобравшего на экзаменах одного балла, все же зачислили в институт особым решением приемной комиссии. Ректор, присутствовавший при оглашении списка поступивших, добавил от себя, что меня берут «за стихи». Ну, в этом я и не сомневался!
Потом было торжественное собрание в актовом зале. Свежепоступившим вручали на сцене красные корочки студенческих билетов. Весельчак ректор в заключительной речи пожелал будущим Пушкиным и Толстым: «Не сыпьте мимо!» и мы разошлись по аудиториям.
Я попал на семинар к поэту Фиксову – старому лысому дядьке с помятым и злым лицом, автору книги стихов о Ленине и лауреату, естественно, премии Ленинского комсомола. Учеба, если ее так можно назвать, происходила следующим образом. Обычно мы собирались в редакции какого-то почвеннического журнала, давно канувшего в Лету, а тогда помещавшегося в издательстве «Молодая Гвардия», что в пяти минутах ходьбы от моего дома. Человек двадцать пять рассаживалось по кругу. Читали по цепочке стихи. Пока один декламировал, другие пили принесенную с собой водку, причем старина Фиксов не отставал от молодежи, видимо, по комсомольской еще привычке. Пьянство не было самоцелью, но всегда случался подходящий повод: то у кого-нибудь день рождения, то Фиксову вручат орден «Дружбы». Подшофе студенты покидали своего мэтра – кто-то отправлялся домой на другой конец города, а другие, приезжие, топали в литинститутское общежитие, расположенное поблизости, на углу улиц Руставели и Добролюбова. Этим другим я иногда набивался в компанию.
В общежитии пили гораздо интенсивнее, не от случая к случаю, а постоянно. В комнате, где жили во время сессии трое моих однокурсников, порожней тарой был уставлен не только весь пол, но и стол и подоконник. Оставались свободными от бутылок только узкие проходы к кроватям, выглядевшим как звериные лежбища. Будущий драматург Володя, похожий на актера Конкина в роли Шарапова, во время возлияний лежал на своей кровати, уподобившись древнему греку на пиру, – он вообще ходил с палочкой, а тут еще и штормило от выпитого… Впрочем, я отвлекся.
В коридорах института иногда мелькала раскрасневшаяся Маша, делавшая вид, что не замечает меня. Я платил ей той же монетой. Теперь я уже даже сожалел о том, что связался с ней – она казалась мне косолапой уродиной. Кольцо бы тебе в нос, душенька, и пошла, пошла плясать на рынок! Впредь я решил быть более хладнокровным и разборчивым. Но тут меня ожидало горькое разочарование – студентки Лита выглядели какими-то ощипанными курицами. За исключением, пожалуй, одной…
…У нее было необычное и запоминающееся имя – Наина, смеющиеся карие глаза и длинные каштановые, рыжевшие на солнце волосы. Когда я увидел ее впервые, она сидела за партой в шестой аудитории и что-то записывала в тетрадь. При этом губы ее вытянулись в подобие бутона. О, как я хотел попробовать на вкус эти влажные розовые лепестки, ощутить под ее свитером напрягшуюся грудь, вдохнуть запах ее тела, исходящий из-под ворота, прижаться губами к пульсирующей жилке на шее! О, как желал просунуть свое бедро между ее крепких и полных бедер (это я не раз проделывал с Машей), чтобы почувствовать через двое джинсов обжигающий жар прижимающейся, трущейся, бьющейся в меня плоти!
Весь тот день, когда я сверлил ее взглядом, Наина, казалось, не обращала на меня ни малейшего внимания. Надо было выдумать повод для знакомства, но я волновался и робел, а того, кто мог бы просто представить меня Наине, не нашлось – девушка со всеми держала порядочную дистанцию. И тогда, после окончания занятий, я, неудачливый гипнотизер, сам как бы под гипнозом потащился за ней по Бронной к метро.
Я шел и тупо глядел на белое пятно ее свитера, расплывшееся в пяти шагах передо мной. И вдруг она обернулась.
– Что это ты преследуешь меня?
– С чего ты взяла! Я просто иду к метро.
– Но ты ведь мог бы и обогнать меня.
– Я этого не хотел. Я никуда не спешу.
– А может, тебе просто нравится идти за мной и смотреть мне в спину?
– Нет.
– Да брось! Неужели ты и вправду думаешь, что я не заметила, как ты сегодня на меня таращился?
– Ничего я не таращился.
– Хорошо, ты смотрел.
– Да, я смотрел, но ты ни разу не взглянула в мою сторону, поэтому не могла ничего заметить.
– Наоборот, я внимательно наблюдала за тобой. Как, разве ты не знаешь, что у женщин развито периферийное зрение? Так вот, говорю тебе, женщина не обязательно должна заглядывать всем в глаза, чтобы видеть все, что ей нужно. Например, когда женщина идет по вагону метро, то мужчины поворачивают на нее свои головы, оглядывают сначала спереди, потом сзади. Это так смешно! Мне часто кажется, что меня в метро все время раздевают взглядом… А женщина краем глаза видит мужчин и других женщин, этого ей вполне достаточно… Не хочешь зайти со мной в «Макдональдс»?
Смущенный и взбудораженный, я последовал за ней.
– Итак, – сказала она, когда мы, взяв по биг-маку и по стаканчику «кока-колы», уселись за свободный столик, – итак, расскажи о себе. Ведь я знаю только твое имя, а этого, извини, недостаточно.
Что я мог рассказать ей? Я пристально глядел на нее, когда она отводила свой взгляд, и представлял ее голой, лежащей на белой крахмальной простыне с раздвинутыми и задранными вверх ногами. Представлял себе ее волосы рассыпанными на подушке, воображал ее призывно изгибающуюся спину в капельках пота… Я рассказывал ей о своей семье, о Новосельцеве, где в детстве обычно проводил лето, о своих немногочисленных знакомых, а между тем хотел поведать ей о Маше, о Крымском мосте и Нескучном саде, о том, как ноет у меня между ног, и еще о том, что она мне чертовски, да, просто дьявольски нравится.
В ответ она рассказала свою историю.
Наина была родом из небольшого городка на границе Московской области, Протвино. Ее родители имели какое-то отношение к тамошним научным разработкам. Все детство она провела на живописном берегу Оки, училась в школе, и там познакомилась с будущим мужем – да-да, она уже успела до института побывать замужем! Более того, в девятнадцать лет у нее был почти двухгодовалый ребенок!
На бывшего мужа мне было плевать. Только наличие ребенка, признаюсь, несколько огорчило меня. Но он был далеко, с ее мамой, а Наина сидела здесь, со мной, напротив меня, такая молодая и уже такая опытная, – именно то, что мне надо, достаточно только протянуть руку и взять.
О существовании Литературного института она, как и большинство первокурсников, узнала всего год назад. Были у нее к этому времени какие-то рассказы, написанные в старших классах школы. Так почему бы не попытаться? Институт все-таки, высшее образование. Москва, в конце концов.
На город быстро наваливался еще почти по-летнему душный вечер. Наина сказала, что живет далеко, в общежитии МГУ, и я тут же вызвался проводить ее в метро, хотя бы до «Университета».
Пока ехали в раскачивающемся вагоне, приходилось почти кричать, особенно на перегонах, друг другу на ухо, и мне удалось несколько раз коснуться губами ее волос. Перед «Фрунзенской» поезд резко затормозил – и Наина (мы стояли возле дверей, она опиралась спиной на поручень), сдерживая мой опрокидывающийся на нее торс, ткнула мне пальцами в ребра.
Потом дошли, болтая, до высотки на Воробьевых горах, покрутились у фонтана в сквере, постояли на широченных ступенях. Наина предложила зайти с ней в Главное здание – для этого нужно было показать индифферентному охраннику на входе студенческий билет, не раскрывая. Так я и сделал. Мы поднялись в лифте куда-то очень высоко – здесь располагалось небольшое кафе, а за окнами расплескался город в вечерних огнях.
Не помню, были ли произнесены какие-то важные, определяющие слова, но мы как-то договорились, может быть, и молчаливо, что теперь мы вместе. Сейчас, глядя в прошлое, я думаю, что дальше поступил бы так: спустился бы с девушкой в ее комнату и начал раздевать, не дожидаясь пока она запрет хлипкую дверь. Я бесконечно повторял бы настойчивым, не терпящим возражений шепотом, как та оперная дива, заслуженная артистка, вот так же соблазнявшая меня перед тем, как бешено, по-лошадиному отдаться в своей гримерной на разноцветной куче сброшенных платьев: «Ну, давай же, давай, давай-давай, давай-давай, давай-давай-давай…».
Странная штука – любовь, она совмещает две совершенно, вроде бы, разные вещи, два противоположных взгляда на мир. С одной стороны, тебе очень нравится девушка, ее нежная, шелковая кожа, и ты боготворишь ее, лелеешь в мечтах целомудренный образ, готов кидать под ноги этому образу цветы, мягкие игрушечки, разные там милые безделушки. А с другой – только и ждешь случая, чтобы стянуть с этой грязной шлюхи трусы и, навалившись всем своим угловатым телом, вбивать и вбивать в нее, словно сваю, свое мужское достоинство.
Об этом или почти об этом думал я, трясясь в вагоне метро, уносившем меня по «красной» ветке на север. Вернулся домой во втором часу ночи и еще долго не мог уснуть – предвкушение быстрой победы бодрило меня.
Но на пути к счастью имелось одно препятствие, одна, так сказать, яма. И довольно глубокая. Дело в том, что я не имел по сути никакого более-менее точного представления о том, что конкретно надо делать с грязной шлюхой после того, как трусы с нее сняты…
В институте между тем продолжалась осенняя сессия первого курса – лекторы читали или бубнили свои лекции, студенты делали вид, что внимательно слушают. Впрочем, не все вылетало из другого уха, кое-что из услышанного запомнилось надолго и вспоминается до сих пор. Например, на лекции по литературе двадцатого века Владимир Палыч Вольнов интересно заметил, что поэзия должна быть прозрачной, как вода в Байкале, но одновременно и глубокой – до дна рукой не достать. А перед перерывом на обед, завершая лекцию о средневековье, Владислав Александрович Контрин напутствовал студентов словами «До встречи в аду!» – следующее занятие должно было начаться разбором Дантова «Ада».
Бесплатный обед, которым так гордился наш вечно чему-то ухмыляющийся усатый ректор, оставлял желать лучшего. На первое обычно давали скучные щи или – верный признак дешевизны – суп из перловки, на второе – макароны с зеленоватыми сосисками, да еще был набивший оскомину теплый компот из сухофруктов. Я чаще всего воздерживался от принятия такой пищи или отдавал что-нибудь Наине по ее просьбе – она уплетала институтские обеды за обе щечки.
После занятий я провожал ее в МГУ (от литинститутской общаги уважающей себя девушке лучше было держаться подальше), или мы отправлялись бродить по окрестностям – на улицу Строителей (через несколько лет я ездил сюда к одной своей любовнице, фригидной студентке-заочнице высоченного роста), проспект Вернадского, куда-то еще. Шли, держась за руки, почти не разбирая дороги, уходили от Университета в любую сторону, возвращались, кружили у здания Второго гуманитарного корпуса, где Наина время от времени подрабатывала у старшего брата, бритоголового амбала, державшего в фойе книжный развал. Темнело все раньше, и на смотровой площадке, куда мы обычно забредали, чтобы целоваться, вечерами дул уже сильный, пронизывающий до костей ветер.
У меня все сильнее болело в паху, а долгожданное событие никак не происходило. То у Наины ночевал ее брат, то в соседней комнатке происходила драка, и мы убегали на лестницу. В выходные Наина всякий раз уезжала в свое Протвино, к матери и сыну – я несколько раз сажал ее в междугородный автобус у метро «Южная». Загвоздка была еще и в том, что мне никак не удавалось выпить с Наиной – она при мне не притрагивалась к спиртному, а я оказался совершенно не способен без него обрести должную решимость.
Так продолжаться дальше не могло. К тому же опытная и смазливая Наина знала гораздо больше о поцелуях и объятиях, чем неуклюжая Маша. Она обвивалась вокруг меня змеей и засовывала свой язык так глубоко в мой рот, что чуть ли не облизывала гланды. И она не стояла, как пень, а все время двигалась, двигалась, елозила промежностью по моему выставленному вперед бедру. Разумеется, и речь ее была совершенно другой. Раскрасневшаяся, безумно желанная, она шептала мне в горевшее огнем ухо о том, как обмажет мой член сладкой пеной для кофе и начнет его медленно облизывать… В такие-то моменты я терял всякое представление о пространстве и времени, и если бы тогда кто-нибудь вдруг спросил, как меня зовут, боюсь, я лишь с трудом смог бы вспомнить свое имя.
В один из последних теплых дней мы с Наиной отправились в ДК имени Горбунова на концерт любимого обоими «Аквариума». Пока Гребенщиков, сексапильный дядька с длинными волосами и в клетчатом пиджаке, стоял над нами на сцене, как аист, на одной ноге, мы извивались в меломанско-половом экстазе вместе с плотной толпой внизу, подпевая: «С ними золотой орел небе-е-есный, чей так светел взор незабыва-а-е-емый!». В это время Наина с силой прижималась своей попкой к моему члену, крепко упертому в брючный пояс.
Да, так не могло продолжаться дальше. И вот, наступил момент, когда звезды сошлись – в последний день сессии студенты решили всем курсом отправиться в Серебряный бор, на дачу к одному из наших мальчишек.
Мы встретились с Наиной в метро, на троллейбусе добрались до Серебряного бора, долго плутали, но нашли нужный участок, где на поляне перед дачей уже собралось большинство однокурсников. Я притащил с собой из дома гитару. Под шашлычок, то и дело поспевавший на костре, хором пелись песни, пились вино и водка. Сладкий дым взлетал к крыше, где на законном месте «конька» красовалась деревянная, крашеная в белое МХАТовская чайка (хозяин, учившийся на семинаре драматургии, сообщил нам, что имеет отношение к этому театру, мы – верили).
Темнело. Вокруг костра начались пляски. Кто-то уже лежал без памяти под кустом. Большинство, понимая, что дороги к троллейбусной остановке в темноте и в подпитии запросто не найдешь, решило переночевать на гостеприимной даче, но тут выяснилось, что в доме нет света. Мы с Наиной, на этот раз как следует выпившей, ощупью бродили вместе с толпой по темным комнатам. В одной из комнат я нащупал что-то мягкое – матрац! Он был положен на сетчатую железную койку. Вдруг под матрацем что-то зашевелилось – кто-то опередил меня, лег на койку, прикрылся от холода сверху матрацем и теперь заворочался.
С трудом мы выбрались из дома. Тут я увидел, что костер потух и в навалившемся со всех сторон доисторическом мраке лежат, ползают, бесцельно слоняются живые существа, мои однокурсники. Вдруг кто-то потянул меня за рукав куртки и заговорил загробным голосом Зои Смирновой, слегка заторможенной студентки-поэтессы:
– Ты собрался уехать? Возьми меня с собой.
Я обещал это голосу.
Но прежде чем попытаться выбраться отсюда, надо было взять себя в руки. Наина покорно следовала за мной, изредка чему-то посмеиваясь.
– Так, – сказал я, обращаясь к самому себе. – Так, так, так…
Вдруг участок осветился из-за забора – подъехала машина. От деревьев и людей на траву пали длинные черные тени.
– Эй, кто тут? В чем дело?
Это крикнул мужчина, вышедший из автомобиля и распахнувший калитку. Я выступил вперед.
– Извините, мы тут… на даче… у друга.
– У какого еще друга? Что за бред? Это моя дача! Что вы все тут делаете? Сейчас я вызову милицию!
Слово «милиция» подействовало на меня тонизирующе – не собираясь вдаваться в дальнейший разговор и разбираться что здесь к чему, я, однако, тотчас же заподозрил, что пригласивший нас парень имеет не самое прямое отношение к МХАТу, дернул за руку Наину и мы вылетели с участка мимо начинавшего орать приезжего мужика. Искать гитару было в этой ситуации контрпродуктивно.
Оказавшись снова в темноте, но уже далеко на улице, мы почему-то долго смеялись, то и дело хватаясь друг за дружку, а потом в обнимку двинулись к заговорщически подмигивающим вдали фонарям.
Через полчаса на задней площадке троллейбуса Наина, постанывая от рвущегося из нее желания, уже всасывалась в меня. Я мял ее тело, как глину. Ни о чем не сговариваясь, мы поехали ко мне домой.
Дверь открылась.
– Это Наина. Она будет ночевать у нас.
Мой собственный голос казался мне незнакомым.
Мама поздоровалась с Наиной, но глядела при этом на меня.
– Ты что, выпил?
– Да, немного. А что тут такого? У нас была вечеринка в институте.
– Понимаю. Но почему ты не позвонил за весь день ни разу? Я уже собиралась обращаться в милицию! Ты смотрел на часы? Два часа ночи!
– Милиция… Милиция…
– Иди немедленно умойся. А вы, Наина, проходите на кухню. Вы вместе учитесь?
Мама напоила нас чаем. Освеженный душем, я нашел в себе силы выдать Наине полотенце, отправить ее в ванную, а сам в это время раздвинул диван и постелил свежее белье. Потом, подумав, достал еще один комплект белья и постелил его на диван в другой комнате.
Когда Наина, обернутая полотенцем, вошла в мою комнату, я уже сидел в кресле нога на ногу и с самым решительным видом.








