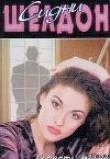Текст книги "Жизнь Матвея Кожемякина"
Автор книги: Максим Горький
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 29 страниц)
Речь его текла непрерывно, длинной струёй, слова сыпались на головы слушателей, как зерно из мешка, оглушая, создавая напряжённое настроение.
– Не понимаю я чего-то, – заявил Кожемякин, напряжённо сморщив лицо, какая опасность? Ежели все люди начинают понимать общий свой интерес...
Сухобаев вскочил со стула.
– То есть – это как же? Ведь какие люди – вопрос! В евреев – не верю-с, но есть люди значительно опаснее их, это совсем лишние люди и, действительно, забегают вперёд, нарушая порядок жизни, да-с!
Он обиженно вздёрнул плечи, снова облизнул губы и продолжал:
– Вы сами, Матвей Савельич, говорили, что купеческому сословию должны принадлежать все права, как дворянство сошло и нет его, а тут – вдруг, оказывается, лезут низшие и мелкие сословия! Да ежели они в думу эту господь с ней! – сядут, так ведь это же что будет-с?
Он моргнул и, разведя руками, с печалью и злостью докончил:
– Тогда прямо уж – к хивинцам поезжай конину кушать!
– Бессомненно, что должна быть отчаянная сумятица! – уверенно сказал Тиунов. – Все эти ныне выступающие люди совершенно преждевременны и притом разъярены надеждами бесподобно.
– Какие – надежды? – спросил Кожемякин, разглядывая опавшие щёки кривого и глаз его, окружённый чёрным кругом, точно подбитый. Тиунов повёл носом и ответил:
– Первее всего – полное уравнение в правах и поголовная развёрстка всех имуществ и всей земли...
– Видите-с? – воскликнул Сухобаев. – А чего верстать? Много ли накопили имущества-то? По трёшнику на голову...
– Самое же главнейшее и обидное, – продолжал Тиунов, отчётливо, раздельно, точно он свидетельствовал на суде, – и самое опасное то, что всё это есть тонкая интрига со стороны чужеродных людей: заметивши в русских мелких людях ихнюю склонность к мечтанию и пользуясь стеснённым положением их жизни, хитрые люди внушают самое несбыточное, чтобы сразу солидный народ и начальство видели, сколь все запросы невозможны и даже безумны.
Сухобаев насторожился, вытянулся и быстро спросил:
– Какой расчёт?
Тогда Тиунов заговорил громче, торопливее и отрывистей.
– Расчёт – ясный: надо внушить властям недоверие к народу, надо поставить народ так, чтоб первее всего бросалась в глаза его глупость, поняли? Чтобы сразу было видно – это кто? Мечтатель и, так сказать, блаженный дурачок – ага!
Он очертил глазом своим сверкающий круг, замкнув в этом круге слушателей, положил руки на стол, вытянул их и напряг, точно вожжи схватив. Рана на лице его стала багровой, острый нос потемнел, и всё его копчёное лицо пошло пятнами, а голос сорвался, захрипел.
– Тут – так придумано, – клокотали и кипели слова в горле у него, Россия разрослась – раз! начальство сконфузилось – два! Потеряло свой форс, обращается к народу – давай, разберёмся в делах совместно и дружески – три! А хитрые эти люди, – я думаю, что предварительно – немцы, хотя видимость и показывает на жидов, – так вот они и сообразили, что ежели так пойдёт, то Русь сама выправится, встанет на ноги, и – это же им невыгодно, совсем невыгодно! Тут и вся тайна политики: надобно показать, что русский народ глуп и помощи от него напрасно ждать!
– Н-ну, – сказал Сухобаев, покачивая головой, – это как-то не того-с, не убедительно мне! На мой глаз – не тут опасность!
– Нет – тут, именно в этом месте! – жарко сказал Тиунов, срывая руки со стола.
Они заспорили, сначала хоть и горячо, но вежливо, подыскивая наиболее круглые и мягкие слова, а потом всё более сердито, грубо, зло и уже не стесняясь обижать друг друга.
– Какой же вы голова городу, ежели не понимаете общего интереса жителей? – ехидно спрашивал кривой, а Сухобаев, глядя на него сбоку, говорил вздрагивающим голосом:
– Вы сами, почтеннейший, распространяете бессмыслие, да-с!
Кожемякин сидел ошеломлённый всем, что слышал, огорчаясь возникшим спором, желал остановить его и не умел.
– Погодите-ка, – бормотал он, – не в этом ведь дело, надо согласие...
Перед ним стояло лицо Хряпова, неотвязно вспоминались слова старика о добре, которое надо делать с восторгом, до безумия, и слова эти будили приятно тревожную мысль:
"Вдруг все проникнутся насквозь этим и – начнётся..."
– Постойте-ка, вы! – обращался он к спорящим. – Давайте-ка сообща...
Сухобаев, жёлтый со зла, сверкал глазами и, усмехаясь, ядовито говорил:
– Не-ет, с этим я никак не соглашусь, совсем не согласен!
– А – отчего? – сухо спрашивал Тиунов, воткнув в лицо ему свое тёмное око.
– От того самого, что причастие к жизни должно иметь свой порядок-с!
– Это какой же?
– А такой: сначала я, а после и вы, – да-с!
– Я вперёд вас не забегаю, но – спрашиваю вас: вы до сего дня где были?
– Я? Тут!
– Так-с! А здесь что – Россия или нет?
– Здесь-то?
Сухобаев замолчал, видимо, боясь ответить.
– То-то и есть, – говорил Тиунов, как-то всхрапывая, – то-то вот и оно, что живём мы, а где – это нам неизвестно!
– Вот – верно! – согласился Кожемякин. – Василий Васильич, это, брат, верно!
– Почему? – тревожно кричал Сухобаев. Кожемякин не мог объяснить и, сконфуженно вздохнув, опустил глаза, а кривой бойко забарабанил:
– Потому, первее всего, что чувствуем себя в своём уезде, своём городе, своём дому, главное – в дому своём! – а где всё это находится, к чему привязано, при чём здесь, вокруг нас Россия, – о том не думаем...
– Во-от! – примирительно воскликнул Кожемякин, а Сухобаев вдруг затопал ногами на одном месте, точно судорогой схваченный, задохнувшись прохрипел:
– Прощайте-с! – и быстро убежал.
– Ах, господи! – огорчённо сказал Кожемякин, вставая на ноги и глядя вслед ему. Тиунов тоже вскочил, наклонил голову, высунув её вперёд, и, размахивая правой рукой, быстро заходил по комнате, вполголоса говоря:
– То же самое, везде – одно! В каждой губернии – свой бог, своя божья матерь, в каждом уезде – свой угодник! Вот, будто возникло общее у всех, но сейчас же мужики кричат: нам всю землю, рабочие спорят: нет, нам – фабрики. А образованный народ, вместо того, чтобы поддерживать общее и укреплять разумное, тоже насыкается – нам бы всю власть, а уж мы вас наградим! Тут общее дело, примерно, как баран среди голодных волков. Вот!
Он наткнулся на стол, ощупал его руками, сел и начал чесать шрам на месте глаза, а здоровый его глаз стал влажен, кроток и испуганно замигал.
– Вот, Матвей Савельич, я – кривой, а у него, у головы, на обоих глазах бельма! И даже можно сказать, что он дурак, не более того, да!
Капля пота скатилась с его щеки, оставив за собою светлый след, ноздри его дрожали и губы двигались судорожно.
– Народ безо всякой связи изнутри, Матвей Савельич, – жалобно и тихо говорил он, – совершенно незнакомый сам с собою, и вам, например, неизвестно, что такое Саратовская губерния и какие там люди, – неизвестно?
– Нет, – виновато ответил Кожемякин.
– Ну, да! – печально кивнув головой, сказал Тиунов, сгибаясь над столом. – И от этой неизвестности Россия может погибнуть, очень просто! Там, в Саратовской, вокруг волнение идёт, народишко усиливается понять свою жизнь, а между прочим, сожигает барские дома. Конечно, у него есть своя мысль на это, ибо – скажем прямо – господа его жгли живьём в свою пору, а всё-таки усадьба – не виновата! Нет, Россия очень может погибнуть! Там, видите, среди этого волнения немцы – здоровеннейший народ, Екатериною поселен, так они – спокойны! Совершенно! Потирают руки – я сам видел: стоит немец с трубкой в зубах и потирает руки, а в трёх местах – зарево!
Кожемякину хотелось успокоить кривого, он видел, что этот человек мучается, снедаемый тоской и страхом, но – что сказать ему? И Матвей Савельев молча вздыхал, разводя пальцем по столу узоры. А в уши ему садился натруженный, сипящий голос:
– В Воргороде творится несосветимое – собирается народ в большие толпы и кричит, а разные люди – и русские и жиды, а больше всего просто подростки – говорят ему разное возбуждающее. Господи, думаю я, из этого образуется несчастие для всех! И тоже влез, чтобы сказать: господа товарищи, русские люди, говорю, – первее всего не о себе, а о России надо думать, о всём народе. Сейчас меня за ногу и за полу сдёрнули, затолкали, накричали в нос разных слов – чёрная сотня и прочее, а один паренёк – очень весёлый, между прочим, – ударил меня по шее. Тут я его вежливо спрашиваю – зачем же вы меня по шее? А вы, говорит, привыкли, чтобы по морде? Обратите внимание на слова "вы привыкли, чтобы по морде", вот на это самое "привыкли", а? Это слово чрезвычайно русское – "привыкли, чтоб по морде"! Нет, говорю, молодой человек, я совсем наоборот желал бы. Смеётся – "по затылку, что ли?" Пошли мы с ним в трактир, и я почти реву – не от удара, конечно, – а от тоски эдакой! Говорим, и он сознался: простите, дескать, товарищ, дурак я, ударил вас совершенно зря, а теперь стыжусь! Это, говорит, наверно, оттого, что меня тоже очень много таскали за вихры, по морде били и вообще – по чему попало, и вот, говорит, иногда захочешь узнать: какое это удовольствие бить человека по морде?
Кривой приподнял голову, борода его вытянулась вперёд и тряслась.
– Вы извольте заметить слово – "удовольствие"! Не иное что, а просто "удовольствие"! Тут говорит паренёк весёлый, человек очень прозрачной души, и это безопасно, в этом-то случае – безопасно, а если вообще взять...
Тиунов встал, опираясь руками о стол.
– Матвей Савельич, примите честное моё слово, от души: я говорю всё, и спорю, и прочее, а – ведь я ничего не понимаю и не вижу! Вижу – одни волнения и сцепления бунтующих сил, вижу русский народ в подъёме духа, собранный в огромные толпы, а – что к чему и где настоящий путь правды, это никто мне не мог сказать! Так мельтешит что-то иногда, а что и где – не понимаю! Исполнен жалости и по горло налит кипящей слезой – тут и всё! И боюсь: Россия может погибнуть!
– Я тоже ничего не понимаю, – глухо сказал Кожемякин, и оба замолчали, сидя друг против друга неподвижно и немотно.
– Есть тут одна девица, – начал Матвей Савельев.
Но Тиунов, мотнув головой, отозвался:
– Видел я девиц!
Снова помолчали, потом Тиунов проворчал:
– Лихорадка у меня, должно быть...
– Вы прилягте, – предложил Кожемякин, устав смотреть на него, не желая более ни говорить, ни слушать.
Тиунов отошёл к дивану, лёг, поджав ноги, но тотчас вздрогнул, сел и развёл руками, точно поплыл.
– Говорится теперь, Матвей Савельич, множество крутых слов, очень значительных, а также появилось большое число людей с душой, совершенно открытой для приёма всего! Люди же всё молодые, и поэтому надо бы говорить осторожно и просто, по-азбучному! А осторожность не соблюдается, нет! Поднялся вихрь и засевает открытые сердца сорьём с поверхности земли.
Он закрыл глаза, опрокинулся на диван и сказал, вытягиваясь в медленной судороге:
– Очень может погибнуть всё. Господин же градской голова – вовсе не голова, а – наоборот...
"Нет, я уйду!" – решил Кожемякин, чувствуя необходимость отдыха, подошёл к дивану и виноватым голосом объяснил, что ему надобно сходить в одно место по делу, а кривой, на секунду открыв глаза, выговорил почему-то обиженно:
– Разве я у вас на дороге лёг?
"Путаный человек", – думал Кожемякин, выйдя за ворота.
С бесплодных лысых холмов плыл на город серый вечер, в небе над болотом медленно таяла узкая красная черта, казалось, что небо глубоко ранено, уже истекло кровью, окропив ею острые вершины деревьев, и мертвеет, умирает. Летели с поля на гнёзда чёрные птицы, неприятно каркая; торопясь кончить работу, стучали бондари, на улице было пусто, сыро, точно в корыте, из которого только что слили грязную воду. Огни в домах ещё не зажигались, тусклые пятна окон смотрели друг на друга хмуро, недоверчиво, словно ожидая чего-то неприятного.
Со двора выскочила растрёпанная баба, всхлипывая, кутаясь в шаль; остановилась перед Кожемякиным, странно запрыгав на месте, а потом взвыла и, нагнув голову, побежала вдоль улицы, шлёпая босыми подошвами. Посмотрев вслед ей, Кожемякин сообразил:
"Видно – помирает кто-нибудь, за попом она..."
И – остановился, удивлённый спокойствием, с которым он подумал это.
Влажная холодная кисея (тонкая, редкая ткань, начально из индейской крапивы, ныне из хлопка – Ред.) висела над городской площадью, недавно вымощенною крупным булыжником, отчего она стала глазастой; пять окон "Лиссабона" были налиты жёлтым светом, и на тёмных шишках камней мостовой лежало пять жёлтых полос.
Сзади раздался шум торопливых шагов, Кожемякин встал в тень под ворота, а из улицы, спотыкаясь, выскочил Тиунов, вступил в одну из светлых полос и, высоко поднимая ноги, скрылся в двери трактира.
"Неугомонный какой!" – одобрительно подумал Кожемякин и тоже вошёл в трактир.
Зал был наполнен людьми, точно горшок горохом, и эти – в большинстве знакомые – люди сегодня в свете больших висячих ламп казались новыми. Блестели лысины, красные носы; изгибались, наклоняясь, сутулые спины, мелькали руки, и глухо, бессвязно гудел возбуждённый говор. В парадном углу, где сиживали наиболее именитые люди, около Сухобаева собрались, скрывая его, почти все они, и из их плотной кучи вылетал его высокий голос. Напротив, в другом углу, громко кричало чиновничество: толстый воинский начальник Покивайко; помощник исправника Немцев; распухший, с залитыми жиром глазами отец Любы.
Кожемякин долго стоял у двери, отыскивая глазами свободное место, вслушиваясь в слитный говор, гулкий, точно в бане. Звучно выносился звонкий тенор Посулова:
– Воссияй мирови свет разума!
И гудел бас:
– Тебе кланяемся – солнце правды!
"Чужими словами говорят", – отметил Кожемякин, никем не замечаемый, найдя, наконец, место для себя, в углу, между дверью в другую комнату и шкафом с посудою. Сел и, вслушиваясь в кипучий шум речей, слышал всё знакомые слова.
– Вскую шаташася языцы! – кричал весёлый голос, и кто-то неподалёку бубнил угрюмо:
– Содом и Гоморра...
Звучали жалобы:
– Когда не надобно – начальство наше мухой в рот лезет.
– А тут – предоставлены мы на волю божию...
И всё выше взлетал, одолевая весь шум, скрипучий, точно ржавая петля, сорванный голос Тиунова:
– Мне на это совершенно наплевать, как вы обо мне, сударь мой, думаете!
– Ш-ш! – зашипел кто-то и застучал по столу. На секунду как будто стало тише, и оттуда, где сидели чиновники, поплыла чья-то печальная возвышенная речь:
И знал я, о чём он тоскует,
И знал он, о чём я грущу:
Я думал – меня угостит он,
Он думал, что я угощу...
Рассыпался смех, и снова стало шумно, и снова сквозь всё проникали крики:
– Я – Россию знаю, я её видел! Не я чужой ей, а вы посторонние, вы!
– Тише! – крикнул Посулов вставая, за ним это слово сказали ещё несколько человек, шум сжался, притих.
– Это вы наследства, вам принадлежащего, не знаете и всякой памяти о жизни лишены, да! Чужой – это кто никого не любит, никому не желает помочь...
– Однако, – кричал Сухобаев, – объясните – вы кто такой? Вам что угодно-с?
– Человек я!
– Половой, значит, – услужающий?
Многие захохотали, а Кожемякину стало грустно, он посмотрел в угол сквозь синие волны табачного дыма, и ему захотелось крикнуть Тиунову:
"Перестань!"
Но откуда-то из середины зала, от стола, где сидели Посулов и регент, растекался негромкий, ясный, всё побеждающий голос, в его сторону повёртывались шеи, хмурились лица, напряжённо вслушиваясь, люди останавливали друг друга безмолвными жестами, а некоторые негромко просили:
– Встань, не видно!
– Громче!
– Стойте, тише, братцы!..
– Кто это?
– Неизвестно.
Внятно раздавались чьи-то слова:
– Дайте нам, простым людям, достаточно свободы, мы попытаемся сами устроить иной порядок, больше человечий; оставьте нас самим себе, не внушайте, чтоб давили друг друга, не говорите, что это – один закон, для нас и нет другого, – пусть люди поищут законов для общей жизни и борьбы против жестокости...
Кожемякину казалось, что от этих слов в трактире становится светлее, дымные тучи рассеялись, стало легче дышать. Оглядываясь на людей, он видел, что речь принимается внимательно, слышал одобрительный гул и сам поддавался тихой волне общего движения, качавшего толпу, сдвигая её всё плотнее и крепче. Почти ощущая, как в толпе зарождаются мысли всем понятные, близкие, соединяющие всех в одно тело, он невольно и мимолётно вспомнил монастырский сад, тонко выточенное лицо старца Иоанна, замученный горем и тоскою народ и его гладенькую, мягкую речь, точно паклей затыкающую искривлённые рты, готовые кричать от боли.
– Кто скажет за нас правду, которая нужна нам, как хлеб, кто скажет всему свету правду о нас? Надобно самим нам готовиться к этому, братья-товарищи, мы сами должны говорить о себе, смело и до конца! Сложимте все думы наши в одно честное сердце, и пусть оно поёт про нас нашими словами...
– Спасибо, парень!
Толпа зашумела, качнулась к стене, где над нею возвышалось разрезанное лицо, с круглыми, слепо открытыми глазами, но вдруг раздался резкий, высокий голос Сухобаева:
– Господа обыватели! И вы, господа начальство, – что же видим все мы? Являются к нам неизвестные люди и говорят всё, что им хочется, возмущая умы, тогда как ещё никто ничего не знает...
– Вы, известные-то, воры все!
– Что-с?
– То-с!
– То есть как?
– Так!
И всё завертелось, закипело, заорало, оглушая, толкая и давя Кожемякина; он, не понимая, что творится вокруг, старался зачем-то пробиться к стене, где стоял оратор, теперь видимый.
– Это моё помещение! – визгливо выкрикивал Сухобаев.
Трещали столы и стулья, разбивалась посуда, хрустели черепки, кто-то пронзительно свистел, кто-то схватил Кожемякина за ворот, прищемив и бороду, тащил его и орал:
– Вот они – глядите! Во-от они-и!
– Стой! – хрипел старик, отбиваясь.
В густом потоке людей они оба скатились с лестницы на площадь перед крыльцом, Кожемякина вырвали из рук сапожника, он взошёл на ступени, захлёбываясь от волнения и усталости, обернулся к людям и сквозь шум в ушах услышал чьи-то крики:
– За что ты его, чёрт?
Чей-то голос торопливо и громко говорил:
– Чернокнижником считается, это – которого Сухобаев обделал...
– Имущество же он всё своё на училище отдал, городу!
Широкорожий парень схватил руку Кожемякина, встряхивал и бормотал:
– Ошибся он, дурашка!
Подошли Посулов, Прачкин, Тиунов, но Кожемякин, размахнув руками, крикнул вниз, в лица людей:
– Стойте! Это ничего! Если человек обижен – ему легко ошибиться...
Хотелось встать на колени, чтобы стоять прочнее и твёрже, он схватился обеими руками за колонку крыльца и вдруг, точно вспыхнув изнутри, закричал:
– Братцы! Горожане! Приходят к нам молодые люди, юноши, чистые сердцем, будто ангелы приходят и говорят доброе, неслыханное, неведомое нам – истинное божье говорят, и – надо слушать их: они вечное чувствуют, истинное – богово! Надо слушать их тихо, во внимании, с открытыми сердцами, пусть они не известны нам, они ведь потому не известны, что хорошего хотят, добро несут в сердцах, добро, неведомое нам...
– Верно, старик! – крикнули снизу.
– Прожили мы жизнь, как во сне, ничего не сделав ни себе, ни людям, вступают на наше место юноши...
Он размашисто перекрестился.
– Дай господи не жить им так, как мы жили, не изведать того горя, кое нас съело, дай господи открыть им верные пути к добру – вот чего пожелаем...
Крыльцо пошатнулось под ним и быстро пошло вниз, а всё на земле приподнялось и с шумом рухнуло на грудь ему, опрокинув его.
Потом он очутился у себя дома на постели, комната была до боли ярко освещена, а окна бархатисто чернели; опираясь боком на лежанку, изогнулся, точно изломанный, чахоточный певчий; мимо него шагал, сунув руки в карманы, щеголеватый, худенький человек, с острым насмешливым лицом; у стола сидела Люба и, улыбаясь, говорила ему:
– Я вам не верю.
Худенький человек, вынув часы, переспросил, глядя на них:
– Не верите?
– Нет.
Он хлопнул крышкой часов и сказал не торопясь:
– Это меня – огорчает. А в аптеку послали?
Не сводя с него глаз, Люба кивнула головой, и он снова начал шагать, манерно вытягивая ноги.
Певчий выпрямился, тоже сунул руки в карманы, обиженно спросив:
– Почему же вы так думаете, доктор?
– Так мне удобнее, – ответил тот, глядя в пол. Кожемякин не шевелился, глядя на людей сквозь ресницы и не желая видеть чёрные квадраты окон.
"Опять я захворал", – думал он, прислушиваясь к торопливому трепету сердца, ощущая тяжёлую, угнетающую вялость во всём теле, даже в пальцах рук.
– Захворал я, Люба? – спросил он полным голосом, чётко и ясно, но, к его удивлению, она не слышала, не отозвалась; это испугало его, он застонал, тогда она вскочила, бросилась к нему, а доктор подошёл не торопясь, не изменяя шага и этим сразу стал неприятен больному.
– Что? – спрашивала Люба, приложив ухо к его губам.
– Позвольте! – отстранил её доктор, снова вынув часы, и сложил губы так, точно собирался засвистать. Лицо у него было жёлтое, с тонкими тёмными усиками под большим, с горбиной, носом, глаза зеленоватые, а бритые щёки и подбородок – синие; его чёрная, гладкая и круглая голова казалась зловещей и безжалостной.
– Так, – сказал он, с обидной осторожностью опуская на постель руку Кожемякина. – Извините – мадемуазель...
– Матушкина.
– Мне всё хочется сказать – Батюшкова, – эта фамилия встречается чаще. Вы ничего не забудете?
– Нет.
– До завтра!
Люба говорила несвойственно ей кратко и громко, а доктор раздражающе сухо, точно слова его были цифрами. Когда доктор ушёл, Кожемякин открыл глаза, хотел вздохнуть и – не мог, что-то мешало в груди, остро покалывая.
Люба, сидя у постели, гладила руку больного.
Собравшись с силами, Кожемякин спросил:
– Умираю, что ли?
– Ой, нет! – вздрогнув и отбрасывая его руку, воскликнула девушка. Что вы?
– Сердце у вас слабое, – тихо сказал певчий, -вот и всё!
– Вам ничего не надо делать, – добавила Люба. Кожемякин через силу ухмыльнулся.
– Я ничего и не делал никогда...
Потолок плыл, стены качались, от этого кружилась голова, и он снова закрыл глаза. Было тихо, и хотелось слышать что-нибудь, хоть бы стук маятника, но часы давно остановились. Наконец певчий спросил:
– Не понравился он вам?
– Нет. Вы – тише!
"Зачем?" – хотел крикнуть Кожемякин, но промолчал, боясь, что они всё-таки не станут говорить и, напрягая слух, ловил слова, едва колебавшие тишину.
– Теперь, – шептал юноша, – когда люди вынесли на площади, на улицы привычные муки свои и всю тяжесть, – теперь, конечно, у всех другие глаза будут! Главное – узнать друг друга, сознаться в том, что такая жизнь никому не сладка. Будет уж притворяться – "мне, слава богу, хорошо!" Стыдиться нечего, надо сказать, что всем плохо, всё плохо...
Явился Тиунов и тоже шептал:
– Я говорю – отечество, Россия! Дорогие мои – собор строить разрешено, а вы опять – бойню...
Люба утешала его тихими словами, белки её глаз стали отчего-то светлей, а зрачки потемнели, она держалась в доме, как хозяйка, Шакир особенно ласково кивал ей головой, и это было приятно Кожемякину тягостная вялость оставляла его, сердце работало увереннее.
На другой день с утра явился Сухобаев, он смотрел на Кожемякина, точно мерку на память снимал с него, и ворчал:
– Это не более, как всеобщая куриная слепота-с!
Пришёл Ваня Хряпов, хмуро объявил, что дедушка его тоже сильно захворал, и Люба, тревожно побегав по комнате, исчезла.
"Милая, – мысленно проводил её Кожемякин, – радость человеческая!"
Дни пошли крупным шагом, шумно, беспокойно, обещая что-то хорошее. Каждый день больной видел Прачкина, Тиунова, какие-то люди собирались в Палагиной комнате и оживлённо шумели там – дом стал похож на пчелиный улей, где Люба была маткой: она всех слушала, всем улыбалась, поила чаем, чинила изорванное пальто Прачкина, поддёвку Тиунова и, подбегая к больному, спрашивала:
– Ну, что – лучше?
– Лучше! – отзывался он.
Он чувствовал себя здоровым, но доктор запретил вставать. При докторе девушка странно и явно менялась: ходила как-то по-солдатски мерно и прямо, выпячивая грудь, поджав губы, следя за ним недобрыми глазами, а на вопросы его отвечала кратко, и казалось, что, говоря ему – да, она спорит с ним. Кожемякин тоже не спускал глаз с доктора, глядя на него угрюмо, недоброжелательно, и, когда он уходил, – ещё в комнате надевая на затылок и на правое ухо мягкую шляпу, – больной облегчённо вздыхал. Было странно, что обо всём, что творилось в городе, доктор почти не говорил, а когда его спрашивали о чём-нибудь, он отвечал так неохотно и коротко, точно язык его брезговал словами, которые произносил. На его жёлтом лице не отражалось ни радости, ни любопытства, ни страха, ничего – чем жили люди в эти дни; глаза смотрели скучно и рассеянно, руки касались вещей осторожно, брезгливо; все при нём как будто вдруг уставали, и невольно грустно думалось, глядя на него, что, пока есть такой человек, при нём ничего хорошего не может быть.
"Как бы он не соблазнил Любовь-то, – тревожно думалось Кожемякину. Господи – помилуй её!"
Однажды он проснулся рано утром и, чувствуя себя почти здоровым, оделся, а потом разбудил Шакира и попросил его:
– Веди, князь, до кресла! Разучился я ходить.
Взяв его под руку, Шакир вёл и радостно бормотал, мигая глазами:
– Пошла, ну! Опять теперь беспокойства-та начинался...
Кожемякин сел, взглянул на деревья, перекрестился.
– Ну, давай, Шакирушка, поцелуемся!
Татарин, всхлипнув, припал к нему.
– Ничего! – утешительно говорил Кожемякин, поглаживая его шерстяную щёку. – Ещё поживём немножко, бог даст! Ой, как я рад, что встал...
– Ему тебя нада давать много дня ласковый-та! – бормотал Шакир, как всегда, в волнении, ещё более усердно коверкая слова. – Доброму человека бог нада благдарить – много ли у него добрым-та?
И оба улыбались друг другу, а больной всё хотел вздохнуть как можно глубже, но – боялся этого и с наслаждением ждал минуты, когда он решится и вздохнёт во всю грудь.
– Вот, видишь, – говорил он, – народился добрый-то народ!
– Есть, есть! – согласно кивая головой, ответил татарин. – Пошёл молодой – бульно хорош людя!
– Любовь-то, а?
Татарин открыл рот и засмеялся прежним своим смехом, добродушным и весёлым.
– Русский баба – самый лучший!
Осторожно открыв дверь, на пороге встала Люба, с головой окутанная в старую, рваную шаль, и тревожно крикнула:
– Зачем вы встали?
– А вот – встал да и встал! – озорниковато ответил Кожемякин.
Шакир снова засмеялся, согнувшись колесом, упираясь руками в колени, встряхивая головою. Девушка, медленно распутывая шаль, осторожно подвигалась к окну, от неё веяло бодрым холодом, на ресницах блестели капельки растаявшего инея, лицо горело румянцем, но глаза её припухли и смотрели печально.
– Ты – что? – заботливо спросил старик.
Она улыбнулась, видимо, через силу.
– Так.
Голос её вздрогнул, оборвался, и она закрыла глаза мокрыми ресницами. Кожемякин, тихонько вздохнув, взял её руку.
– Помер, что ли, Хряпов-то?
Она молча кивнула головой, присев на ручку его кресла, потом сказала:
– В три часа ночи...
Это проплыло над стариком, как маленькое серое облако по светлому небу весеннего дня.
"Боялась сказать, берегла меня", – благодарно отметил он, а вслух покорно выговорил, крестясь:
– Упокой господи! Что ж – вот и я скоро...
– Нет! – воскликнула девушка.
Ему был приятен этот протестующий крик. Чувствуя, что нужно ещё что-нибудь сказать о Хряпове, он задумался, разглядывая её побледневшее лицо и увлаженные глаза, недоуменно
смотревшие в окно. Но думалось ему не о Хряпове, а о ней.
– Как трудно он... – заговорила Люба тихонько.
– Умирал, – подсказал Кожемякин.
– Да. Ужасно!
Она пугливо взглянула в глаза старика и заговорила свободнее.
– Помните – он любил говорить: "Это я шучу"? Последний раз он сказал это около полуночи и потом вскоре – сразу начал биться, кричать: "Уберите, отодвиньте!" Это было страшно даже...
– Что – уберите? – спросил Кожемякин.
– Не знаю. Ваня стал выносить разные вещи и мебель выдвигать...
– Плачет Иван-то?
– Да. Не очень. Он испугался...
– А ты?
– Я?
Подумав, она ответила:
– Когда он умирал – было боязно, а потом – обидно, к чему эти мучения? Я не понимаю. Не нужно это и жестоко!
Кожемякин вздохнул медленно и так глубоко, что кольнуло в сердце, сладко закружилась голова, потом он сказал, тиская пальцами её руку:
– Хорошо будет людям около тебя, – дай тебе господи силы на всех!
А через два дня он, поддерживаемый ею и Тиуновым, уже шёл по улицам города за гробом Хряпова. Город был окутан влажным облаком осеннего тумана, на кончиках голых ветвей деревьев росли, дрожали и тяжело падали на потную землю крупные капли воды. Платье покрывалось сыростью, точно капельками ртути. Похороны были немноголюдны, всего человек десять шагало за гробом шутливого ростовщика, которому при жизни его со страхом кланялся весь город. Гроб – тяжёлую дубовую колоду – несли наёмные люди.
Но казалось однако, что весь город принимает издали участие в этих похоронах без блеска, без певчих: всюду по улицам, точно жучки по воде устоявшегося пруда, мелькали озабоченные горожане, на площади перед крыльцом "Лиссабона" и у паперти собора толклись по камням серые отрёпанные люди, чего-то, видимо, ожидая, и гудели, как осы разорённого гнезда. Разъезжали деревянные стражники, опустив правую руку с нагайкой в ней, медленно вышагивал в тумане городовой Капендюхин, было много пьяных, летал на дрожках, запряжённых пегим коньком, Сухобаев и, прищурив острые глаза, смотрел вперёд, ища чего-то в густом тумане. Прыгая через грязь, спешно бежали в разные стороны мужчины и женщины, полы чуек (чуйка – долгий, суконный кафтан халатного покроя, армяк или шуба без висячего ворота, с халатным, косым воротником, иногда с чёрными снурами и кистями – Ред.) и юбки развевались, как паруса, и люди напоминали опрокинутые ветром лодки на сердитых волнах озера. Глухой гул человечьих голосов плавал по городу, а стука бондарей – не слышно, и это было непривычно уху. Казалось, что и дома напряжённо открыли слуховые окна, ловя знакомый потерянный звук, но, не находя его, очень удивлялись, вытаращив друг на друга четыреугольные глаза, а их мокрые стёкла были тусклы, как бельма. Соборная колокольня, всегда красная, мясистая, сегодня была сизой и словно таяла, её тяжёлые резкие формы были обсосаны туманом.
Кожемякин, шагая тихонько, видел через плечо Вани Хряпова пёстрый венчик на лбу усопшего, жёлтые прядки волос, тёмные руки, сложенные на бугре чёрного сюртука. В гробу Хряпов стал благообразнее – красные, мокрые глаза крепко закрылись, ехидная улыбка погасла, клыки спрятались под усами, а провалившийся рот как будто даже улыбался другой улыбкой, добродушной и виноватой, точно говоря:
"Ну – вот, нате, умер я..."
Никто из провожатых не говорил о покойнике – шептались и ворчали о делах города.
Но порою из тумана выплывала целая толпа мастеровых и слобожан, шумно окружала гроб, спрашивала: