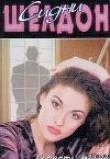Текст книги "Жизнь Матвея Кожемякина"
Автор книги: Максим Горький
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 29 страниц)
Марфа медленно приподнялась на постели, села и, закрыв лицо руками, вдруг тихонько завыла. Кожемякин спрыгнул на пол, схватил её за плечи, испуганный, удивлённый.
– Что ты? О чём?
Она не отвечала, растекаясь в слезах, и густо, по-волчьи тянула:
– Оу-у-у-у...
Рубашка спустилась с плеч её, большое белое тело вздрагивало, точно распухая, и между пальцев просачивалась влага обильных слёз.
– Да что ты? – шептал он, пытаясь отнять руки от её лица; она ткнула его локтем в грудь, яростно взвизгнув:
– Поди прочь!
Тяжело свалилась с постели, отвернулась в сторону и, одеваясь, проныла жалобно и тихо:
– Жулики вы, жулики!
Кожемякин тоже поспешно оделся, молча вышел из полутёмной, одною лампадой освещённой комнаты в зал, оглянулся ошеломлённый, чувствуя, что случилось что-то скверное. Вышла Марфа, накинув на голову шаль, спрятав в ней лицо, и злым голосом сказала:
– Что расселся? Ступай, говорю!
Он подошёл к ней, тихо спрашивая:
– Почему, Марфа, а? За что ты?
– Нечего тебе тут делать, – угрюмо ответила она, не глядя на него, откачнулась к стене, оперлась о неё широкой спиной и снова завыла, в явном страхе, отчаянно и приглушённо:
– Что мне теперь бу-удет!
Тогда Кожемякин сорвал с неё шаль, схватил за голову, сжал щёки ладонями и хрипло спросил, задыхаясь со зла и обиды:
– Алёшка – знал?
– Пусти, – упираясь в грудь ему мягкими руками, сердито крикнула она.
– Гляди мне в глаза, – знал? Это ты с его согласия, ну?
Женщина присела, выскользнула из его рук, отбежала к двери и, схватившись за ручку её, заговорила быстрым шёпотом, покраснев до плеч, сверкая глазами и грозя кулаком:
– А ты, чай, думал – своей охотой я связалась с тобой, бабья рожа? Накося!
И, показав ему кукиш, стала стучать лбом о дверь, снова воя и вскрикивая:
– Ой, как я буду теперь, го-осподи-и! Сволочи вы, сво-лочи-и....
– Ах ты... – не утерпел Кожемякин, подвигаясь к ней.
Но, обругав её площадным словом, почувствовал, что ему жалко бабу, страшно за неё.
Она опустилась на пол в двери, потом, вскочив, безумно вытаращила глаза и, размахивая руками, закричала:
– Не лай, пёс!
Кожемякин поймал её, обнял и, целуя мокрое лицо, просил виновато:
– Ну – прости! Это я зря, прости! Эх ты, овца недорезанная, бедная ты моя, жалко мне тебя как – не поверишь! Это значит – торговал он тобою, как настоящий мясник, а? Что ж ты мне не сказала прямо, сразу, а?
– Отстань, – вырывалась она не сильно, видимо, успокаиваясь под его ласками, глаза её блуждали по комнате, словно ища чего-то, и руки тряслись.
Он готов был плакать от нестерпимой жалости к ней, но сердце его горело сухо и подсказывало вопросы о Посулове:
– Зачем это он – из-за денег?
– А я знаю?
– Ну – как ты думаешь? Чего он добивался, на что рассчитывал?
Оттолкнув его, она опустилась на стул и сказала грубо:
– Стану я думать про ваши пакости!
– Да ведь делала ты их?
– Так что? – бормотала она. – Не своей волей, он за меня богу ответчик...
Не думая, со зла на Посулова, Кожемякин предложил ей:
– Вот что, Марфа, бросай мужа, переходи ко мне!
Но она, вскинув голову, сердито усмехнулась в лицо ему, укоризненно сказав:
– Эко вывез! А ещё говорят – начитанный ты да умный! Разве можно от мужа уходить? Это – распутницы делают одни...
– Какой он тебе муж, дура! – крикнул Кожемякин.
– Законный, венчанный! А ты – уходи! – бормотала она, глядя в пол.
Потом, смешно надув губы, задумалась на минуту и вдруг снова ясно проговорила:
– И Николая нет. Господи...
– Какого Николая?
– Никакого! Что тебе? – закричала она, сидя, точно связанная.
В комнате было темно и тесно; Кожемякин, задевая за стулья и столы, бродил по ней, как уставшая мышь в ловушке, и слышал ворчливый голос:
– А ещё думала я – с этим, мол, хоть слово сказать можно. А ты тоже только сопеть умеешь...
Лицо у неё было новое: слиняло всё и дрожало, глаза округлились и тупо, оловянные, смотрели прямо перед собою, должно быть, ничего не видя.
– Прощай, – сказал Кожемякин, протянув ей руку.
Она повела плечом и, не подав ему руки, отвернувшись, сурово сказала:
– Иди – бог простит...
Кожемякин вышел на улицу в облаке злых мыслей: хотелось сделать что-то такое, что на всю жизнь ущемило бы сердце Посулова неизбывной болью и обидой.
В бескрасочной мутной дали полинявших полей, на краю неба стояла горой синеватая туча, от неё лениво отрывались тяжёлые клочья и ползли к городу низко над холмами.
"Выберу целковый похуже, поистрёпанней, – выдумывал он, шагая вдоль заборов, – и пошлю ему с припиской: за пользование женой твоей хорошей, с твоего на то согласия. Нельзя этого – Марфу заденешь! А – за что её? Ну, и несчастна же она! И глупа! Изобью Алёшку..."
С этим решением, как бы опасаясь утратить его, он быстро и круто повернул к "Лиссабону", надеясь встретить там мясника, и не ошибся: отвалясь на спинку стула, надув щёки, Шкалик сидел за столом, играя в карты с Никоном. Ни с кем не здороваясь, тяжело топая ногами, Кожемякин подошёл к столу, встал рядом с Посуловым и сказал приглушённым голосом:
– Здорово!
– Здравствуй, – ответил мясник, рассматривая карты. – Ты что – забыл, где я живу?
Он не взглянул на Кожемякина и говорил равнодушно, покачивая головой, озабоченно подняв веер карт к носу, точно нюхая их.
Кожемякин пододвинул ногою стул, грузно опустился на него и молчал, губы его тряслись. Он смотрел сбоку на Посулова, представляя, как ударит кулаком по этой сафьяновой, надутой щеке, по тяжёлому красному уху, и, предвкушая испуг, унижение мясника, дрожал весь мелкой злой дрожью.
– Ты что какой? – спросил Никон.
– Я? Я вот у него в гостях был! – глухо сказал Кожемякин. – У его жены, – хороша жена у тебя, Алексей Иванов!
Тогда Посулов привстал, опираясь рукою о спинку стула, вытянул шею и, мигая невидимыми глазами, хрипло переспросил:
– Жена? Что?
– Хороша! – злобно крикнул Кожемякин, ударив рукой по столу. – Эх ты, мясник...
Никон, бросив карты, вскочил на ноги. Пьянея со зла и уже ничего не видя, кроме тёмных и красных пятен, Кожемякин крикнул:
– А деньги я Сухобаеву отдал, ошибся ты, мошенник!
Посулов ударил его снизу вверх в правый бок, в печень, – задохнувшись, он упал на колени, но тотчас вскочил, открыв рот, бросился куда-то и очутился на стуле, прижатый Никоном.
– Пусти – дай я его! – хрипел Кожемякин.
– Стой! Убежал он!
Никон взял его под руку и быстро повёл, а он бормотал, задыхаясь:
– Бить её – не дам!
Потом в каком-то чулане, среди ящиков, Кожемякин, несколько успокоенный Никоном, наскоро рассказал, что случилось, гармонист выслушал его внимательно и, свистнув, засмеялся, говоря успокоительно:
– Во-он что! Сначала он меня всё подговаривал обыгрывать тебя, а деньги делить. Экой дурак, право! Даже смешно это!
И, пристально взглянув в глаза Кожемякину, строго спросил:
– Ну, а ты что развоевался? Позоришь себя на народе... Идём-ка, зальём им языки-то. Веселее гляди!
– Бить её побежал он? – спросил Кожемякин, уступая его толчкам.
– Ну – побьёт! Думаешь – она этого не стоит? Больно он тебя ударил?
– Прошло.
– Я ему и помешать не успел. Всё это надо погасить, – говорил Никон внушительно, – ты угости хорошенько всех, кто тут есть, они и забудут скандал, на даровщинку напившись. Надо соврать им чего-нибудь. В псалтыре сказано на такие случаи: "Коль ложь во спасение".
Его отношение к событию успокоило Кожемякина, он даже подумал:
"Зря всё это я сделал!"
В трактире сидели четверо: брат Никона, Кулугуров, Ревякин и Толоконников.
Никон сразу сделался весел, достал из-за стойки гитару и, пощипывая струны, зашумел:
– Эх, угощай, Кожемякин, топи душу, а то – вылетит! Купечество, – что губы надуло?
Подошёл Ревякин, хлопнул ладонями под носом Кожемякина и крикнул:
– Чук!
Весело засмеялся, а потом спросил;
– За что тебя Шкалик ударил?
– Э, – пренебрежительно махнув рукою, сказал Никон, – дурак он! Всё привязывался, денег взаём просил, а Кожемякин отказал ему, ну, вот!
Кулугуров поучительно говорил:
– Ты – слушай: Посулов человек не настоящий и тебе вовсе не пара, он жулик, а ты – прост, ты – детский человек...
– Не хочу я о нём помнить, – возбуждённо кричал Матвей Савельев. Обидел он меня, и – нет его больше!
Ревякин ловил мух, обрывал им крылья и гонял по тарелке, заботясь, чтобы муха делала правильный круг. Семён Маклаков недоверчиво следил за его усилиями и бормотал, покашливая:
– Мухи – это самое глупое, – видишь – не понимает она, не может...
Через час все были пьяны. Ревякин, обнимая размякшего Матвея Савельева, шептал ему на ухо:
– Я знаю, чем всё кончится, я, брат, имею слуг таких – мне всё известно вперёд за день! Есть такие голоса...
И, распуская половину лица в улыбку, неожиданно вскрикивал:
– Чук!
Толоконников, маленький и круглый, точно кожаный мяч, наклонив к лицу Матвея Савельева свою мордочку сытого кота, шевелил усами и таинственно рассказывал:
– Ты – слушай: пришёл со службы слободской один, Зосима Пушкарёв, а служил он на границах, н-ну, понял?
– Да?
– На границах, милый! И говорит он – завелись-де новые там люди, всё ходят они по ночам взад-вперёд и ходят туда-сюда, – неизвестно кто! И велено их ловить; ловят их, ловят, а они всё есть, всё больше их, да-а...
Кулугуров кричал:
– Шпионы! Это – к войне!
А Ревякин, хитро подмигивая всем, говорил:
– Ну, – не-ет! Это не к войне... Я знаю – к чему! Я голоса слышу...
И, закрыв разъединённые глаза, сладостно думал о чём-то.
Никон, отвалясь на спинку стула, щипал струны гитары, кусал усы и глядел в потолок, а Кожемякин, обнимая всех одним взглядом, смеялся тихонько, любуясь Никоном.
Вдруг кто-то встал в дверях и оглушительно крикнул:
– Посулов жену зарезал!..
Всё вокруг покачнулось, забилось, спуталось и поползло куда-то, увлекая с собою Кожемякина.
В его памяти навсегда осталось белое лицо Марфы, с приподнятыми бровями, как будто она, задумчиво и сонно прикрыв глаза, догадывалась о чём-то. Лежала она на полу, одна рука отброшена прочь, и ладонь открыта, а другая, сжатая в пухлый кулачок, застыла у подбородка. Мясник ударил её в печень, и, должно быть, она стояла в это время: кровь брызнула из раны, облила белую скатерть на столе сплошной тёмной полосой, дальше она лежала широкими красными кружками, а за столом, на полу, дождевыми каплями.
Кожемякин, прислонясь к стене, упорно разглядывая этот страшный рисунок, меловое лицо женщины и её точно за милостыней протянутую ладонь, стоял и, всхлипывая, говорил Никону:
– Где же он? Надо найти его! Как же это? Он ей сам велел...
– Молчи, – шептал Никон, толкая его в бок.
У лежанки, опираясь на неё руками, стоял, вздрагивая и дико вытаращив глаза, высокий рыжий парень лет двадцати, пьяный Кулугуров грозил кулаком ему и шептал:
– Что-о? Довёл ты, кобель, хозяина-то до дела, до Сибири, ага?
Вся комната, весь дом был наполнен шёпотами.
– Связать парня надо...
– Зеркало-то занавесьте.
Даже полицейские двигались тихонько и говорили вполголоса.
Никон сердито схватил руку Кожемякина, повёл его к двери, но на пороге явился какой-то мальчишка, крикнув: – Нашли, в хлеву, висит, задавился!
– Не ори! – густо сказал Кулугуров, протянув в сторону покойницы невероятно длинную руку.
Комната налилась тяжёлой тишиной, воздух из неё весь исчез, пол опустился, Кожемякин, охнув, схватил себя за грудь, за горло и полетел куда-то.
Очнулся он дома, у себя на постели, около него сидел Никон, а Машенька Ревякина стояла у стола, отжимая полотенце.
– Ну, вот, слава богу! – грубо и сердито говорил Никон. – Чего ж ты испугался? Не с тобой одним она путалась!
– Здесь вот двое любовников её, – вставила Машенька, вздохнув и подходя к постели.
– Не завидуй, Марья! – зло сказал Никон. – У неё Николка-приказчик постоянным был.
Кожемякину стало тяжко слушать, как они безжалостно говорят о покойнице и сводят свои счёты; он закрыл глаза, наблюдая сквозь ресницы. Тогда они стали говорить тише, Никон много и резко, бледный, растрёпанный, кусая усы, а Машенька изредка вставляла короткие слова, острые, как булавки, и глаза её точно выцвели.
Крадучись, улыбаясь и мигая, вошёл Ревякин, сел за стол и, вытирая мокрое лицо, шёпотом попросил:
– Дайте попить!
Поглядел правым глазом на постель.
– Спит?
– Что там? – спросила жена, подвигая к нему графин с квасом; он поднял графин, посмотрел его на свет и, усмехаясь, ответил:
– Чук! Полиция выгнала всех...
Все трое сидели за столом, одинаково положив локти на стол, и, переглядываясь, ворчали тихонько, наводя на хозяина страх и тоску.
"Господи! – думал он. – Вдруг и тут то же случится что..."
Ревякин вертел головой то в одну сторону, то в другую, и казалось, что у него две головы, обе одноглазые.
Машенька сказала, играя пальцами:
– Шкалику всё равно было – либо в петлю, либо в нищие...
"Среди каких людей я живу!" – подумал Кожемякин и застонал.
Подбежала Машенька, наклонилась к его лицу и ласково, испуганно спросила:
– Что – больно?
– Сердце...
Муж её тоже встал, сел в ногах больного и заговорил тихонько:
– У меня тоже сердце так иной раз сожмётся, словно и нет его. Тут надобно читать шестой псалом.
Он отвёл живой глаз в сторону и забубнил нараспев:
– "Помилуй мя, господи, яко истощён есмь, яко смятошася кости моя и душа моя смятеся" – голоса вечные, брат!
Кожемякин приподнялся, сел и грубо крикнул:
– Что ты – как над покойником!
А Машенька, махнув рукою на мужа, точно на шмеля, скучно сказала:
– Перестань-ко врать, смятоша-святоша! И сердце у тебя не болит, и псалмов ты не знаешь...
– Чук! – воскликнул Ревякин, отскакивая, примирительно вытянув руки и тряся лысой головой. – Кого я обижаю?
– Паяц! – внятно, но негромко сказала Машенька.
Никон застучал пальцами по столу, засвистел, она повела глазами в его сторону и вздохнула:
– Один – бога тревожит, другой – чертей высвистывает.
Ревякин туго натянул на голову шапку, потом, улыбаясь, предложил Никону:
– Идём?
Они исчезли. На дворе дробно шумел дождь, вздыхал ветер, скрипели деревья, хлопала калитка, Кожемякин прислушивался ко всему, как сквозь сон, вяло соображая:
"Будут меня допрашивать или нет?"
Машенька, расхаживая по комнате сложив руки на груди, осматривала всё и говорила:
– Пыли-то везде сколько! И уж как давно самовар заказан, а всё нет его. Плохо без бабы, Матвей Савельич?
Ему не хотелось отвечать, но он боялся, что молчание обидит её и она уйдёт.
– Неуютно.
– То-то же!
Самодовольный возглас женщины задел его.
– А и с вами – трудно.
– Чем?
Усмехаясь, она встала перед ним.
– Да вот, – сказал он смущённо, – как поглядишь на всё это, на семейных...
– А вы не глядите!
– Как это?
– Так, просто – не глядите да и всё.
Кухарка внесла самовар, женщина отошла к столу, хозяйски заметив:
– Вот и самовар грязный...
И, слово за словом, с побеждающей усмешечкой в тёмных глазах, обласканная мягким светом лампы, она начала плести какие-то спокойные узоры, желая отвести его в сторону от мыслей о Марфе, разогнать страх, тяжко осевший в его груди.
– Вам бы поискать вдову хорошую, молодую женщину, испытанную от плохого мужа, чтобы она оценила вас верной ценой. Такую найти – невелик бы труд: плохих-то мужей из десяти – девять, а десятый и хорош, да дурак!
Кожемякин немного обиделся.
– Значит – хороших вовсе нет?
– Не видала.
– А жён хороших – много?
– Встречаются. Ведь сколько вы нас ни портите, а всё мы вас лучше добрее, да и не глупей.
В упор глядя на него, она вызывающе продолжала:
– Вот я хорошая жена: без меня бы Викторка как червяк погиб, ведь он полоумный. Никто этого не замечает, смеются над ним – чудит, дескать, а я-то знаю, что он с ума сходит. А что я с Никоном живу – сам виноват: если я для него – баба и только ночью – рядом, я и для другого тоже баба, мало ли приятных мужиков-то! Ты, муж, будь для меня человек лучше других, чтоб я тебя уважала и с гордостью под руку с тобой шла улицей – тогда я баловать не стану, нет! И захочется пошалить – перемогусь, а не сдамся, да ещё похвастаюсь: вот, мол, муженёк дорогой, какой мужик приставал ко мне, куда он красивее тебя, а я тебе осталась чистой! И всегда так будет, мил-друг: в мыслях другого-то, может, и подержу, а с собой – не положу, если ты мне закон не по церкви да по хозяйству, а – по душе!
Говорила она, словно грозя кому-то, нахмурив брови, остро улыбаясь; голос её звучал крепко, а руки летали над столом, точно белые голуби, ловко и красиво.
– А ежели так вот, как Марфа жила, – в подозрениях да окриках, – ну, вы меня извините! Мужа тут нету, а просто – мужик, и хранить себя не для кого. Жалко мне было Марфу, а помочь – нечем, глупа уж очень была. Таким бабам, как она, бездетным да глупым, по-моему, два пути – в монастырь али в развратный дом.
– А что, – спросил Кожемякин, чувствуя к ней доверие, – Никона вы любите?
Прикрыв глаза, она подумала и, улыбаясь, сказала:
– Так себе – часами. Когда рядом – ничего, а издали – не очень. Обошлась бы и без него, не охнув. Вы ведь – приятели?
– Как будто – ничего себе.
– Вот, скажите ему эти мои слова, – попросила она.
– Зачем?
– А вы скажите!
– Рассердится он на вас.
– Поленится.
И, минутку подумав, она добавила тише:
– Он на женщин счастлив.
– Хороший парень, – благодарно сказал Кожемякин.
– Да-а, – не сразу отозвалась она. – Бесполезный только – куда его? Ни купец, ни воин. Гнезда ему не свить, умрёт в трактире под столом, а то под забором, в луже грязной. Дядя мой говаривал, бывало: "Плохие люди – не нужны, хорошие – недужны". Странником сделался он, знаете – вера есть такая, бегуны – бегают ото всего? Так и пропал без вести: это полагается по вере их – без вести пропадать...
Просидела она почти до полуночи, и Кожемякину жалко было прощаться с нею. А когда она ушла, он вспомнил Марфу, сердце его, снова охваченное страхом, трепетно забилось, внушая мысль о смерти, стерегущей его где-то близко, – здесь, в одном из углов, где безмолвно слились тени, за кроватью, над головой, – он спрыгнул на пол, метнулся к свету и – упал, задыхаясь.
Хворал он долго, и всё время за ним ухаживала Марья Ревякина, посменно с Лукерьей, вдовой, дочерью Кулугурова. Муж её, бондарь, умер, опившись на свадьбе у Толоконниковых, а ей село бельмо на глаз, и, потеряв надежду выйти замуж вторично, она ходила по домам, присматривая за больными и детьми, помогая по хозяйству, – в городе её звали Луша-домовница. Была она женщина толстая, добрая, черноволосая и очень любила выпить, а выпив весело смеялась и рассказывала всегда об одном: о людской скупости.
– У Веденеевых старуха после обеда пирог ниткой меряет и в карман прячет нитку.
И хохочет продолжительно, иногда до того, что слёзы текут из глаз.
– Говорю я Быкову: "Тимофей Павлыч, а ведь ты свиней кормишь лучше, чем работников". – "Так, говорит, и надо: жирный работник к чему мне? А свинья для меня живёт, она – вся моя!"
И снова зальётся смехом.
Казалось, что, кроме скупости и жадности, глаза её ничего не могут видеть в людях, и живёт она для того, чтобы свидетельствовать только об этом. Кожемякин морщился, слушая эти рассказы, не любил громкий рассыпчатый смех и почти с отчаянием думал:
"Прекратятся ли когда осуждения эти?"
Иногда он просил её:
– Луша, не надо, не говори – я уж знаю...
– Али я рассказала уж? – удивлённо спрашивала она и, помолчав некоторое время, снова улыбаясь, открывала рот:
– А у Бредовых...
Болезнь заставила Кожемякина поторопиться с духовным завещанием в пользу города; он послал за попом Александром.
Поп пришёл и даже испугал его своим видом – казалось, он тоже только что поборол жестокую болезнь: стал длиннее, тоньше, на костлявом лице его, в тёмных ямах, неустанно горели почти безумные глаза, от него жарко пахло перегоревшей водкой. Сидеть же как будто вовсе разучился, всё время расхаживал, топая тяжёлыми сапогами, глядя в потолок, оправляя волосы, ряса его развевалась тёмными крыльями, и, несмотря на длинные волосы, он совершенно утратил подобие церковнослужителя.
Когда Кожемякин рассказал ему свой план, поп обрадовался, перекрестил его, поцеловал, точно мёртвого, в лоб и горячо заговорил:
– Так вот чем разрешился тихий ваш бунт!
Кожемякин, вспомнив о Максиме, тяжело вздохнул:
– Уж какой – тихий!
Но поп продолжал, подняв палец к лицу своему и глядя на него:
– Да, да, – тихий! Мы все живём в тихом бунте против силы, влекущей нас прочь от родного нам, наша болезнь – как это доказано одним великим умом – в разрыве умственной и духовной сущности России, горе нашей души в том, что она сосуд, наполняемый некой ядовитой влагой, и влага эта разъедает его! О, несчастная Русь!
Он воздел руки вверх и потряс ими, а Кожемякин, не понимая смысла его слов, не веря ему, подумал: "А что она такое – Русь?"
– Противоборствуют в каждом из нас два начала: исконное, родное, и привитое нам извне, но уже отравившее кровь нашу, – против сего-то последнего – весь давний наш, тихий бунт! – всё горячее говорил поп, как будто сам себе. А Кожемякин вспоминал речи Тиунова – кривой говорил тихо, но как будто кричал, этот же выгоревший изнутри человек кричал, а речи его не доходили до сердца. Слушать попа было утомительно, и, когда он заговорил о хлыстах, бегунах и других еретиках, отпавших от церкви в тайные секты, Кожемякин прервал его, спросив:
– А что, матушка очень сердится на меня?
Поп остановился среди комнаты, словно прислушался к отдалённому, не понятому им звуку или вспоминая что-то забытое, помолчал и тоже спросил:
– Как вы сказали?
Кожемякин повторил, робея.
Тогда поп сел на стул и, оправляя волосы обеими руками, грустно проговорил:
– Она – никогда не сердится. Она есть некая мера, налагаемая на всё бескрылым разумом, и всё, что неизмеримо этой мерой, перестает быть.
Улыбнулся нехорошей, дрожащей улыбкой, вздохнул:
– Всё, чего разум не вмещает, – не существует!
И снова вскочил на ноги, широко размахнув рукавами рясы.
– Но разум не может вместить многого, что оскорбительно, нелепо, убийственно духу...
Наклонился к лицу Кожемякина и прошептал, обдав его запахом водки:
– А оно – существует однако!
– Да-а, – сказал больной, устало прикрывая глаза.
Поп, стараясь не стучать сапогами, отошёл от кровати, надел шляпу и, как слепой, вытянув руку вперёд, ушёл.
Кожемякину было неловко и стыдно: в тяжёлую, безумную минуту этот человек один не оставил его, и Матвей Савельев сознавал, что поп заслуживает благодарности за добрую помощь. Но благодарности – не было, и не было доверия к попу; при нём всё становилось ещё более непонятным и шатким.
А он стал являться чаще, принося с собою бумаги, читал и сам же браковал их.
"Видно, некуда больше ходить ему", – равнодушно думал Кожемякин.
Однажды поп застал у него Машеньку с Никоном, поздоровался с ними ласково, как со знакомыми, и, расхаживая по комнате, стал, радостно усмехаясь, присматриваться к ним, а они на него смотрели, как вороны на петуха.
– Гляжу я на вас, – вдруг сказал он, – какая вы славная, ладная пара!
Машенька наклонилась, чтобы спрятать покрасневшее лицо.
– Давно женаты? – спросил поп, остановясь около неё.
– Мы – не женаты, – торопливо и угрюмо сказал Никон, покусывая усы.
Кожемякин, сконфуженный, прибавил:
– Это – кум с кумой.
Машенька встала, спокойно говоря:
– Врут они оба, батюшка, я у этого, кудрявого-то, в любовницах, помните, каялась вам на духу?
Поп отступил от неё, потемнел, смутился и забормотал, спрятав руки в карманы:
– Да... вот как? Я не помню, но... Да, – это особый случай...
Он стал беспомощен, как ребёнок, заговорил о чём-то непонятном и вскоре ушёл, до слёз жалкий, подобный бездомному бродяге, в своей старенькой, измятой шляпе и вытертой по швам, чиненой рясе.
Ревякина пошла провожать его, а Никон, поглядев вслед ей, спросил:
– Видал, как Машка-то озорничает?
– Да, – облегчённо вздыхая, сказал Кожемякин. – А я думал, он вас проберёт!
Никон встал, пошёл кругом по комнате, говоря как бы сам с собою, опустив голову:
– Нравится мне этот поп, я и в церковь из-за него хожу, право! Так он служит особенно: точно всегда историю какую-то рассказывает тихонько, по секрету, – очень невесёлая история, между прочим! Иногда так бы подошёл к нему один на один спросить: в чём дело, батюшка? А говорить с ним не хочется однако, и на знакомство не тянет. Вот дела: сколь красивая пичужка зимородок, а – не поёт, соловей же – бедно одет и серенько! Разберись в этом!
Вошла Машенька, остановилась против Никона, сложив руки на груди, и ехидно спросила:
– Что – испугался правду-то сказать?
Он поднял руку в уровень её головы, легонько толкнул в лоб и ответил, усмехнувшись:
– Отстань. Какая там правда? Озорство твоё только...
"Хорошо, что не женился я!" – в десятый раз подумал Кожемякин.
За время болезни Кожемякина они укрепились в его доме, как в своём, а Машенька вела себя с хозяином всё проще, точно он был дряхлый старик; это даже несколько обижало его, и однажды он попенял ей:
– Уж больно просто ты со мной ведёшь себя, словно я мальчишка!
Женщина весело засмеялась.
– Ну, вот ещё! Разве ты в любовники годишься? У тебя совесть есть, ты не можешь. Ты вон из-за Марфы и то на стену полез, а что она тебе? Постоялый двор. Нету, тебе на роду писано мужем быть, ты для одной бабы рождён, и всё горе твоё, что не нашёл – где она!
Когда Никон узнал, что Кожемякин отказал всё имущество городу, а деньги отдал Сухобаеву в оборот, – он равнодушно проговорил:
– Это и лучше, без забот тебе. А Сухобаев не обманет, он сделает всё, как надо. Он прежде – честолюбец, а потом – всё другое.
Марья же очень удивилась, долго смотрела в лицо Кожемякина круглыми глазами, видимо, не веря ему, и брови её дрожали.
– Так-таки всё и отдал?
– Всё.
Поджав губы, подумав, сказала:
– Экой грех какой!
– Отчего – грех?
– Да так.
И, вздохнув, добавила:
– Вот что значит один человек!
– Не понимаешь ты этого дела, – сказал Кожемякин, немного задетый её отношением.
– Не понимаю, – созналась она.
Долго молчала и наконец, жалобно глядя на него, спросила:
– Может, лучше бы усыновить кого, ему бы отдать, сироте? А то – город! Как это? Тут все – разные...
Он начал объяснять ей, волнуясь и поучая, она слушала, облизывая губы, точно Сухобаев, и наконец, тихо засмеявшись, перебила его:
– Ну, ну, ладно! Твоё дело. И пусть на могиле твоей не полынь растет, а – малина!
Весь этот вечер она была особенно ласкова с ним, но всё-таки посмеялась ещё раз:
– Ой, Савельич, кабы все мужчины в тебя душой были – то-то бы нам, бабам, хорошо жить!
Когда он встал на ноги и вышел в город, ему стало ясно, что не одной Марье непонятен его поступок, почти все глядят на него, как на блаженного, обидно и обиженно.
Смагин уныло хрипел:
– Училища должна казна ставить, а нам бы – кредитное общество надо!
– Как сказать? – говорил Базунов, – конечно, и училище имеет тоже свой резон, однакоже...
Кулугуров смеялся:
– Что, брат, испугался смерти-то? Дорожку в рай мостишь, ага!
Очень удивил его Толоконников, – таинственно подмигнув, отвёл его в сторону и прошептал:
– Ошибся ты! В екклезиасте что сказано, забыл, кутяпа? "Познание умножает скорбь", сказано!
И, ткнув пальцем в лоб его, быстро отошёл, вдруг повеселевший отчего-то.
А Ревякин, безуспешно стараясь смотреть в лицо ему обоими глазами, несуразно бормотал:
– Дать бы эти деньги мне, эх ты! Я бы сейчас начал одно огромадное дело; есть у меня помощники, нашёл я, открыл таких людей – невидимы и неизвестны, а всё знают, всюду проникают...
Но ещё хуже, более злостно, стали смотреть на него, узнав, что он передал весь капитал в руки Сухобаева.
– Не блаженный ты, а – дурак! – кратко заявил ему Смагин, встряхивая обвислыми щеками, и Кожемякин ясно видел, что это – общее мнение о нём.
Только старый Хряпов, быстро отирая серыми, как птичьи лапы, руками обильную слезу в морщинах щёк, сказал при всех, громко:
– Правильно сделал, Кожемякин!
Вскоре Кожемякин заметил, что люди как будто устали относиться к нему насмешливо и враждебно, а вместе с этим потерялся у них и всякий интерес к нему: в гости его не звали, никто больше, кроме Сухобаева, не заходил в его дом и даже раскланивались с ним неохотно, небрежно, точно милость оказывая.
Первое время это и угнетало и сердило его, но однажды он подумал:
"Отчего ко мне льнут всё такие никчемные, никудышные люди, как Никон, Тиунов, Дроздов, и эти – нравятся мне, а к деловым людям – не лежит моя душа, даже к Сухобаеву? Почти четыре года вертелся я среди них, а что прибыло в душе, кроме горечи?"
И вдруг всё около него завертелось в другую сторону, вовлекая его в новый хоровод событий.
Никон Маклаков стал посещать его всё реже, иногда не приходил по неделе, по две. Кожемякин узнал, что он начал много пить, и с каждой встречей было заметно, что Никон быстро стареет: взлизы на висках поднимались всё выше, ссекая кудри, морщины около глаз углублялись, и весёлость его, становясь всё более шумной, казалась всё больше нарочитой.
Однажды он объявил задумчиво:
– А Петрушка Посулов хороший парень, с душой! Познакомился я с ним намедни. Сижу в "Лиссабоне", запел "Как за речкой зелен садик возрастал" поднялся в углу человек, глядит на меня, и, знаешь, лицо эдакое праздничное, знатока лицо! Потом идёт ко мне слепым шагом, на столы, на людей натыкаясь, слёзы на глазах, схватил за руку – "Позвольте, говорит, низко поклониться. Никогда, говорит, эту песню так не слыхал!" Ну, а какой я певец? Рассказываю больше, не пою. Подружились мы. Он с мальчишек по церковным хорам пел, а когда сюда ехать, уж помощником регента был. В театре игрывал и любит это... Вообще – ходок!
Никон опустил голову и засмеялся, почёсывая затылок.
– Прельстил он меня, как девица. А дела у него нет, и жить ему нечем. Отцово всё описано за долги и продано. Сухобаев купил. Да. Определил я его.
– Куда? – спросил Кожемякин.
– К Марье, в лавку...
Помолчали.
– Не боишься? – снова спросил Кожемякин.
Как ни бойся, как ни беспокойся,
А любови ты не убежишь!
– пропел Никон и засмеялся, сказав: – Дурацкая песня, из новых, Зосима привёз...
– Он чего делает, Зосима?
– Он? Пьянствует. Сон ему какой-то приснился, что ли? Всё болтает о потайных людях каких-то, о столяре, который будто все тайны знает, так, что его даже царь немецкий боится. Дай-ко, брат, водки мне.
– А что ж Марья?
– Марья? – переспросил Никон и задумался, не ответив.
Уйдя, он надолго пропал, потом несколько раз заходил выпивший, кружился, свистел, кричал, а глаза у него смотрели потерянно, и сквозь радость явно скалила зубы горькая, непобедимая тоска. Наконец однажды в воскресенье он явился хмельной и шумный, приведя с собою статного парня, лет за двадцать, щеголевато одетого в чёрный сюртук и брюки навыпуск. Парень смешно шаркнул ногой по полу и, протянув руку, красивым, густым голосом сказал:
– Пётр Алексеев Посулов.