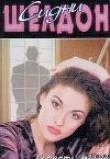Текст книги "Жизнь Матвея Кожемякина"
Автор книги: Максим Горький
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 29 страниц)
Он усиленно старался говорить как можно мягче и безобиднее, но видел, что Галатская фыркает и хотя все опять конфузятся, но уже как-то иначе, лица у всех хмурые и сухие, лицо же Марка Васильевича становилось старообразно, непроницаемо, глаза он прятал и курил больше, чем всегда.
Все слушали его молча, иногда Цветаев, переглядываясь с Галатской, усмехался, она же неприятно морщилась, – Кожемякин, заметив это, торопился, путался в словах, и, когда кончал, кто-нибудь снова неохотно говорил:
– В общем – это верно...
Чаще других, мягче и охотнее отзывался Рогачев, но и он как будто забывал, на этот случай, все слова, кроме двух:
– Это так.
И скоро Кожемякин заметил, что его слова уже не вызывают лестного внимания, их стали принимать бесспорно и, всё более нетерпеливо ожидая конца его речи, в конце торопливо говорили, кивая ему головой:
– Да, да, это так...
– Приблизительно верно, конечно...
Потом Галатская и Цветаев стали даже перебивать его напоминающими возгласами:
– Мы уже слышали это!
И дядя Марк не однажды строго останавливал их:
– Позвольте, дайте же кончить.
Кожемякин отмечал уже с недоумением и обидой: "Не оспаривают, даже и не слушают; сами говорят неумеренно, а для меня терпенья нет..."
Наконец случилось так, что Максим, не вставая со стула, заговорил против хозяина необычным складом речи, с дерзостью большей, чем всегда:
– Вы, Матвей Савельич, видно, не замечаете, что всегда говорите одно и то же, и все в пользу своего сословия, а ведь не оно страждет больше всех, но по его воле страждет весь народ.
Строгий и красивый, он всё повышал голос, и чем громче говорил, тем тише становилось в комнате. Сконфуженно опустив голову, Кожемякин исподлобья наблюдал за людьми – все смотрели на Максима, только тёмные зрачки горбуна, сократясь и окружённые голубоватыми кольцами белков, остановились на лице Кожемякина, как бы подстерегая его взгляд, да попадья, перестав работать, положила руки на колени и смотрела поверх очков в потолок.
Максим кончил говорить, поправил волосы.
– Прекрасно, очень хорошо! – воскликнула Галатская, ёрзая по дивану. Нуте-ка, хозяин, что вы скажете?
И снова стало тихо, только дядя Марк недовольно сопел.
Кожемякин поднялся, опираясь руками на стол, и, не сдерживая сердитого волнения, сказал:
– Вздорно ты балагуришь, Максим, и даже неприятно слушать...
Все тихонько загудели, зашептались, а дядя Марк, подняв руку, ласково, но строго сказал:
– Спокойно, Матвей Савельич, спокойно!
– Что мне беспокоиться? – воскликнул Кожемякин, чувствуя себя задетым этим неодобрительным шёпотом. – Неправда всё! Что мне моё сословие? Я живу один, на всеобщем подозрении и на смеху, это – всем известно. Я про то говорил, что коли принимать – все люди равны, стало быть все равно виноваты и суд должен быть равный всем, – вот что я говорю! И ежели утверждают, что даже вор крадёт по нужде, так торговое сословие – того больше...
Галатская бесстыдно и громко засмеялась, Цветаев тоже фыркнул, по лицу горбуна медленно поползла к ушам неприятная улыбка – Матвей Савельев похолодел, спутался и замолчал, грузно опустясь на стул.
– Позвольте! – сразу прекратив шум, воскликнул дядя Марк и долго, мягко говорил что-то утешительное, примиряющее. Кожемякин, не вслушиваясь в его слова, чувствовал себя обиженным, грустно поддавался звукам его голоса и думал:
"Предпочитают мальчишку..."
После спора с дворником на собрании он ночью записал:
"Сегодня Максимка разошёлся во всю дерзость, встал при всех против меня и продолжительно оспаривал, а все – за него и одобряли. Сконфузился я, конечно; в своём доме, против своего же работника спорить невместно и недостойно. Даже удивительно, как это всем руководящий Марк Васильев не усмотрел несоответствия и допустил его до слова. Будь это Шакир, человек в летах и большой душевной солидности, – другое дело, а то – молодой паренёк, вроде бубенчика, кто ни тряхни – он звякнет. Конечно, Марку-то Васильичу мысли всегда дороже людей, но однако – откуда же у Максимки свои мысли явились бы? Мысли у всех – общие, и один им источник для всех – всё тот же Марк Васильич. Стал он теперь очень занят, дома бывает мало, ночами долго гуляет в полях, и поговорить душевно с ним не удаётся всё мне. И опять я как будто начинаю чувствовать себя отодвинутым в сторону и некоторой бородавкой на чужом носу".
Незаметно прошёл май, жаркий и сухой в этом году; позеленел сад, отцвела сирень, в молодой листве зазвенели пеночки, замелькали красные зоба тонконогих малиновок; воздух, насыщенный вешними запахами, кружил голову и связывал мысли сладкою ленью.
Манило за город, на зелёные холмы, под песни жаворонков, на реку и в лес, празднично нарядный. Стали собираться в саду, около бани, под пышным навесом берёз, за столом, у самовара, а иногда – по воскресеньям – уходили далеко в поле, за овраги, на возвышенность, прозванную Мышиный Горб, оттуда был виден весь город, он казался написанным на земле ласковыми красками, и однажды Сеня Комаровский, поглядев на него с усмешечкой, сказал:
– Красив, подлец! А напоминает вора на ярмарке – снаружи разодет, а внутри – одни пакости...
Авдотья Горюшина поглядела на него пустыми глазами и заметила тихонько, не осуждая:
– Везде есть хорошие люди.
– Как во всякой лавочке – уксус, – не глядя на неё, проговорил горбун, а она, вздыхая, обратилась к Матвею Савельеву:
– Этого я не понимаю, про уксус...
Почти в первый раз она заговорила с ним, и Кожемякин вдруг обрадовался, засмеялся.
– Семён Иванович любит загадками говорить...
Сузив зрачки, горбун строго сказал ей:
– Вам и не надо ничего понимать, вам просто надо замуж выйти.
– Ой, что вы это! – воскликнула женщина, покраснев и опуская глаза.
– Верно, Матвей Савельич, замуж? – спросил горбун.
Кожемякин заговорил:
– Это – глядя за кого. Конечно, для молодой женщины замужество...
Подошла Галатская, обмахиваясь платком, прислушалась и, сморщив лицо, фыркнула:
– Фу, какие пошлости!
И пламенно начала о том, что жизнь требует от человека самопожертвования, а Сеня, послушав её, вдруг ехидно спросил:
– Что ж, по-вашему, жизнь, как старуха нищая, всякую дрянь, сослепу, принимает?
Галатская, вспыхнув, закричала, а Матвей Савельев подумал о горбуне:
"Чего он всегда при Авдотье грубит? Ведь ежели у него расчёт на неё этим не возьмёшь!"
И внимательно оглядел молодое податливое тело Горюшиной, сидевшей рядом с ним.
А через неделю он услыхал в саду тихий голос:
– Оставьте, не трогайте...
В ответ загудел Максим:
– Да ведь уж всё равно!
Кожемякин вздрогнул, высунулся в окно и снова услыхал нерешительный, уговаривающий голос женщины:
– Тут такое дело и люди такие...
– Дело делом, а сердца не задавишь, – внятно, настойчиво и сердито сказал дворник.
"Ах, кобель!" – воскликнул про себя Матвей Савельев и, не желая, позвал дворника, но тотчас же, отскочив от окна, зашагал по комнате, испуганно думая:
"Зачем это я? Что мне?"
И, когда Максим встал в двери, смущённо спросил его:
– Самовар – готов?
– Нет ещё...
– Отчего? Там пришёл кто-то.
– Авдотья Гавриловна.
Кожемякин пристально оглядел дворника и заметил, что лицо Максима похудело, осунулось, но стало ещё более независимым и решительным.
"Одолеет он её!" – с грустью подумал Кожемякин и, отвернувшись в сторону, махнул рукой.
– Ну, иди!
И снова сердито думал, стоя среди комнаты:
"Жил бы с кухаркой; женщина ещё в соку, и это в обычае, чтобы дворник с кухаркой жил. А он – эко куда заносится!"
Взглянув на себя в зеркало и вздохнув, пошёл в сад, неся в душе что-то неясное, беспокойное и новое.
Горюшина, в голубой кофточке и серой юбке, сидела на скамье под яблоней, спустив белый шёлковый платок с головы на плечи, на её светлых волосах и на шёлке платка играли розовые пятна солнца; поглаживая щёки свои веткой берёзы, она задумчиво смотрела в небо, и губы её двигались, точно женщина молилась.
Кожемякин поздоровался и сел рядом, думая:
"Тихая, покорная. Она уступит..."
Жужжали пчелы, звук этот вливался в грудь, в голову и, опьяняя, вызывал неожиданные мысли.
– Вы ведь вдова? – спросил он тихо.
– Третий год.
– Долго были замужем-то?
– Год пять месяцев...
Отвечала не спеша, но и не задумываясь, тотчас же вслед за вопросом, а казалось, что все слова её с трудом проходят сквозь одну какую-то густую мысль и обесцвечиваются ею. Так, говоря как бы не о себе, однотонно и тускло, она рассказала, что её отец, сторож при казённой палате, велел ей, семнадцатилетней девице, выйти замуж за чиновника, одного из своих начальников; муж вскоре после свадьбы начал пить и умер в одночасье на улице, испугавшись собаки, которая бросилась на него.
– Ласковый был он до вас? – участливо спросил Кожемякин.
– Н-не знаю, – тихо ответила она и тотчас, спохватясь, мило улыбнулась, объясняя: – Не успела даже присмотреться, то пьяный, то болен был, – сердце и печёнка болели у него и сердился очень, не на меня, а от страданий, а потом вдруг принесли мёртвого.
– Так что жизни вы и не испытали?
Сломав ветку берёзы, она отбросила её прочь, как раз под ноги горбатому Сене, который подходил к скамье, ещё издали сняв просаленную, измятую чёрную шляпу.
– А я думал – опаздываю! – высоким, не внушающим доверия голосом говорил он, пожимая руки и садясь рядом с Горюшиной, слишком близко к ней, как показалось Кожемякину.
Вслед за ним явились Цветаев и Галатская, а Кожемякин отошёл к столу и там увидел Максима: парень сидел на крыльце бани, пристально глядя в небо, где возвышалась колокольня монастыря, окутанная ветвями липы, а под нею кружились охотничьи белые голуби.
– Бесполезно! – вдруг разнёсся по саду тенор горбуна.
– По-озвольте! – пренебрежительно крикнул Цветаев, а Галатская кудахтала, точно курица:
– Кого, кого?
И снова голос горбуна пропел:
– Всех – на сорок лет в пустыню! И пусть мы погибнем там, родив миру людей сильных...
Кожемякин, усмехнувшись, сказал Максиму:
– Горбатый всегда так – молчит, молчит, да и вывезет несуразное.
Но, к его удивлению, Максим ответил:
– Он – умный.
А тенор Комаровского, всё повышаясь, пел:
– Голубица тихая – не слушайте их! Идите одна скромной своей дорогой и несите счастье тому, кто окажется достойным его, ибо вы созданы богом...
– Богом! – взвизгнула Галатская.
– Чтобы дать счастье кому-то, вы созданы для материнства...
– Видите? – спросил Максим, вставая с кривой усмешкой на побледневшем лице. – Он – хитрый...
– Зови их! – сказал Кожемякин, но Максим, не двигаясь, заложил руки за спину и крикнул:
– Чай пить!..
"Ревнует, видно!" – не без удовольствия подумал хозяин и вздохнул, вдруг загрустив.
К столу подошли возбуждённые люди, сзади всех горбун, ехидно улыбаясь и потирая бугроватый лоб. Горюшина, румяная и смущённая, села рядом с ним и показалась Кожемякину похожей на невесту, идущую замуж против своей воли. Кипел злой спор, Комаровский, повёртываясь, как волк, всем корпусом то направо, то налево, огрызался, Галатская и Цветаев вперебой возмущённо нападали на него, а Максим, глядя в землю, стоял в стороне. Кожемякину хотелось понять злые слова необычно разговорившегося горбуна, но ему мешали настойчивые думы о Горюшиной и Максиме.
"Тихая, покорная", – в десятый раз повторял он про себя.
И с тревожным удивлением слышал едкую речь горбуна:
– Вы кружитесь, как сор на перекрестке ветреным днём, вас это кружение опьяняет, а я стою в стороне и вижу...
Галатская, вспотев от волнения, стучала ладонью по столу, Цветаев, красный и надутый, угрюмо молчал, а Рогачев кашлял, неистощимо плевался и примирительно гудел на "о":
– Господа, полноте!
– Вижу и знаю, что это – не забава! – криком кричал Комаровский. – Не своею волею носится по ветру мёртвый лист...
Тут вдруг рассердился и Рогачев, привстал, глухим басом уговаривая Галатскую:
– Оставьте же! Это не разговор, а одно оригинальничание, кокетство!..
Заходило солнце, кресты на главах монастырских церквей плавились и таяли, разбрызгивая красноватые лучи; гудели майские жуки, летая над берёзами, звонко перекликались стрижи, кромсая воздух кривыми линиями полётов, заунывно играл пастух, и всё вокруг требовало тишины.
"Спорили бы дома, не здесь!" – устало и обиженно подумал Кожемякин, говоря вслух:
– А Марк Васильич не идёт...
Горюшина, вздрогнув, виновато оглядела всех и тихонько сказала, что не придёт сегодня дядя Марк – отец Александр заболел лихорадкой, а дядя лечит его.
– Не лихорадка у него, а запой начался! – усмехаясь, пояснил Сеня.
Горюшина, вздохнув, опустила глаза.
"Овца!" – подумал Кожемякин, разглядывая синеватую полоску кожи в проборе её волос, и захотел сказать ей что-нибудь ласковое, но в это время Комаровский сердито и насмешливо спросил:
– Почему вы говорите лихорадка, зная, что у попа – запой?
– Зачем же рассказывать плохое? – ответила она.
– Так! – с удовольствием сказал Кожемякин.
Но Сеня поглядел по очереди на него, на Горюшину и снова спросил, кривя рот:
– Надеетесь, что плохое само собою исчезнет, если молчать о нём?
Сзади Кожемякина шумно вздохнул Максим, говоря:
– Вот привязывается человек!.. Не отвечайте ему, Авдотья Гавриловна.
"Надо бы мне заступиться за неё!" – чуть не вслух упрекнул себя Кожемякин.
А Галатская, поправив на голове соломенную шляпу с красным бантом, объявила:
– Ну-с, мы уходим...
Цветаев надевал белую фуражку столь осторожно, точно у него болела голова и прикосновение к ней было мучительно. Рогачев выпрямился, как бы сбрасывая с плеч большую тяжесть, и тихо сказал:
– До свиданья!
И гуськом, один за другим они пошли по дорожке.
– Видели вы, – спросил Комаровский, – как она в самовар смотрелась, Галатская-то, поправляя шляпу?
– Разве это нехорошо? – тихо осведомилась Горюшина.
– Смешно...
Женщина, недоверчиво взглянув на него, сказала:
– Почему же? Если шляпа криво надета – тогда смешно...
– Нет, – резко и задорно говорил Комаровский, – смешно, когда урод смотрит сам на себя.
– Ещё смешнее другим людям глядеть на него, – тяжело выговорил Максим.
Кожемякин видел, что дворник с горбуном нацеливаются друг на друга, как петухи перед боем: так же напряглись и, наклонив головы, вытянули шеи, так же неотрывно, не мигая, смотрят в глаза друг другу, – это возбуждало в нём тревогу и было забавно. Он следил за женщиной: видимо, не слушая кратких, царапающих восклицаний горбуна и Максима, она углублённо рассматривала цветы на чашке, которую держала в руках, лицо её побледнело, а пустые глаза точно паутиной покрылись. Он смотрел на неё с таким чувством, как будто эта женщина должна была сейчас же и навсегда уйти куда-то, а ему нужно было запомнить её кроткую голову, простое лицо, маленький, наивный рот, круглые узкие плечи, небольшую девичью грудь и эти руки с длинными, исколотыми иглою пальцами.
"Съедят её, в кусочки разорвут, – думал он, торопливо убеждая себя в чём-то. – Чужие для неё эти..."
В тишине сада, ещё опыленного красноватою пылью вечерней зари, необычно, с какими-то ласковыми подвизгиваниями растекался тонкий голос горбуна:
– Человек хотел бы жить кротко и мирно, да, да, это безопасно и просто, приятно и не требует усилий, – но как только человек начнёт готовиться к этому – со стороны прыгает зверь, и – кончено! Так-то, добрейший...
Его совиные глаза насмешливо округлились, лицо было разрезано тонкой улыбкой на две одинаково неприятные половины, весь он не соответствовал ласковому тону слов, и казалось – в нём говорит кто-то другой. Максим тоже, видимо, чувствовал это: он смотрел в лицо горбуна неприязненно, сжав губы, нахмурив брови.
– Есть такое учение, – вкрадчиво подвизгивая, продолжал горбун, побеждают всегда только звери, человек же должен быть побеждён. Учение это более убедительно, чем, например, евангелие, – оно особенно нравится людям с крепкими кулаками и без совести. Хотите, я дам книжечку, где оно рассказано очень понятно и просто?
– Не хочу, – сказал Максим.
– Да? Впрочем, и не надо – вы и без книжки можете в лучшем виде исполнить это учение...
Максим подвигался к нему медленно, как будто против своей воли, Кожемякин крякнул, тревожно оглянувшись, а Горюшина вдруг встала, пошатнулась и, мигая глазами, протянула Кожемякину руку.
– Прощайте, мне пора!
– И мне! – сказал горбун.
Максим странно зашаркал ногами по земле, глядя, как они уходят из сада и Горюшина, шагая осторожно, поддерживает юбку, точно боясь задеть за что-то, что остановит её.
Сухой треск кузнечиков наполнял сад, и гудели жуки, путаясь в сетях молодой зелени, шелестя мелким листом берёз.
– Поеду за водой, – вдруг сказал Максим и быстро ушёл.
"Не за водой, а за ней присмотреть!" – мысленно поправил его Кожемякин, усмехаясь и ощущая напор каких-то старых дум, возрождение боязливого недоверия к людям; это одолевало его всю ночь до утра. В тетрадку свою он записал:
"Опять душа моя задета и ноет тихонько, как дитя бессловесное хнычет, никем не слышимо. Общее дело надо делать, говорят люди и спорят промеж себя неугомонно, откликаясь на каждое неправильно сказанное слово десятком других, а на этот десяток – сотнею и больше. Говоря о дружбе и соединении сил – враждуют, разъединяясь сердцами. Даже и сам Марк Васильев не сторонится того, что ему вовсе бы не подходяще, и, когда Цветаев говорит про города, про фабрики, – хмурится, не внимает и как бы не придаёт словам его веса. Конечно, Цветаев вдвое моложе и не весьма вежлив, а всё-таки о чём-то по-своему думает, всякая же своя дума дорога человеку и должна бы всем интересна быть. Галатская при нём за дьячка служит и похожа на дьячка, к слову сказать.
Фершал же, видно, другого толка, он больше молчит да кашляет, спорит редко, только с Комаровским и всегда от евангелия. С великою яростью утверждает, что царство божие внутри души человеческой, – мне это весьма странно слышать: кто может сказать, что коренится внутри его души? Много в ней живёт разного и множество неожиданного, такого, что возникает вдруг и пред чем сам же человек останавливается с великим недоумением и не понимая – откуда в нём такое? "Как можно говорить о царстве божием без разума?" справедливо спросил горбун Комаровский, а Рогачев, осердясь, объяснил, что разум – пустяки, ничем не руководит в жизни, а только в заблуждение ведёт. Всё это – невозможно понять: выходит теперь, что и бог неразумен! Замечаю я, что всего труднее и запутаннее люди говорят про бога, и лучше бы им оставить это, а то выходит и страшно, и жалобно, и недостойно великого предмета. Хуже всех на словах Комаровский, Фома неверный какой-то он, лезет очертя голову на всякую высоту и подо всё желает пороху подложить, чем для всех и неприятен. До чего бы люди ни договорились, он сейчас же вопрошает: а это как? И снова начинается спор, установленное летит кувырком, Марк Васильев сердится, а он, словоблуд неистощимый, доволен. Фершал кричит: "Зачем вы с людьми, которые ищут веры, ведь вам, несчастный, неверие сладостно?" Действительно – горбатый играет самыми страшными словами, как чёрт раскалённым угольем, и видно, что это приятно и сладостно ему.
Обрадовался было я, что в Окурове завёлся будто новый народ, да, пожалуй, преждевременна радость-то. Что нового? Покамест одни слова, а люди – как люди, такие же прыщи: где бы прыщ ни вскочил – надувается во всю мочь, чтобы виднее его было и больней от него. Горбун совершенно таков прыщ.
А про Максима прямо и думать не хочется, до того парень надулся, избалован и дерзок стал. Всё пуще награждают его вниманием, в ущерб другим, он же хорохорится да пыжится, становясь всякому пеперёк горла. Тяжёл он мне. Насчёт Васи так и неизвестно, кто его извёл".
Утром во время чая принесли записку от попадьи, она приглашала к себе, если можно сейчас же.
"Опять денег взаймы просить будет", – равнодушно и устало подумал Кожемякин.
Неохотно оделся, лениво пошёл и застал попадью в саду; согнувшись между гряд, она обрывала усы клубники, как всегда серая, скучная, в очках.
– Руки грязные, – сказала она вместо приветствия, показывая ему ладони так, точно отталкивала его. Оправила подоткнутую юбку и долго молча вытирала пальцы углом передника, а её безбровый, точно из дерева вырезанный лоб покрылся мелкими морщинами.
Кожемякин спросил о здоровье попа, она сухо ответила:
– Не спал всю ночь, теперь уснул. И дядя лёг.
"Скажет правду или нет?" – подумал гость и спросил:
– Какая болезнь-то?
– Русская, запой, – в два удара сказала попадья, идя к беседке, потом, взглянув поверх очков, тоже спросила: – Разве Комаровский не сказал?
– Нет, – то есть он сказал, – сконфуженно замялся в словах Кожемякин.
– А вы ему не поверили? Напрасно, он очень хорошо относится к вам.
Села в угол беседки, подняла очки на лоб и, оглядев гостя туманным взглядом слабых глаз, вздохнула, размышляя о чём-то, а потом, раздельно и точно считая слова, начала говорить:
– Я позвала вас, чтобы сказать о Комаровском. Он несчастен и потому зол. Ему хочется видеть всех смешными и уродливыми. Он любит подмечать в человеке смешное и пошлое. Он смотрит на это как на свою обязанность и своё право...
"Что ей надо?" – быстро кружилось в голове Кожемякина.
Подняв руки и поправляя причёску, попадья продолжала говорить скучно и серьёзно. На стенках и потолке беседки висели пучки вешних пахучих трав, в тонких лентах солнечных лучей кружился, плавал, опадая, высохший цветень, сверкала радужная пыль. А на пороге, фыркая и кувыркаясь, играли двое котят, серенький и рыжий. Кожемякин засмотрелся на них, и вдруг его ушей коснулись странные слова:
– Это верная мысль – вам лучше всего жениться!
– Кто это говорит? – быстро спросил он, подскочив на скамье. – Неужто Семён Иванович?
– Ну да! И я с ним согласна. Я же сказала вам, что в глубине души он человек очень нежный и чуткий. Не говоря о его уме. Он понимает, что для неё...
– Для Авдотьи Гавриловны? – спросил Кожемякин.
Попадья замолчала, опустила очки и, пристально оглянув гостя, спросила его:
– Вы меня не слушали?
– Я? Нет, я слушал! – солгал Кожемякин.
Её голос зазвучал суше, поучительнее, а слова сыпались мерно и деловито.
– Я знаю Дуню давно, мы из одного города, она – удивительная по душе! И Семён Иванович прав – Максим её погубит, это ясно.
– Конечно, так! – с радостью подтвердил Кожемякин.
Он смотрел на попадью, широко открыв глаза, чувствуя себя как во сне, и, боясь проснуться, сидел неподвижно и прямо, до ломоты в спине. Женщина в углу казалась ему радужной, точно павлин, голос её был приятен и ласков.
"Эдакая добрая, эдакая умница!" – думал он, слушая её размеренную речь.
– Она не чувствует себя, ей кажется, что она родилась для людей и каждый может требовать от неё всего, всю её жизнь. Она уступит всякому, кто настойчив, – понимаете?
– Да. Это верно. Кроткая такая...
– Вот. И если бы они сошлись, она и Максим, это было бы несчастием для обоих. Ему – рано жениться, вы согласны?
– С чем ему жениться? – воскликнул Кожемякин.
– Ну да, и это...
Она откинулась к стене и, сложив руки на груди, спокойно сказала:
– Таким образом, женясь на ней, вы спасёте двух хороших людей от роковой ошибки. Сами же, в лице Дуни, приобретёте на всю жизнь верного друга.
Кожемякин торопливо встал.
– Вы – куда? – строго спросила попадья.
– Я просто так...
– Всё это пока должно остаться между нами!
– Вы с ней – говорили?
– Нет ещё. Надо было иметь ваше согласие.
– Хорошо вы придумали, Анна Кирилловна! – воскликнул Кожемякин, с радостью и удивлением. – Говоря по правде – я и сам смотрел на неё...
– Ну да, понятно! – сказала попадья, пожав плечами, и снова начала что-то говорить убедительно и длинно, возбуждая нетерпение гостя.
– Итак – сегодня вечером к восьми часам я буду иметь её ответ, а вы придете ко мне! – закончила она, вставая и протягивая ему руку.
Он долго и горячо тряс эту сухую руку и от избытка новых чувств, приятных своей определённостью, не мог ничего сказать попадье.
Голова сладко кружилась, сердце замирало, мелькали торопливые мысли:
"Вот и доплыл до затона! Поп Александр обвенчает без шума, на первое время мы с Дуней махнём в Воргород. Молодец попадья – как она ловко поставила всех по местам. А Дуня – она меня полюбит, она – как сестра мне по характеру, право, – и как я сам не додумался до такой простоты?.."
Победно усмехнувшись, он представил себе заносчивую фигуру Максима и мысленно погрозил ему пальцем:
"Знай, сверчок, свой шесток!"
Город был насыщен зноем, заборы, стены домов, земля – всё дышало мутным, горячим дыханием, в неподвижном воздухе стояла дымка пыли, жаркий блеск солнца яростно слепил глаза. Над заборами тяжело и мёртво висели вялые, жухлые ветви деревьев, душные серые тени лежали под ногами. То и дело встречались тёмные оборванные мужики, бабы с детьми на руках, под ноги тоже совались полуголые дети и назойливо ныли, простирая руки за милостыней.
"Эк их налезло!" – мимолётно подумал Кожемякин, рассовывая медные монеты и точно сквозь сон видя чёрные руки, худые волосатые лица, безнадёжные усталые глаза, внутренно отмахиваясь от голодного похоронного воя.
Обливаясь потом, обессиленный зноем, он быстро добежал домой, разделся и зашагал по комнате, расчёсывая бороду гребнем, поглядывая в зеркало, откуда ему дружелюбно улыбалось полное, желтоватое лицо с отёками под глазами, с прядями седых волос на висках.
К вечеру мысль о женитьбе совершенно пленила его, он рисовал себе одну за другой картины будущей жизни и всё с большей радостью думал, что вот, наконец, нашёл себе давно желанное место в жизни – прочное и спокойное.
"Тихонько, в стороне от людей заживём мы, своим монастырём..."
Сквозь этот плотный ряд мирных дум безуспешно пыталась пробиться одна какая-то укоряющая мысль, но он гнал её прочь, даже не чувствуя желания понять то, о чём она хочет напомнить ему.
Уже в семь часов он был одет, чтобы идти к попадье, но вдруг она явилась сама, как всегда прямая, плоская и решительная, вошла, молча кивнула головою, села и, сняв очки, протирая их платком, негромко сказала:
– Мы опоздали...
Не поняв её слов, Кожемякин с благодушной улыбкой смотрел на неё.
Попадья вздохнула и начала говорить, глядя в пол, точно читая книгу, развёрнутую на нём, усталая, полинявшая и более мягкая, чем всегда.
– Они уже сошлись. Да, уже; хотя я говорила ей: "Дуня, ничего хорошего, кроме горя и обиды, ты не найдёшь с ним!"
– С Максимом? – спросил Кожемякин и, поперхнувшись, сел на стул, пришибленный.
– Я повторила ей это сегодня, а она говорит: "Если я нужна ему – всё равно, хоть и ненадолго", – вы понимаете этот характер?
– Чем же он лучше меня для неё? – сказал Кожемякин, разводя руками, полный холодной обиды и чувствуя, как она вскипает, переходя в злость. Проходимец, ни кола, ни двора. Нет, я сам пойду, поговорю с ней!
Она, надев очки, пристально осмотрела его и голосом старухи устало выговорила:
– Попробуйте. Спасая человека, надо идти до конца и не щадя себя.
– Всегда он мне не нравился, этот ястреб рыжий! – говорил Кожемякин, тихо и жалобно. – Прогоню вот ею завтра, и – поглядим!
Попадья строго сказала:
– Этого нельзя делать!
– Как – нельзя! Я ж – хозяин, я могу...
– Нет, не можете!
Он остановился, немного испуганный и удивлённый её возгласом, сдерживая злость; попадья глядела в глаза ему, сверкая стёклами очков, и говорила, как всегда, длинными, ровными словами, а он слушал её речь и не понимал до поры, пока она не сказала:
– Не надо забывать, что у него есть перед вами преимущества: красота, молодость и уверенность в себе, чего у вас нет!
Ему показалось, что эта серая, сухая, чужая женщина трижды толкнула его в грудь, лицо у неё стало неприятное, осуждающее.
"Конечно, они все его предпочитают!" – думал он, покачиваясь на ногах и оглядывая пустую комнату.
– Не поддавайтесь обиде и зависти! – надоедно звучал голос попадьи.
Он почти не заметил, как она ушла, сжатый тугим кольцом спутанных дум, разделся, побросав всё куда попало, и сел у окна в сад, подавленный, унылый и злой, ничего не понимая.
"Словно насмешка, поманили, показали, а потом говорят – это не для тебя! Обнадёжила и говорит – вы из зависти".
И спросил себя с натугой:
"Разве я из зависти? Врёт она".
Однако ему показалось, что он ответил сам себе неуверенно, это заставило его вспомнить об Евгении, он тотчас поставил Горюшину рядом с нею, упорно начал сближать их и скоро достиг того, чего – неясно – хотел: Горюшина неотделимо сливалась с Евгенией, и это оживило в нём мучительно пережитое, прослоенное новыми впечатлениями чувство непобедимого влечения к женщине.
Во тьме ныли и кусались комары, он лениво давил их, неотрывно думая о женщине, простой и кроткой, как Горюшина, красивой и близкой, какой была Евгения в иные дни; думал и прислушивался, как в нём разрушается что-то, ощущал, что из хаоса всё настойчивее встаёт знакомая тяжёлая тоска. И вдруг вскочил, весь налившись гневом и страхом: на дворе зашумело, было ясно, что кто-то лезет через забор.
"Это Максим, к ней, подлец!" – сообразил он, заметавшись по комнате, а потом, как был в туфлях, бросился на двор, бесшумно отодвинул засов ворот, приподнял щеколду калитки, согнувшись нырнул во тьму безлунной ночи. Сердце неприятно билось, он сразу вспотел, туфли шлёпали, снял их и понёс в руках, крадучись вдоль забора на звук быстрых и твёрдых шагов впереди.
Властно захватило новое, неизведанное чувство: в приятном остром напряжении, вытянув шею, он всматривался в темноту, стараясь выделить из неё знакомую коренастую фигуру. Так, точно собака на охоте, он крался, думая только о том, чтобы его не заметили, вздрагивая и останавливаясь при каждом звуке, и вдруг впереди резко звякнуло кольцо калитки, взвизгнули петли, он остановился удивлённый, прислушался – звук шагов Максима пропал.
"Она не здесь живёт!" – облегчённо вздохнув, сообразил он и надел туфли, чувствуя, что ему немножко стыдно.
Но всё-таки пошёл вперёд, а дойдя до маленького, в три окна, домика, услыхал вырывавшийся в тишину улицы визгливый возглас Цветаева:
– Голод будет страшен...
"Там она или нет?" – спрашивал себя Кожемякин, проходя под окнами бесшумно и воровато.
Перешёл улицу наискось, воротился назад и, снова поравнявшись с домом, вытянулся, стараясь заглянуть внутрь комнат. Мешали цветы, стоявшие на подоконниках, сквозь них видно было только сутулую спину Рогачева да встрёпанную голову Галатской. Постояв несколько минут, вслушиваясь в озабоченный гул голосов, он вдруг быстро пошёл домой, решительно говоря себе:
"Завтра – сам пойду к ней!"
Ночь он спал плохо, обдумывая своё решение и убеждаясь, что так и надо сделать; слышал, как на рассвете Максим перелез через забор, мысленно пригрозил ему:
"Я те полазию, погоди, прохвост!"
А засыпая, сквозь дрёму тревожно подумал: