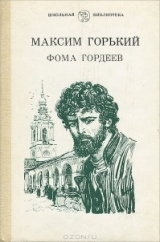
Текст книги "Фома Гордеев"
Автор книги: Максим Горький
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 16 страниц)
Тупой страх, овладевший им, исчез, сменясь мятежной радостью. Он схватил женщину, вырвав ее из воды, прижал к груди и с удивлением, не зная, что сказать ей, смотрел в ее глаза. Они ласково улыбнулись ему...
– Холодно! – сказала Саша, вздрогнув. Фома счастливо засмеялся при звуке ее голоса, вскинул ее на руки и быстро, почти бегом, бросился по плотам к берегу. Она была мокрая и холодная, как рыба, но ее дыхание было горячо, оно жгло щеку Фомы и наполняло грудь его буйной радостью.
– Утопить меня хотел? -говорила она, крепко прижимаясь к нему.
– Как это ты хорошо сделала, – бормотал Фома на бегу.
– Ну, и ты не худо выдумал... хоть с виду смирный...
– А те – всё орут!
– Чёрт с ними! Утонут – мы с тобой в Сибирь пойдем...– сказала женщина. Она начала дрожать, и дрожь ее тела, ощущаемая Фомой, заставила его ускорить свой бег.
С реки вслед им неслись вопли и крики о помощи. Там, по спокойной воде, удаляясь от берега к струе главного течения реки, плыл в сумраке маленький остров, на нем метались темные человеческие фигуры.
Ночь надвигалась на них.
IX
Однажды в полдень воскресенья Яков Маякин пил чай у себя в саду. Расстегнув ворот рубахи и обмотав шею полотенцем, он сидел на скамье под навесом зелени вишен, размахивал руками в воздухе, отирая пот с лица, и немолчно рассыпал в воздухе быструю речь.
– Дурак и подлец тот человек, который позволяет брюху иметь власть над собой!
Глаза старика блестели раздраженно и злобно, губы презрительно кривились, и морщины темного лица вздрагивали.
– Был бы Фомка сын мой родной – я б его вышколил!
Играя веткой акации, Любовь молча слушала речь отца, внимательно и пытливо поглядывая на его возмущенное, дрожащее лицо. Становясь старше, она незаметно для себя изменяла недоверчивое и холодное отношение к старику. Всегда кипевший в делах, бойкий и умный, он одиноко шел по своему пути, а она видела его одиночество, знала, как тяжело оно, и ее отношения к отцу становились теплее, Уже порой она вступала в споры со стариком; он всегда относился к ее возражениям пренебрежительно и насмешливо, но с каждым разом внимательней и мягче.
– Если б покойник Игнат прочитал в газете о безобразной жизни своего сына – убил бы он Фомку! – говорил Маякин, ударяя кулаком по столу. – Ведь как расписали? Срам!
– За дело! – сказала Любовь.
– Я не говорю -зря! Облаяли, как и следовало... И кто это разошелся?
– Не всё ли вам равно? – спросила девушка.
– Любопытно... Бойко, жулик, изобразил Фомкино поведение... Видимо – сам с ним гулял и всему его безобразию свидетелем был...
– Н -ну, он не станет с Фомой гулять! – убежденно сказала Любовь и густо покраснела под пытливым взглядом отца.
– Ишь ты! Ха -арошие знакомства у тебя, Любка! – юмористически ядовито сказал Маякин. – Ну, кто это писал?
Ей не хотелось говорить, но отец настаивал, и голос его становили всё суше и сердитей. Тогда она беспокойно спросила его:
– А вы ему ничего не сделаете?
– Я? Я ему – голову откушу! Ду -реха! Что я могу сделать? Они, эти писаки, неглупый народ... Сила, черти! А я не губернатор... да и тот ни руку вывихнуть, ни языка связать не может... Они, как мыши, – грызут помаленьку... н -да! Ну, так кто же это?
– А помните, когда я училась, гимназист ходил к нам, Ежов? Черненький такой...
– Видал, как же! Так это он? Мышонок!.. И в ту пору видно уже было, что выйдет из него – непутевое... Надо бы мне тогда заняться им... может, человеком стал бы...
Любовь усмехнулась, взглянув на отца, и с задором спросила:
– А разве тот, кто в газетах пишет, не человек? Старик долго не отвечал дочери, задумчиво барабаня пальцами по столу и рассматривая свое лицо, отраженное в ярко начищенной меди самовара. Потом, подняв голову, он прищурил глаза и внушительно, с азартом сказал:
– Это не люди, а – нарывы! Кровь в людях русских испортилась, и от дурной крови явились в ней все эти книжники-газетчики, лютые фарисеи... Нарвало их везде и всё больше нарывает... Порча крови – отчего? От медленности движения... Комары откуда? От болота... В стоячей воде всякая нечисть заводится... И в неустроенной жизни то же самое...
– Вы не то говорите, папаша! – мягко сказала Любовь.
– Это как же – не то?
– Писатели-люди самые бескорыстные... это– светлые личности! Им ведь ничего не надо -им только справедливости, -только правды! Они не комары...
Любовь волновалась, расхваливая возлюбленных ею людей; ее лицо вспыхнуло румянцем, и глаза смотрели на отца с таким чувством, точно она просила верить ей, будучи не в состоянии убедить.
– Э -эх ты! -со вздохом сказал старик, перебивая ее. -Начиталась! Ты мне скажи -кто они? Неизвестно! Ежов вот – что он такое? Нашему богу – бя! Только правды им надо, -скажете?! Ишь, скромники какие?! А если она, правда-то, самое дорогое и есть?.. Ежели ее, может быть, каждый молча ищет? Ты мне поверь бескорыстным человек не может быть... за чужое он не станет биться... а ежели бьется -дурак ему имя, и толку от него никому не будет! Нужно, чтоб человек за себя встать умел... за свое кровное... тогда он -добьется! Правда! Я почтя сорок лет одну и ту же газету читаю и хорошо вижу... вот пред тобой моя рожа, а предо мной -на самоваре вон -тоже моя, но другая... Вот газеты эти самоварную рожу всему и придают, а настоящей не видят... А ты им веришь... Я знаю – в самоваре моя рожа испорчена.
– Папаша! -тоскливо воскликнула Любовь. – Но ведь в книгах и газетах защищают общие интересы, всех людей.
– А в какой газете написано про то, что тебе жить скучно и давно уж замуж пора? Вот те и не защищают твоего интересу! Да и моего не защищают... Кто знает, чего я хочу? Кто, кроме меня, интересы мои понимает?
– Нет, папаша, это всё – не то, не то! Я не умею возразить вам, но я чувствую – это не так! – говорила Любовь почти с отчаянием.
– То самое! – твердо сказал старик. – Смутилась Россия, и нет в ней ничего стойкого: всё пошатнулось! Все набекрень живут, на один бок ходят, никакой стройности в жизни нет... Орут только все на разные голоса. А кому чего надо -никто не понимает! Туман на всем... туманом все дышат, оттого и кровь протухла у людей... оттого и нарывы... Дана людям большая свобода умствовать, а делать ничего не позволено, – от этого человек не живет, а гниет и воняет...
– Что же надо делать? – спросила Любовь, облокачиваясь на стол и наклоняясь к отцу.
– Всё! -азартно крикнул старик. -Всё делай!.. Валяй, кто во что горазд! А для того -надо дать волю людям, свободу! Уж коли настало такое время, что всякий шибздик полагает про себя, будто он – всё может и сотворен для полного распоряжения жизнью, – дать ему, стервецу, свободу! На, сукин сын, живи! Ну-ка, живи! А-а! Тогда воспоследует такая комедия: почуяв, что узда с него снята, – зарвется человек выше своих ушей и пером полетит – и туда и сюда... Чудотворцем себя возомнит, и начнет он тогда дух свой испущать...
Старик сделал паузу и с ехидной улыбкой, понизив голос, продолжал:
– А духа этого самого строительного со -овсем в нем малая толика! Попыжится он день-другой, потопорщится во все стороны и -вскорости ослабнет, бедненький! Сердцевина-то гнилая в нем... Ту -ут его, голубчика, и поимают настоящие, достойные люди, те настоящие люди, которые могут... действительными штатскими хозяевами жизни быть... которые будут жизнью править не палкой, не пером, а пальцем да умом. Что, скажут, устали, господа? Что, скажут, не терпит селезенка настоящего-то жару? – И, повысив голос, властным тоном старик закончил свою речь: – Ну, как теперь вы, такие -сякие, – молчать и не пищать! А то, как червей с дерева, стряхнем вас с земли! Цыц, голубчики! Вот оно как произойдет, Любавка! Хе -хе-хе!
Старику было весело. Его морщины играли, и, упиваясь своей речью, он весь вздрагивал, закрывал глаза и чмокал губами, как бы смакуя что-то...
– Ну и тогда-то вот те, которые верх в сумятице возьмут, – жизнь на свой лад, по-умному и устроят... Не шаля-валя пойдет дело, а– как по нотам! Не доживешь до этого, жаль!..
На Любовь слова отца падали одно за другим, как петли крепкой сети, падали, опутывая ее, и девушка, не умея освободиться из них, молчала, оглушенная речами отца. Глядя в лицо его напряженным взглядом, она искала опоры для себя в словах его и слышала в них что-то общее с тем, о чем она читала в книгах и что казалось ей настоящей правдой. Но злорадный, торжествующий смех отца царапал ей сердце, и эти морщины, что ползали по лицу его, как маленькие, темные змейки, внушали ей боязнь за себя пред ним. Она чувствовала, что он поворачивает ее куда-то в сторону от того, что в мечтах казалось ей таким простым и светлым.
– Папаша! -вдруг спросила она старика, повинуясь внезапно вспыхнувшей мысли и желанию. – Папаша! А кто, по-вашему, Тарас?
Маякин вздрогнул. Брови у него сердито зашевелились, он пристально уставился острыми глазками в лицо дочери и сухо спросил ее:
– Это что за разговор?
– Разве нельзя говорить про него? – тихо и смущенно сказала Любовь.
– Не хочу я о нем говорить... И тебе не советую! – Старик погрозил дочери пальцем и, сурово нахмурившись, опустил голову.
Но, сказав, что не хочет говорить о сыне, он, должно быть, неверно понял себя, ибо через минуту молчания заговорил хмуро и сердито:
– Тараска -тоже нарыв... Дышит жизнь на вас, молокососов, а вы настоящих ее запахов разобрать не можете, глотаете всякую дрянь, и оттого у вас -муть в башках... Тараска... Лет за тридцать ему теперь... пропал он для меня!.. Тупорылый поросенок...
– Что он сделал? – спросила Любовь, жадно вслушиваясь в речь старика...
– А кто это знает? Он сам, поди, теперь понять себя не может... ежели умен стал... А должно – стал-таки умником... не глупого отца сын... и потерпел немало... Балуют их, нигилистов!.. Мне бы их -я бы им указал дело... В пустыни! В пустынные места -шагом марш!.. Ну-ка вы, умники, устройте-ка здесь жизнь по своему характеру! Ну-ка! А в начальники над ними поставил бы крепких мужичков... Нуте -ка, честные господа, вас поили, кормили, учили – чему вы научились? Пожалуйте должок... Я бы ломаного гроша на них не истратил, а весь сок из них выжал бы -отдай! Человеком пренебрегать нельзя, -в тюрьму его посадить -мало! Ты переступил закон да и барин? Нет, ты мне поработай... От зерна одного колос целый родится, а чтобы человек без пользы пропадал -нельзя этого допускать!.. Расчетливый столяр каждой щепочке место в деле найдет -так человек должен быть израсходован с пользой для дела, весь, до последней своей жилки. Всякая дрянь в жизни место имеет, а человек – никогда не дрянь... Эх! плохо, когда сила живет без ума, да нехорошо, когда и ум без силы... Вот теперь Фомка... Кто это там лезет, взгляни -ка!
Обернувшись, Любовь увидала, что по дорожке сада, почтительно сняв картуз и кланяясь ей, идет Ефим, капитан "Ермака". Лицо у него было безнадежно виноватое, и весь он какой-то пришибленный. Яков Тарасович узнал его и, сразу обеспокоившись, крикнул:
– Что случилось?
– Так что -я к вам! -сказал Ефим, с низким поклоном остановившись у стола.
– Ну, вижу, ко мне... В чем дело? Где пароход?
–Пароход -там! -Ефим сунул рукой куда-то в воздух и тяжело переступил с ноги на ногу.
– Где, чёрт? Говори -что случилось? -гневно закричал старик.
Ефим вобрал в грудь много воздуха и медленно проговорил:
– Баржу № 9-й разбили. Человеку спину перешибли, – а одного совсем нет, так что, пожалуй, утоп...
– Та -ак! – зловеще измеряя глазами капитана, протянул Маякин. – Н -ну, Ефимушка, сдеру же я с тебя шкуру...
– Это не я! – быстро сказал Ефим.
– Не ты? – крикнул старик и весь затрясся. – Кто?
– Сами хозяин...
– Фомка?! А ты, -ты что?
– Я – в люке лежал...
– А-а! Ты ле -жал...
– Связанный...
– Что -о? – взвизгнул старик тонким голосом.
– Позвольте по порядку... Так что они были выпимши и кричат: "Ступай прочь! я сам буду командовать!" Я говорю: "Не могу! Как я -капитан...""Связать, говорят, его!" И, связавши, спустили меня в люк, к матросам... А как сами были выпимши, то и захотели пошутить... Встречу нам шел воз... шесть порожних барж под "Черногорцем". Фома Игнатьич и загородили им путь... Свистали те... не раз... надо говорить правду – свистали!
– Ну-ну?
– Ну, и не справились... две передние навалило на нас... как они вдарили в борт нашей, мы и вдребезги... И они обе разбились... А нам куда горше пришлось...
Маякин встал со стула и засмеялся дребезжащим злым смехом. А Ефим вздыхал, разводил руками и говорил:
– Характер у них очень уж крупный... Тверезые они больше всё молчат и в задумчивости ходят, а вот подмочат вином свои пружины -и взовьются... Так что – в ту пору они и себе и делу не хозяин, а лютый враг – извините! Я хочу уйти, Яков Тарасович! Мне без хозяина – не свычно, не могу я без хозяина жить...
– Молчать! -сурово сказал Маякин. -Где Фома?
– Там, на месте... Они тотчас опосля этого случая пришли в себя и тут же послали за рабочими... Поднимать будут баржу... чай, уж и начали...
– Один он там? – спросил Маякин, опуская голову.
– Не... совсем...– тихо ответил Ефим, искоса посмотрев на Любовь. – Барыня при них... черная такая... Вроде как не в своем уме женщина...– вздыхая, сказал Ефим. – Всё поет... очень хорошо поет... соблазн большой!
– Я тебя про нее не спрашиваю! – злобно закричал Маякин. Морщины лица его болезненно сморщились, и Любови показалось, что отец заплачет сейчас...
– Успокоитесь, папаша! -ласково попросила она. – Может быть, убыток невелик...
–Невелик? -звонко крикнул Яков Тарасович. – Что ты, дура, понимаешь! Разве баржа разбилась?! Эх ты! Человек разбился! Вот оно что! А ведь он -нужен мне! Нужен он мне, черти вы тупые!
Старик гневно затряс головой и быстрыми шагами пошел по дорожке сада к дому...
...Фома в это время был верст за четыреста в деревенской избе, на берегу Волги. Он только что проснулся и, лежа среди избы, на ворохе свежего сена, смотрел угрюмо в окно, на небо, покрытое серыми, лохматыми тучами.
Не двигая тяжелой с похмелья головой, Фома чувствовал, что в груди у него тоже как будто безмолвные тучи ходят, – ходят, веют на сердце сырым холодом и теснят его. В движении туч по небу было что-то бессильное и боязливое... и в себе он чувствовал такое же... Не думая, он вспоминал пережитое за последние месяцы.
Ему казалось, что он упал в мутный, горячий поток, его охватили темные волны, похожие на эти тучи в небе, – охватили и несут куда-то. Во тьме и в шуме, окружавшем его, он смутно видел, что вместе с ним несутся еще какие-то люди, каждый день – новые, но все одинаково жалкие, противные. Пьяные, шумные, жадные, они вертелись вокруг него, кутили на его деньги, ругали его, дрались между собой, кричали, даже плакали не раз. Он бил их. Помнит, что кого-то ударил по лицу, с кого-то сорвал сюртук и бросил его в воду и кто-то целовал ему руки мокрыми, холодными губами, гадкими, как лягушки... Целовал и с плачем просил не убивать... Какие-то лица мелькали в его памяти, звуки и слова звучали в ней... Женщина в желтой шелковой кофте, расстегнутой на груди, громким, рыдающим голосом пела:
Так будем же жить, пока можно...
А там – хоть трава -а не расти!
...Все эти люди, как и он, охвачены тою же темной волной и несутся с нею, словно мусор. Всем им – боязно, должно быть, заглянуть вперед, чтобы видеть, куда же несет их эта бешено сильная волна. И, заливая вином свой страх, они барахтаются, орут, делают что-то нелепое, дурачатся, шумят, шумят, и никогда им не бывает весело. Он тоже всё это делал. Теперь ему казалось, что делал он всё это для того, чтобы скорее миновать темную полосу жизни.
Среди сутолоки кутежей, в толпе людей, смятенных буйными страстями, полубезумных в стремлении забыть себя, – одна Саша всегда была спокойна и ровна. Она не напивалась, она всегда говорила с людьми твердым, властным голосом, и все ее движения были одинаково уверенны, точно этот поток не овладевал ею, а она сама управляла его бурным течением. Она казалась Фоме самой умной из всех, кто окружал его, самой жадной на шум и кутеж; она всеми командовала, постоянно выдумывала что-нибудь новое и со всеми людьми говорила одинаково: с извозчиком, лакеем и матросом тем же тоном и такими же словами, как и с подругами своими и с ним, Фомой. Она была красивее и моложе Палагеи, но ласки ее были молчаливы, холодны... Фоме думалось, что она глубоко в сердце своем прячет от всех что-то страшное, что никогда никого она не полюбит, не откроет всю себя. Это тайное, скрытое в женщине, привлекало его к ней чувством боязливого любопытства, напряженного интереса к спокойной и холодной душе ее, темной, как ее глаза.
Как-то раз Фома сказал ей:
– Однако сколько мы с тобой денег-то посеяли.
Она взглянула на него и спросила:
– А куда их беречь?
"Куда, в самом деле?" -подумал Фома. удивленный тем, что она так просто рассуждает.
– Ты кто такая? -спросил он ее в другой раз.
– Разве забыл, как меня зовут?
– Ну, вот еще!
– Так чего ж тебе надо?
– Я насчет происхождения спрашиваю...
– А! Ну, ярославская я, -из Углича, мещанка... Арфистка... Что же, – слаще я для тебя буду, когда ты узнал, кто я?
– Разве я узнал? – усмехаясь, спросил Фома.
–Мало тебе! А больше -я ничего не скажу... На что? Все из одного места родом -и люди и скоты... Пустяки все эти разговоры... Ты вот давай подумаем, как нам жить сегодня?
В этот день они катались на пароходе с оркестром музыки, пили шампанское и все страшно напились. Саша пела какую-то особенную, удивительно грустную песню, и Фома плакал, как ребенок, растроганный пением. Потом он плясал с ней "русскую", устал, бросился за борт и едва не утонул.
Теперь, вспоминая это, – и многое другое, – он чувствовал стыд за себя и недовольство Сашей. Он смотрел на ее стройную фигуру, слушал ровное дыхание ее и чувствовал, что не любит эту женщину, не нужна ему она. В его похмельной голове медленно зарождались какие-то серые, тягучие мысли. Как будто всё, что он пережил за это время, скрутилось в нем в клубок тяжелый и сырой, и вот теперь клубок этот катается в груди его, потихоньку разматываясь, и его вяжут тонкие серые нити.
"Что это со мной происходит? – думал он. – Кто я такой?"
Его поразил этот вопрос, и он остановился над ним, пытаясь додуматься почему он не может жить спокойно и уверенно, как другие живут? Ему стало еще более совестно от этой мысли, он завозился на сене и с раздражением толкнул локтем Сашу.
– Тише!.. – сквозь сон сказала она.
– Ну, ладно, не велика барыня! – пробормотал Фома.
– Что?
– Ничего...
Она повернулась спиной к нему и, сладко зевнула, заговорила лениво:
– Видела во сне, будто опять арфисткой стала. Пою соло, а против меня стоит большущая грязная собака, оскалила зубы и ждет, когда я кончу... А мне страшно ее... и знаю я, что она сожрет меня, как только я перестану петь... и вот я всё пою, пою... и вдруг будто не хватает у меня голосу... Страшно! А она – щелкает зубами... К чему это?..
– Погоди болтать! – угрюмо остановил ее Фома. – Ты вот что скажи: что ты про меня знаешь?
– А вот знаю, что проснулся ты, – не поворачиваясь к нему, ответила она.
– Это верно -проснулся я, -задумчиво молвил Фома и, закинув руки за голову, продолжал. – Оттого тебя и спрашиваю -какой я, по-твоему, человек?
– Похмельный, – зевнув, ответила Саша.
– Александра! – просительно воскликнул Фома. – Не балуй! Ты скажи по совести, что ты обо мне думаешь?
– Ничего не думаю! – сухо ответила она. Он тяжело вздохнул и замолчал. Полежав с минуту тоже молча, Саша заговорила обычным своим, равнодушным голосом:
– Скажи ему! С какой это стати стану я думать о всяком? Мне о себе подумать и то -некогда... А может, не хочется...
Фома сухо засмеялся и сказал:
– Мне бы не хотеть ничего! . Женщина подняла голову с подушки, заглянула в лицо Фомы и снова легла, говоря:
– Мудришь ты.. Смотри -добра от этого тебе не будет... Ничего я не могу сказать про тебя... Ну, вот скажу я тебе – других ты лучше... Что же из этого будет?
– А почему лучше? -задумчиво спросил Фома.
– Да -так! Песню хорошую поют -плачешь ты... подлость человек делает бьешь его... С женщинами -прост, не охальничаешь над ними.. Ну, и удалым можешь быть...
Всё это не удовлетворяло Фому.
– Не то ты говоришь! – тихо сказал он.
– Ну, и не знаю. чего тебе надо... Баржу поднимут – что будем делать?
– Что нам делать? – спросил Фома.
– В Нижний поедем или в Казань?
– Зачем?
– Кутнем. .
– Не хочу я больше кутить...
Оба они долго молчали, не глядя друг на друга.
– Тяжелый у тебя характер, – заговорила Саша. – Скучный.
– Пьянствовать я больше не буду! – твердо сказал Фома.
– Врешь! – возразила Саша спокойно.
– Вот увидишь. Ты что думаешь – хорошо так жить?
– Увижу.
– Нет, ты скажи – хорошо?
– А – что лучше?
Фома посмотрел на нее сбоку и с раздражением сказал:
– Экие у тебя слова -противные!..
– И тут не угодила! – усмехнувшись, молвила Саша.
– Нар -род! – говорил Фома, болезненно сморщив лицо. -Живут тоже... а как? Лезут куда-то... Таракан ползет – и то знает, куда и зачем ему надо, а ты что? Ты – куда?..
– Погоди! -спокойно остановила его Саша. -Тебе до меня какое дело? Ты. от меня берешь, чего хочешь, а в душу мне не лезь!
– В ду -ушу! – презрительно протянул Фома. – В какую душу?
Она стала ходить по комнате, собирая разбросанную одежду. Фома наблюдал за ней и был недоволен тем, что она не рассердилась на него за слова о душе. Лицо у нее было равнодушно, как всегда, а ему хотелось видеть ее злой или обиженной, хотелось чего-то человеческого.
– Душа! – воскликнул он, добиваясь своего. – Разве человеку с душой можно жить так, как ты живешь? В душе – огонь горит... стыд в ней...
Она в это время, сидя на лавке, надевала чулки, но при его словах подняла голову и уставилась в лицо ему строгими глазами.
– Что смотришь? -спросил Фома.
– Ты это зачем говоришь? -ответила она ему, не спуская с него глаз.
В ее вопросе было что-то угрожающее. Фома почувствовал робость пред ней и уже без задора в голосе сказал:
– Как же не говорить?
– Э -эх ты! – вздохнула Саша и снова принялась одеваться.
– А что я?
– Да так... Ровно ты от двух отцов родился... Знаешь ты, что я заметила за людьми?
– Ну?
– Который человек сам за себя отвечать не может, значит-боится он себя, значит -грош ему цена!
– Это ты про меня? -спросил Фома, помолчав. Она накинула на плечи широкий розовый капот и, стоя среди комнаты, сказала низким, глухим голосом человеку, лежавшему у ног ее:
– О душе моей ты не смеешь говорить... Нет тебе до нее дела! Я -могу говорить! Я бы, захотевши, сказала всем вам -эх как! Есть у меня слова про вас... как молотки! Так бы по башкам застукала я... с ума бы вы посходили... Но -словами вас не вылечишь... Вас на огне жечь надо, вот как сковороды в чистый понедельник выжигают...
Вскинув руки к голове, она порывисто распустила волосы, и когда они тяжелыми черными прядями рассыпались по плечам ее, -женщина гордо тряхнула головой и с презрением сказала:
– Не смотри, что я гулящая! И в грязи человек бывает чище того, кто в шелках гуляет... Знал бы ты, что я про вас, кобелей, думаю, какую злобу я имею против вас! От злобы и молчу... потому -боюсь, что, если скажу ее, – пусто в душе будет... жить нечем будет!..
Теперь она снова нравилась ему. В словах ее было что-то родственное его настроению. Он, усмехнувшись, с удовольствием в голосе и на лице сказал ей:
– И я тоже чувствую – растет у меня в душе что-то... Эх, заговорю и я своими словами, придет время.
– Против кого это? – небрежно спросила Саша.
– Против всех! -воскликнул Фома, вскакивая на ноги. -Против фальши!.. Я спрошу...
– Спроси-ка: самовар готов? – равнодушно приказала ему Саша.
Фома взглянул на нее и с сердцем крикнул:
– Пошла к чёрту! Спрашивай сама...
– Чего ты лаешь? И она ушла из избы...
...Ветер резкими порывами летал над рекой, и покрытая бурыми волнами река судорожно рвалась навстречу ветру с шумным плеском, вся в пене гнева. Кусты прибрежного ивняка низко склонялись к земле, дрожащие, гонимые ударами ветра. В воздухе носился свист, вой и густой, охающий звук, вырывавшийся из десятков людских грудей:
– Идет -идет-идет!
– У горного берега стояли на якорях две порожние баржи, высокие мачты их, поднявшись в небо, тревожно покачивались из стороны в сторону, выписывая в воздухе невидимый узор. Палубы барж загромождены лесами из толстых бревен; повсюду висели блоки; цепи и канаты качались в воздухе; звенья цепей слабо брякали... Толпа мужиков в синих и красных рубахах волокла по палубе большое бревно и, тяжело топая ногами, охала во всю грудь:
– Идет – идет – идет!
К лесам тоже прилепились синие и красные комья; ветер, раздувая рубахи и порты, придавал людям странные формы, делая их то горбатыми, то круглыми и надутыми, как пузыри. Люди на лесах и палубах что-то вязали, рубили, пилили, вбивали гвозди, везде мелькали большие руки с засученными по локти рукавами рубах. Ветер разносил над рекой бодрый шум: пила грызла дерево, захлебываясь от злой радости; сухо кряхтели бревна, раненные топорами; болезненно трещали доски, раскалываясь под ударами, ехидно взвизгивал рубанок. Железный лязг цепей и стонущий скрип блоков сливались с шумом волн, ветер гулко выл и гнал по небу тучи.
– Pe-ебя-а-тутки, бе -ерем, давай!
– Разуда -алый ещо -о разок!.. -просительно выводил кто-то высоким голосом...
Фома, красивый и стройный, в коротком драповом пиджаке и в высоких сапогах, стоял, прислонясь спиной к мачте, и, дрожащей рукой пощипывая бородку, любовался работой. Шум вокруг него вызывал и в нем желание кричать, возиться вместе с мужиками, рубить дерево, таскать тяжести, командовать -заставить всех обратить на себя внимание и показать всем свою силу, ловкость, живую душу в себе. Но он сдерживался и стоял молча, неподвижно: ему было стыдно. Он хозяин тут над всеми, и если примется работать сам -никто не поверит, что он работает просто из охоты, а не для того, чтоб подогнать их, показать им пример.
Русый и кудрявый парень с расстегнутым воротом рубахи то и дело пробегал мимо него то с доской на плече, то с топором в руке; он подпрыгивал, как разыгравшийся козел, рассыпал вокруг себя веселый, звонкий смех, шутки, крепкую ругань и работал без устали, помогая то одному, то другому, быстро и ловко бегая по палубе, заваленной щепами и деревом. Фома упорно следил за ним и чувствовал зависть к этому парню.
"Счастливый, должно быть..."-думал Фома. Эта мысль вызывала в нем острое желание оборвать парня, сконфузить его. Все вокруг охвачены пылом спешной работы, дружно и споро укрепляли леса, устраивали блоки, готовясь поднять со дна реки затонувшую баржу; все были бодра веселы и -жили. Он же стоял в стороне от них, не зная, что делать, ничего не умея, чувствуя себя ненужным в этом большом труде. Обидно было ему чувствовать себя лишним среди людей, и чем больше он присматривался к ним, тем более крепла эта обида. Его колола мысль, что ведь вот -для него всё это делается, а однако он тут ни при чем...
"Где же мое место? – угрюмо думалось ему. – Где мое дело?.."
Подрядчик, маленький мужичок с острой седенькой бородкой и узенькими глазками на сером сморщенном лице, подошел к нему и сказал негромко, с какой-то особенной ясностью в словах:
– Всё изготовили, Фома Игнатьич, всё теперь как сдедоваит... Благословясь – начать бы!..
– Начинай...– кротко сказал Фома, отвертываясь в сторону от проницательного взгляда узких глаз мужика.
– Вот и слава тебе, господи! -сказал подрядчик, неторопливо застегивая поддевку и приосаниваясь. Потом он, медленно поворачивая голову, оглядел леса на баржах и звонко крикнул'
– По -о местам, ребятушки!
Мужики живо столпились в отдельные плотные группы у воротов, по бортам, и говор их умолк. Некоторые ловко взобрались на леса и смотрели оттуда, держась за веревки.
– Смотри, ребята! -раздавался звонкий и спокойный голос подрядчика. – Всё ли как быть надо? Придет пора бабе родить – рубах неколи шить... Ну – молись богу!
Бросив картуз на палубу, подрядчик поднял лицо к небу и стал истово креститься. И все мужики, подняв головы к тучам, тоже начали широко размахивать руками, осеняя груди знамением креста. Иные молились вслух; глухой, подавленный ропот примешался к шуму волн:
– Господи, благослови!.. Пресвятая богородица... Никола Угодник...
Фома слушал эти возгласы, и они ложились на душу ему как тяжесть. У всех головы были обнажены, а он забыл снять картуз, и подрядчик, кончив молиться, внушительно посоветовал ему:
– Попросить бы и вам господа-то...
– Ты знай свое дело, -меня не учи! -сердито взглянув на него, ответил Фома. Чем дальше шло дело -тем тяжелей и обидней было ему видеть себя лишним среди спокойно уверенных в своей силе людей, готовых поднять для него несколько десятков тысяч пудов со дна реки. Ему хотелось, чтоб их постигла неудача, чтобы все они сконфузились пред ним, в голове его мелькала злая мысль:
"Может, еще цепи порвутся..."
– Слушай!–кричал подрядчик. И вдруг, всплеснув руками в воздухе, он пронзительно закричал: – По -о -оше -о -ол!
Рабочие подхватили его крик, и все в голос, возбужденно и с напряжением закричали:
– По -оше -ол! Иде -от...
Блоки визжали и скрипели, гремели цепи, напрягаясь под тяжестью, вдруг повисшей на них, рабочие, упершись грудями в ручки ворота, рычали, тяжело топали по палубе. Между барж с шумом плескались волны, как бы не желая уступать людям свою добычу. Всюду вокруг Фомы натягивались и дрожали напряженно цепи и канаты, они куда-то ползли по палубе мимо его ног, как огромные серые черви, поднимались вверх, звено за звеном, с лязгом падали оттуда, а оглушительный рев рабочих покрывал собой все звуки.
– Ве -есь, по -ошел, весь пошел -поше -ол...-пели они стройно и торжествующе. А в густую волну их голосов, как нож в хлеб, вонзался и резал ее звонкий голос подрядчика;
– Ребяту -ушки– и! Разо -ом... раз -ом... Фомой овладело странное волнение: ему страстно захотелось влиться в этот возбужденный рев рабочих, широкий и могучий, как река, в раздражающий скрип, визг, лязг железа и буйный плеск волн. У него от силы желания выступил пот на лице, и вдруг, оторвавшись от мачты, он большими прыжками бросился к вороту, бледный от возбуждения.
– Разо -ом! Разо -ом!.. -кричал он диким голосом. Добежав до ручки ворота, он с размаха ткнулся об нее грудью и, не чувствуя боли, с ревом начал ходить вокруг ворота, мощно упираясь ногами в палубу. Что-то горячее лилось в грудь ему, заступая место тех усилий, которые он тратил, ворочая рычаг. Невыразимая радость бушевала в нем и рвалась наружу возбужденным криком. Ему казалось, что он один, только своей силой ворочает рычаг, поднимая тяжесть, и что сила его всё растет. Согнувшись и опустив голову, он, как бык, шел навстречу силе тяжести, откидывавшей его назад, но уступавшей ему все-таки. Каждый шаг вперед всё больше возбуждал его, потраченное усилие тотчас же заменялось в нем наплывом жгучей гордости. Голова у него кружилась, глаза налились кровью, он ничего не видел и лишь чувствовал, что ему уступают, что он одолеет, что вот сейчас он опрокинет силой своей что-то огромное, заступающее ему путь, опрокинет, победит и тогда вздохнет легко и свободно, полный гордой радости. Первый раз в жизни он испытывал такое одухотворяющее чувство и всей силой голодной души своей глотал его, пьянел от него и изливал свою радость в громких, ликующих криках в лад с рабочими:



