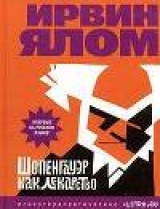
Текст книги "Шопенгауэр как лекарство"
Автор книги: Максим Хижняк
Жанры:
Психология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 25 страниц)
– Философ должен как-то поддерживать свое увлечение: кто-то живет на преподавательское жалованье, как Кант или Гегель, у кого-то есть независимый источник существования, как у Шопенгауэра, а кто-то подрабатывает чем придется, как Спиноза, который шлифовал линзы для очков, чтобы выжить. Я выбрал философское консультирование – это моя подработка, и занятия в этой группе – часть моей подготовки к этому.
– Так, значит, – заметил Стюарт, – ты сейчас общаешься с нами, чтобы потом учить других никогда не нуждаться в общении?
Немного помедлив, Филип кивнул.
– Давай разберемся, правильно ли я понял? – сказал Тони. – Допустим, Ребекка положит на тебя глаз и включит свое обаяние на полную катушку – будет строить тебе глазки и улыбаться своей убийственной улыбкой. Ты что, скажешь, на тебя это не подействует? Ноль эмоций?
– Нет, я не говорил, что ноль эмоций. Здесь я согласен с Шопенгауэром: он пишет, что красота подобна открытому рекомендательному письму – оно мгновенно располагает наше сердце в пользу того, кто его предъявляет. Я нахожу, что созерцать красивого человека чрезвычайно приятно. Но я также говорю, что чужое мнение обо мне не может, не должно, менять мое мнение о самом себе.
– Нет, это как-то не по-человечески, – заметил Тони.
– Не по-человечески я чувствовал себя, когда позволял своему мнению скакать, как мячик, в зависимости от того, что скажут про меня другие.
Джулиус следил за губами Филипа: это было удивительно. Как точно они выражали его невозмутимое спокойствие, как методично проговаривали слово за словом, будто нанизывали бусинки на нить – одна к одной, ровные, круглые, на одной ноте. Ясно, отчего так кипятился Тони. Слишком хорошо зная его импульсивность, Джулиус решил, что пора направить разговор в более безопасное русло. Еще не время прижимать Филипа к стенке – это лишь четвертое его занятие.
– Филип, отвечая Бонни, ты заметил, что хочешь ей помочь. Ты давал советы и остальным – Гиллу, Ребекке. Попробуй объяснить, почему ты это делал? Мне показалось, в этом было что-то сверхурочное: никто ведь не собирается приплачивать тебе за помощь.
– Я всегда стараюсь помнить, что мы все осуждены на жизнь – жизнь, которая переполнена страданиями и на которую никто из нас не решился бы, если бы знал, что ждет его впереди. В этом смысле, как говорит Шопенгауэр, мы все товарищи по несчастью, а потому нуждаемся во взаимной терпимости и любви, раз уж нам выпало жить бок о бок.
– Опять Шопенгауэр. Филип, я уже сыт по горло твоим Шопенгауэром – кто бы ни был этот пижон.
Я хочу слышать про тебя. – Тони говорил спокойно, словно имитируя размеренную речь Филипа, но его дыхание было частым и прерывистым. Тони быстро приходил в бешенство. Когда он только начал ходить в группу, недели не проходило без его рассказов об очередной заварушке, которую он затеял – в баре, на дороге, на работе или на баскетбольной площадке. Небольшого росточка, не слишком коренастый, он тем не менее обладал отчаянным бесстрашием, позволявшим ему выходить победителем из любого поединка, кроме одного – интеллектуального поединка с хорошо подкованным умником, каким и был Филип.
Филип, по-видимому, не собирался отвечать на выпад Тони, поэтому Джулиус нарушил затянувшееся молчание:
– Тони, ты, похоже, о чем-то всерьез задумался. О чем?
– Я думаю о том же, что и Бонни, – скучаю по Пэм. Мне ее очень не хватает. Особенно сегодня.
Джулиуса не удивило такое признание: Тони был давним протеже Пэм. Странная это была парочка – преподавательница английской литературы и простой работяга с наколками.
Джулиус решился на обходной маневр:
– Тони, тебе, наверное, непросто было сказать: «Шопенгауэр, кто бы ни был этот пижон»?
– Как тебе сказать – мы все здесь, чтобы говорить правду, – ответил Тони.
– Точно, Тони, – отозвался Гилл. – Если честно, я тоже не знаю, кто такой Шопенгауэр.
– А я знаю только, – заметил Стюарт, – что это известный философ, немец и пессимист – девятнадцатый век, кажется?
– Да, он умер в 1860-м во Франкфурте-на-Майне, – ответил Филип. – А что касается его пессимизма, то я лично предпочитаю называть это реализмом. Может быть, Тони, я действительно слишком часто упоминаю Шопенгауэра, но, поверь, у меня есть для этого все основания. – Личное обращение Филипа, судя по всему, потрясло Тони. Филип тем временем, по-прежнему не глядя ни на кого, перевел взгляд с потолка на окно и продолжил с таким видом, будто разглядывал что-то в саду: – Во-первых, знать Шопенгауэра – значит знать меня: мы с ним всегда вместе, близнецы-братья. Во-вторых, он был моим психотерапевтом и чрезвычайно мне помог. Он стал частью меня – я имею в виду его идеи, конечно. Это как у многих из вас с доктором Хертцфельдом. Стоп – с Джулиусом, я хотел сказать. – Едва заметно улыбнувшись, Филип взглянул на Джулиуса – первый случай, когда в его голосе прозвучало что-то похожее на иронию. – И наконец, я надеюсь, что некоторые размышления Шопенгауэра смогут пригодиться кому-то из вас, как они пригодились мне.
Джулиус взглянул на часы и прервал молчание, наступившее сразу после слов Филипа:
– Ну, что ж, это была очень плодотворная встреча – мне даже не хочется прерывать вас, но, к сожалению, наше время вышло.
– Плодотворная? Чем же это, интересно? – пробормотал Тони, направляясь к выходу.
Глава 20. Предвестники вселенского пессимизма
Одно из первых правил психотерапии гласит, что пациенты сами несут ответственность за свои проблемы. Опытный психотерапевт никогда не станет поддаваться на жалобы пациентов, винящих во всем своих прежних врачей, – напротив, он всегда будет помнить, что человек сам создает свое окружение и что в любом конфликте всегда есть две стороны. Что же тогда можно сказать про отношения между юным Артуром Шопенгауэром и его родителями? Естественно, тон в них задавали Генрих и Иоганна: на них лежала ответственность за рождение и воспитание сына; в конце концов, они были взрослые.
И все же нельзя сбрасывать со счетов и характер самого Артура: с момента рождения в его натуре что-то такое было – какое-то особое неистребимое упорство, которое уже с ранних лет задевало и Иоганну, и остальных окружающих. Артур никогда не умел вызывать к себе ни любви, ни великодушия, ни умиления – напротив, он почти всегда рождал в людях одну неприязнь и раздражение.
Возможно, эта черта развилась в нем вследствие бурно протекавшей беременности Иоганны, а может, сказалась дурная наследственность: генеалогия семьи Шопенгауэров отличается многочисленными случаями психического нездоровья. Отец Артура задолго до самоубийства страдал тяжелой хронической депрессией, был беспокоен, мрачен, сторонился людей и вообще был неспособен радоваться жизни. Мать отца, взбалмошная особа с весьма неустойчивой психикой, закончила жизнь в доме умалишенных. Из трех братьев отца один был умственно отсталым, другой, если верить биографу, скончался в тридцать четыре года «вследствие своей невоздержанности в полусумасшедшем образе в жалком углу среди таких же грешников, как и он сам» [54] [54] Arthur Hubscher. Arthur Schopenhauer: Ein Lebensbild. Dritte Auflage, durchgesehen von Angelika Hubscher, mit einer Abbildung und zwei Handschriftproben. – Mannheim: F. A. Brockhaus, 1988. – S. 12.
[Закрыть].
Характер Артура, обнаружившийся уже в раннем возрасте, позже претерпит мало изменений. В письмах родителей, адресованных юному Артуру, можно встретить немало свидетельств тому, что их серьезно тревожило безразличие, какое сын демонстрировал к светским удовольствиям. Вот, к примеру, что пишет мать:
«…как ни мало внимания я сама уделяю строгому следованию этикету, все же того меньше я одобряю грубость и эгоизм, как в мыслях, так и в поступках… Ты же имеешь больше чем склонность к этому» [55] [55] Rudiger Safranski. Schopenhauer and the Wild Years of Philosophy. – P. 40.
[Закрыть]. А вот выдержка из письма отца: «Единственное, чего я хотел бы, это чтобы вы научились быть обходительным с людьми» [56] [56] Ibid., p. 40.
[Закрыть].
В путевых дневниках юного Артура уже обнаруживаются черты будущего взрослого человека, в них юноша, не достигший и двадцати лет, демонстрирует поразительно глубокое отношение к жизни, умение отстраниться от суеты и словно с космической высоты взглянуть на происходящее. Описывая портрет какого-то голландского адмирала, он заметит: «Рядом с картиной лежали символы его жизненного пути: его сабля, кубок, цепь доблести, которую он носил, и, наконец, пуля, которая сделала все это совершенно для него бесполезным» [57] [57] Ibid., p. 42.
[Закрыть].
Зрелый философ, Шопенгауэр всегда будет гордиться своей особой объективностью и беспристрастностью или, как он сам будет говорить, умением «обозревать мир с другого конца телескопа». Это удовольствие быть отстраненным наблюдателем будет заметно в его ранних замечаниях, сделанных во время путешествия в горах. В шестнадцать лет он напишет: «Я нахожу, что панорама, открывающаяся с большой высоты, чрезвычайно способствует расширению внутреннего горизонта… все малое и незначительное исчезает из виду, и только важное сохраняет очертания» [58] [58] Ibid., р. 51
[Закрыть].
В этой фразе таится предзнаменование всей его дальнейшей жизни: Артур будет упорно развивать в себе это космическое видение, которое позволит ему, став уже зрелым философом, осмыслить мир глобально – не только в материальном и идейном, но и во временном плане. Он очень рано интуитивно постигнет принцип Спинозы «sub species aeteritatis» и станет рассматривать мир во всех его проявлениях с точки зрения вечности. Общие человеческие условия, заключит Артур, возможно лучше всего понять, не сливаясь с ними, а, напротив, как можно больше от них отдалившись. В юности он напишет удивительные строчки, в которых пророчески предскажет свое будущее горделивое одиночество:
Философия – высокая альпийская дорога; к ней ведет лишь крутая тропа через острые камни и колючие тернии: она уединенна и становится все пустыннее, чем выше восхедишь, и кто идет по ней пусть не ведает страха, все оставит за собою и смело прокладывает себе путь свой в холодном снегу… Зато скоро видит он мир под собою, и песчаные пустыни и болота этого мира исчезают, его неровности сглаживаются, его раздоры не доносятся наверх – проступает его округлая форма. А сам путник всегда находится в чистом, свежем альпийском воздухе и видит уже солнце, когда внизу еще покоится темная ночь [59] [59] Arthur Schopenhauer. Manuscript Remains… – Vol. 1. – § 20. Пер. Ю. Айхенвальда.
[Закрыть].
Но не только тяга к заоблачным высотам будет двигать им – не обойдется и без подталкивания снизу. Со временем в характере Артура особенно заметно проступят две черты: глубокое презрение к людям и мрачный пессимизм. С какой силой его будет тянуть к высотам, к бескрайним видам и космическим перспективам, с такой же будет отталкивать от людей. Однажды после любования восхитительным восходом солнца в горах он спустится вниз, в мир людей, и, войдя в сельскую хижину, увидит следующую картину: «Мы вошли в комнату, где пировали слуги… Это было омерзительно: их животная радость обожгла нас нестерпимым жаром» [60] [60] Riidiger Safranski. Schopenhauer and the Wild Years of Philosophy. – P. 51.
[Закрыть].
Его путевые дневники полны презрительных и насмешливых замечаний. О службе в протестантской церкви он напишет: «От писклявых завываний толпы у меня разболелись уши, а один человечек, который все время широко разевал рот и что-то блеял, постоянно смешил меня» [61] [61] Остальные цитаты в данном абзаце: Ibid., р. 43.
[Закрыть]. А вот о еврейской службе: «Двое мальчишек, стоявших рядом со мной, окончательно вывели меня из себя: всякий раз, когда они, разинув рот и откинув головы, начинали выводить свои рулады, мне казалось, они хотят меня оглушить». Группа английских аристократок «выглядела как переодетые крестьянские шлюшки», король Англии «симпатичный старичок, но королева безобразна до неприличия». Император и императрица Австрии «оба были одеты чрезмерно скромно. Он – сухопарый человек с таким откровенно глупым лицом, что скорее можно было заключить, что он обыкновенный портняжка, чем император». Школьный приятель Артура, зная о мизантропической наклонности друга, напишет ему, когда тот будет в Англии: «Я сожалею, что твое пребывание в Англии заставило тебя презирать всю нацию»[62] [62] Ibid., р. 45.
[Закрыть].
Вот этот-то язвительный и непочтительный юноша и превратится позже в мрачного и неуживчивого человека, который станет называть людей «двуногими» и будет согласен с Фомой Кемпийским, признававшимся: «Всякий раз, когда я выхожу к людям, я возвращаюсь все меньше похожим на человека» [63] [63] Arthur Schopenhauer. Manuscript Remains… – Vol. 4. – P. 512 / «Ειζεαυτου», § 32.
[Закрыть].
Но не могли ли эти качества помешать ему стать «светлым оком мира»? Артур предчувствовал эту опасность и записал в своем дневнике следующую памятку для самого себя: «Посмотри, не представляют ли твои объективные суждения большей частью замаскированных субъективных» [64] [64] R u d i g е г Safranski. Schopenhauer and the Wild Years of Philosophy. – P. 167. Пер. Ю. Айхенвальда.
[Закрыть]. И все же, как мы увидим позже, несмотря на всю свою решимость и жесткую самодисциплину, Артур частенько будет отступать от этого прекрасного юношеского совета.
Глава 21
На следующем занятии, не успела Бонни заикнуться про Пэм, как дверь распахнулась – и на пороге возникла Пэм собственной персоной. Широко раскинув руки, она воскликнула: «А вот и я!» – и все, кроме Филипа, повскакали и радостно ее окружили. Сияя своей удивительной улыбкой, Пэм обошла всех по порядку, заглянула каждому в глаза, обняла, поцеловала Ребекку и Бонни, взъерошила волосы Тони и, добравшись наконец до Джулиуса, нежно прижалась к нему и прошептала: «Спасибо, что рассказал мне по телефону. Я жутко расстроена, я так за тебя волнуюсь». Джулиус взглянул на нее: такое родное, улыбающееся лицо Пэм светилось радостью и оптимизмом.
– Добро пожаловать домой, Пэм, – сказал он. – Боже мой, я так рад снова тебя видеть. Мы скучали по тебе. Я скучал по тебе. Тут взгляд Пэм упал на Филипа, и лицо ее мгновенно омрачилось. Улыбка стерлась, добродушные морщинки вокруг глаз исчезли. Думая, что она удивлена появлением нового лица в группе, Джулиус поспешил представить:
– Это наш новичок, Филип Слейт.
– Что ты говоришь. Неужели Слейт? – воскликнула Пэм, нарочито избегая глядеть на Филипа. – А я думала, Филип Слиз Лицом-Вниз. Или Филип Слаймболл Женский-Дырокол. – Она повернулась к двери. – Извини, Джулиус, я не могу находиться в одной комнате с этим подонком.
Все остолбенели от неожиданности и, застыв, молча переводили взгляды с Пэм, которая так и кипела от возмущения, на Филипа, сохранявшего полную невозмутимость. Джулиус не выдержал первым:
– Что с тобой, Пэм? Сядь, пожалуйста.
Тони внес в комнату еще один стул и хотел было его поставить, как Пэм воскликнула:
– Не сюда. – (Свободное место было только рядом с Филипом.) Ребекка немедленно поднялась и проводила Пэм к своему месту.
После паузы Тони спросил:
– Что случилось, Пэм?
– Боже мой. Я не могу поверить. Это что, чья-то шутка? Хуже этого ничего нельзя было придумать. Снова видеть эту мразь.
– Да что такое? – спросил Стюарт. – Что ты такое натворил, Филип? Скажи же что-нибудь. Что здесь происходит?
Филип ничего не ответил и только слегка покачал головой, но его лицо, на котором успела выступить краска, говорило само за себя. Значит, какие-то нервы у тебя все-таки есть, отметил про себя Джулиус.
– Что происходит, Пэм? – настаивал Тони. – Скажи, здесь все свои.
– За всю жизнь ни один мужчина не обходился со мной хуже, чем это существо. Вернуться домой, в свою родную группу, чтобы оказаться с ним в одной комнате, – нет, это невероятно. Мне хочется кричать, топать ногами, но я не стану – по крайней мере, не при нем. – Внезапно замолчав, Пэм опустила глаза, медленно качая головой.
– Джулиус! – воскликнула Ребекка. – Сделай же что-нибудь. Мне это совсем не нравится. Что творится, в конце концов?
– Очевидно, между Пэм и Филипом что-то произошло раньше, но, уверяю вас, для меня это полный сюрприз.
Немного помолчав, Пэм подняла глаза на Джулиуса и сказала: -
– Я так много думала о нашей группе, так хотела скорее вернуться, все думала, что расскажу вам про путешествие. Но извини, Джулиус, теперь я не могу. Я не хочу здесь больше оставаться.
Она встала и направилась к выходу. Тони тут же подскочил к ней и схватил за руку:
– Пэм, пожалуйста, ты не можешь так уйти. Ты так много для меня сделала. Давай я сяду рядом с тобой. Или, хочешь, мы с ним выйдем, побеседуем с глазу на глаз? – Пэм слабо улыбнулась и позволила Тони отвести себя обратно на место. Гилл пересел, освободив соседнее кресло для Тони.
– Тони прав. Я хочу тебе помочь, – сказал Джулиус. – Мы все хотим тебе помочь. Но ты должна пойти нам навстречу, Пэм. Очевидно, здесь скрывается какая-то история – и неприятная история, между тобой и Филипом. Расскажи нам, заговори об этом – иначе мы не сможем ничего сделать.
Пэм слабо кивнула, закрыла глаза, открыла рот – но не издала ни звука. Немного погодя встала, подошла к окну и, прижавшись лбом к стеклу, несколько минут постояла так. Тони хотел было подойти к ней, но она, замахав рукой, заставила его вернуться на место. Наконец она повернулась, несколько раз глубоко вздохнула и заговорила чужим механическим голосом:
– Пятнадцать лет назад мы с Молли решили побывать в Нью-Йорке. Молли была моей соседкой и лучшей подругой, мы были знакомы с детства. Тогда мы только закончили первый курс в Амхёрсте и решили записаться на лето в Колумбию. Кроме всего прочего, мы должны были проходить античную философию – и догадайтесь, кто был нашим АП?
– АП? – переспросил Тони.
– Ассистент преподавателя, – тут же негромко отозвался Филип – это были первые слова, которые он произнес с начала занятия. – АП – это аспирант, который обычно помогает преподавателю – ведет практические занятия, проверяет контрольные и принимает экзамены.
Казалось, неожиданное замечание Филипа выбило Пэм из колеи. Тони разъяснил ей:
– Филип у нас справочное бюро. Ты спрашиваешь – он отвечает. Прости, я не должен был тебя перебивать, теперь буду держать язык за зубами. Продолжай. Может, присядешь сюда, к нам?
Пэм кивнула, вернулась на место, снова закрыла глаза и продолжила рассказ:
– В общем, пятнадцать лет назад мы с Молли оказались на летних курсах в Колумбии, и этот человек… это существо, которое сидит здесь, стал нашим АП. У Молли тогда был кризис: она только что поссорилась со своим парнем, с которым долго встречалась. В общем, не успели начаться занятия, как этот… извините, человек, – она кивнула на Филипа, – начинает к ней клеиться. Заметьте, нам было по восемнадцать, и он был нашим преподавателем – профессор появлялся только на лекции, два раза в неделю, а АП отвечал за весь курс, и он же принимал экзамены. О, это был мастер. А Молли была в расстроенных чувствах – в общем, она втюрилась в него по уши и около недели была на седьмом небе от счастья. Как-то в субботу вечером он звонит мне и просит зайти к нему по поводу моего выпускного сочинения. Я прихожу, и он начинает с места в карьер. Я была совершенной дурочкой, позволила ему собой манипулировать, и не успеваю я опомниться, как оказываюсь в чем мать родила на диване в его кабинете. Мне было восемнадцать, и Я была девственницей. А он был любитель грубого секса. Он повторил это еще через пару дней, а потом бросил меня – он даже перестал смотреть в мою сторону, как будто мы незнакомы, и хуже всего было то, что он даже не счел нужным объяснить, почему меня бросил. А я – я была так напугана, я боялась спросить – он ведь был учителем, от него зависели выпускные экзамены. Вот так я вошла в сказочный, волшебный мир секса. Я была уничтожена, я была в бешенстве, мне было так стыдно… и… хуже всего, я считала, что виновата перед Молли. И перестала считать себя привлекательной.
– О, Пэм! – воскликнула Бонни, качая головой. – Не удивительно, что ты сейчас в шоке.
– Погоди-погоди. Ты еще не знаешь худшего про это чудовище, – с новым жаром заговорила Пэм. Джулиус взглянул на группу: все, подавшись вперед, не отрываясь, смотрели на Пэм; один Филип сидел, закрыв глаза, с совершенно отсутствующим видом. – Они с Молли встречались еще пару недель, и потом он бросил ее – просто сказал, что она ему надоела и он уходит – и все. Бесчеловечный ублюдок. Представляете себе учителя, который говорит это студентке? Больше он не сказал ей ни слова и даже запретил ей трогать ее вещи, которые она оставила в его квартире. Напоследок показал ей список из тринадцати женщин, с которыми переспал за тот месяц, – в основном девчонки из нашей группы. Мое имя значилось первым в этом списке.
– Он не показывал ей этот список, – не открывая глаз, отозвался Филип, – она сама его отыскала, когда рылась в его вещах.
– Кто, кроме последнего извращенца, станет составлять такие списки? – парировала Пэм.
Не меняя тона, Филип невозмутимо ответил:
– Природа диктует самцу разбрасывать свои семена. Он был ни первым, ни последним, кто вел учет полей, которые сам вспахал и засеял.
Пэм только воздела руки и, покачав головой, тихо произнесла: «Слышали?», словно желая сказать: глядите, как нелепа эта жизненная форма. Демонстративно пропустив мимо ушей замечание Филипа, она продолжила:
– Начались страдания и слезы. Молли мучилась ужасно, и прошло еще много времени, прежде чем она снова смогла поверить мужчинам. Мне она так никогда и не поверила. Нашей дружбе пришел конец, она никогда не простила мне измены. Для меня это был страшный удар, и для нее, думаю, тоже. Мы, конечно, пытались сойтись снова – мы и сейчас иногда переписываемся, сообщаем друг другу новости, – но она ни разу с тех пор не заговаривала со мной о том лете.
Наступило долгое молчание – возможно, самое долгое за всю историю группы. Наконец, Джулиус сказал:
– Пэм, это действительно ужасно. Пережить такое в восемнадцать лет. То, что ты никогда не рассказывала об этом ни мне, ни группе, только доказывает, сколь серьезна была травма. Потерять лучшую подругу, и каким образом. Это действительно ужасно. Но позволь мне сказать тебе кое-что. Это хорошо, что ты осталась сегодня, и хорошо, что рассказала об этом. Я знаю, тебе не понравится то, что я хочу сказать, но, может быть, это не так уж плохо, что ты и Филип – вы оба оказались здесь. Может быть, это знак того, что вам обоим нужно что-то сделать, что-то исправить – и тебе, и ему.
– Ты прав, Джулиус, мне действительно не понравилось то, что ты сказал. И еще мне не нравится вновь видеть это ничтожество. Он в моей любимой группе. Это меня просто убивает.
У Джулиуса закружилась голова. Мысли неслись вихрем, одна за другой. Сколько Филип будет это терпеть? Должен же быть предел даже у него. Сколько еще, прежде чем он встанет и выйдет из комнаты, чтобы никогда больше не возвращаться? Джулиус ясно представил себе эту картину, одновременно не переставая размышлять о последствиях – для самого Филипа, конечно, но главным образом для Пэм – она значила для него гораздо больше. Пэм была удивительная женщина, и он очень хотел ей помочь. Выиграет ли она что-нибудь, если Филип уйдет? Возможно, она испытает радость мщения – но это будет пиррова победа. Если бы я мог найти способ, думал он, помочь Пэм простить Филипа. Это бы исцелило ее – и, возможно, Филипа тоже.
Он чуть не содрогнулся при слове «простить»: из всех последних увлечений, потрясавших психотерапию, болтовня о «всепрощении» раздражала его больше всего. Как опытный психотерапевт, он и раньше всегда работал с пациентами, которые не могли расстаться со своими обидами, которые этими обидами подпитывались и не желали обрести душевного покоя; он и раньше всегда знал множество способов помочь людям достичь «прощения», то есть отстраниться от собственных обид. Да что говорить, у каждого уважающего себя психотерапевта есть целый арсенал приемов по «выбросу» дурных мыслей из головы. Но прежняя бесхитростная индустрия «прощения» неожиданно вышла из моды, ей на смену пришла другая, крикливая и важная, которая бросилась наклеивать новые ярлыки на традиционный аспект психотерапии, вываливая его на прилавок как принципиально новое слово науки. И пошло-поехало. Подхваченная общей волной «всепрощенчества», эта новая идея принялась расти, заговорила громче, сливаясь с общественным хором горького раскаяния по поводу тяжких преступлений человечества, вроде геноцида, рабства и колониальной эксплуатации. Даже Папа недавно покаялся за разграбление Константинополя, совершенное крестоносцами в тринадцатом веке.
Если Филип сбежит, как Джулиус, терапевт группы, будет себя чувствовать? Нет, Джулиус не хотел терять Филипа, хотя не слишком ему сочувствовал. Сорок лет назад студентом он однажды был на лекции Эриха Фромма, и тот процитировал Теренция, сказавшего более двух тысяч лет назад: «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо». Фромм тогда подчеркнул, что хороший врач должен смело входить в темную область своего сознания, сливаясь с любыми мыслями и фантазиями пациента. Вот это-то Джулиус и пытался сейчас сделать. Так, значит, Филип вел список женщин, с которыми переспал? А разве Джулиус сам в молодости не вел таких списков? Естественно, вел, как, впрочем, и большинство мужчин; с которыми ему доводилось об этом говорить.
Кроме того, напомнил он себе, ты ответствен перед Филипом – и перед его будущими клиентами тоже. Ты сам пригласил Филипа стать твоим пациентом и учеником. Нравится тебе или нет, Филип готовится стать психотерапевтом, и вышвыривать его за дверь – это плохое лечение, плохое обучение и плохой пример. В конце концов, это просто безнравственно.
Размышляя, Джулиус одновременно лихорадочно подбирал слова, с которых следовало начать. Он уже хотел воспользоваться своим излюбленным «я оказался перед непростым выбором: с одной стороны… но, с другой стороны…», но ситуация была слишком необычной, чтобы прибегать к избитым фразам, поэтому он начал так:
– Филип, в разговоре с Пэм ты называл себя в третьем лице: вместо «я» ты все время говорил «он», ты сказал: «Он не показывал ей этот список». Может ли это означать, что теперь ты считаешь себя совсем другим человеком?
Филип открыл глаза и посмотрел на Джулиуса. В глаза – какая редкость. Уж не благодарность ли в этом взгляде?
– Давно известно, – начал Филип, – что клетки тела регулярно стареют, отмирают и заменяются новыми. Несколько лет назад считалось, что только клетки мозга – ну, и женские яйцеклетки, конечно, – на протяжении жизни остаются неизменными, но исследования показали, что нервные клетки тоже отмирают и в мозгу постоянно рождаются новые нейроны – в том числе и клетки, формирующие структуру моего головного мозга, мое сознание. Думаю, будет справедливо сказать, что ни одна клетка во мне сейчас не существовала в том человеке, который носил мое имя пятнадцать лет назад.
– Господа присяжные заседатели, это был не я, – рявкнул Тони. – Чист и невиновен. Это кто-то другой, чьи-то чужие клетки мозга сделали свое грязное дело еще до того, как я прибыл на место.
– Тони, это нечестно, – вступилась Ребекка. – Мы все переживаем за Пэм, но это не значит, что мы должны наваливаться на Филипа. Чего ты от него хочешь?
– Черт возьми. Как насчет «извини» для начала? – Тони повернулся к Филипу: – Это хотя бы можно сделать? Или боишься, что переломишься?
– Я хочу кое-что сказать вам обоим, – заметил Стюарт. – Сначала тебе, Филип. Я слежу за исследованиями головного мозга и хочу сказать, что твои сведения о регенерации клеток не совсем верны. По последним данным, стволовые клетки костного мозга, если их пересадить другому человеку, иногда обнаруживаются в виде нейронов в некоторых участках мозга, к примеру, в гиппокампе или в клетках Пуркинье в коре мозжечка, но пока нет никаких доказательств, что в коре головного мозга образуются новые нейроны.
– Принято, – ответил Филип. – Можешь прислать мне ссылки на свои источники? – Филип вынул визитку из бумажника и протянул ее Стюарту; тот бросил визитку в карман, даже не взглянув.
– Теперь ты, Тони, – продолжал Стюарт. – Ты знаешь, я ничего против тебя не имею. Мне нравится, что ты всегда режешь правду-матку в глаза, но сейчас я согласен с Ребеккой: мне кажется, ты ведешь себя слишком грубо – и не к месту. Когда я только пришел в группу, ты, помнится, каждый выходной ходил на отработку – чистил дороги в качестве условного наказания за сексуальные домогательства…
– Нет, это были побои. Сексуальные домогательства – чушь собачья. Лиззи потом забрала заявление. Да и побои чушь. Но к чему ты это?
– А к тому, что я никогда не слышал, чтобы ты извинялся или чтобы кто-то нападал на тебя за тот случай. Наоборот, я все время видел обратное – я видел только поддержку. Да, черт побери, одну поддержку. Все женщины, даже она, – Стюарт повернулся к Пэм, – смотрели сквозь пальцы на твои… твои… как это? правонарушения. Помнишь, как Пэм с Бонни возили тебе сэндвичи, когда ты собирал мусор на 101-й магистрали? Я помню, как Гилл и я, мы говорили, что нам далеко до твоего… твоего… как мы это называли?
– Тарзанства, – подсказал Гилл.
– Да-а, – ухмыльнулся Тони. – Тарзан Первобытный Человек. Это было круто.
– Ну так, может, брейк? То, что хорошо для Тарзана, не очень хорошо для Филипа. Дай ему высказать свое мнение. Я тоже сочувствую Пэм, но давай по порядку. Что ты налетел на человека? Пятнадцать лет – это тебе не фунт изюму.
– Ладно, – ответил Тони. – Тогда не про пятнадцать лет, а про сейчас. – Он повернулся к Филипу: – Я что-то не понял, на прошлой неделе ты… Филип. Черт тебя побери. Как с тобой говорить, если ты не смотришь в глаза? Меня это просто бесит. На прошлой неделе ты говорил, что тебе по барабану, нравишься ты Ребекке или нет и что она… э-э-э… клеится?… не могу вспомнить это проклятое слово.
– Красуется! – подсказала Бонни. Ребекка обхватила голову руками:
– Боже мой. Сколько можно? Подумать только. Я распустила волосы – какой ужас. Неужели это такое страшное преступление, что срок давности на него не распространяется? Сколько я буду все это терпеть?
– Сколько нужно, – откликнулся Тони и снова вернулся к Филипу: – Ну, так как же мой вопрос, Филип? Ты тут изображаешь из себя монаха, делаешь вид, что ты выше всего этого, слишком чистенький, чтобы интересоваться женщинами, даже самыми хорошенькими…
– Теперь ты понимаешь, – заговорил Филип, обращаясь не к Тони, а к Джулиусу, – почему я был против группы?
– Ты это предвидел?
– Я тысячу раз все это проходил, – ответил Филип. – Чем меньше я общаюсь с людьми, тем лучше. Когда я пытался жить с ними, взамен получал одно беспокойство. Уйти от жизни, не хотеть, не ждать ничего, целиком посвятить себя размышлениям – вот мой путь, единственный путь к спокойствию.
– Все это прекрасно, Филип, – ответил Джулиус, – только есть одно «но». Если ты собираешься работать в группе, или вести группу, или помогать своим клиентам строить отношения с другими людьми, тебе не избежать отношений с ними.
Краем глаза Джулиус заметил, как Пэм изумленно качает головой:








