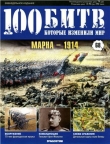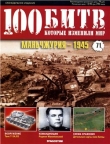Текст книги "Первая мировая война. Катастрофа 1914 года"
Автор книги: Макс Хейстингс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 50 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
27 июля Жоффр по собственной инициативе сообщил России, что она может полностью рассчитывать на поддержку его страны. И начальник штаба, и военный министр Мессими призывали Россию поторопиться с мобилизацией и как можно скорее выступить против Германии. Они знали, что российские военные планы предполагают немедленный переход в наступление на западе. Для безопасности Франции было важно, чтобы Россия как можно скорее осознала «угрозу своему существованию» и навязала Мольтке войну на два фронта. На парижской бирже началась паника, поскольку все кинулись скупать золото. Во Франции, как и по всей Европе, крах кредитной системы привел к нарастанию финансового кризиса, который удалось ослабить только вмешательством правительств. Люди высыпали на бульвары, заполняли кафе и рестораны, утоляя не столько голод, сколько жажду общения и новостей.
В Берлине вечером 28 июля несколько тысяч жителей рабочих окраин прошли маршем через центр города с социалистическими песнями и лозунгами «Долой войну!» и «Да здравствует социалистическая демократия!». Конная полиция с саблями перегородила подступы на главные улицы, однако около десяти вечера тысячная толпа все же прорвалась на Унтер-ден-Линден. Прохожие на тротуарах запевали в пику протестующим патриотические гимны «Стража на Рейне» и «Славься ты в венце победном». Полчаса спустя полиция пошла в наступление и очистила улицу под громкие аплодисменты с балконов кафе Bauer и Kranzler, где стояли завсегдатаи с чашками горячего шоколада.
Двадцать восемь человек были арестованы за выкрикивание антивоенных лозунгов и «нарушение общественного порядка». «Правая» пресса на следующее утро дала себе волю, клеймя демонстрантов «оголтелой толпой», а выступающих против войны – предателями. Ряд историков считает, что в Германии число противников войны превышало число сторонников, и это вполне может быть правдой. Однако на кайзера, Мольтке и Бетмана-Гольвега народные протесты не влияли никоим образом – власти предержащие полагали (не без основания), что возмущение уляжется, как только дойдет до дела. На этот раз на улицы Германии вышло с протестами гораздо меньше народа, чем четырьмя годами ранее, когда отстаивали избирательную реформу в Пруссии.
Первый заметный стратегический шаг со стороны Британии последовал в воскресенье 26 июля, когда после учебной мобилизации предполагалось распустить по базам военно-морской флот метрополии. Редакция нордклиффской Daily Mail считала проявленную Первым лордом Адмиралтейства инициативу в какой-то мере своей заслугой. В разгар надвигающегося кризиса редакция отправила в норфолкскую резиденцию, где Первый лорд находился на выходных, телеграмму следующего содержания: «Уинстону Черчиллю, Пиар-Три-Коттедж, Оверстрэнд. АВСТРИЯ ОБЪЯВИЛА СЕРБИИ ВОЙНУ НЕМЦЫ СОСРЕДОТАЧИВАЮТ ФЛОТ ПРАВДА ЛИ ЧТО БРИТАНСКИЙ ФЛОТ ДЕМОБИЛИЗУЕТСЯ? DAILY MAIL». Сообщение передали Черчиллю на взморье. Отвечать он не стал, однако в течение часа переговорил по телефону с Первым морским лордом, принцем Луисом Баттенбергом, и дневным поездом отправился обратно в Лондон. Ближе к вечеру вышел приказ отменить рассредоточение флота, и два дня спустя флот был передислоцирован на военную базу в Скапа-Флоу у Оркнейских островов{159}159
Clarke, Tom My Northcliffe Diary Gollancz 1931 p. 60
[Закрыть]. Поль Камбон признавался позже, что Черчилль оказал Франции огромную услугу своим горячим участием и приказом об отмене демобилизации флота – услугу, «которую мы [французы] так и не смогли оценить по достоинству»{160}160
Recouly p. 45
[Закрыть].
И тем не менее ощущения непосредственной угрозы у британцев не было. Асквит писал Венеции Стэнли 28 июля: «Вчера было заседание Кабинета… в основном говорили о войне и мире. Боюсь, эксперимент Грея с переговорами “à quatre” [четырехсторонними] провалится, поскольку Германия отказывается от участия. Одна надежда, что Австрия и Россия уладят дело между собой. Однако в данный момент положение оптимизма не вызывает – разве что у Уинстона». Черчилль стоял на тех же неприкрыто циничных позициях, которые определяли берлинскую политику: «Если войны все равно не избежать, то сейчас самый подходящий момент, к тому же единственный способный сплотить Францию, Россию и Британию». В тот же день он писал своей жене Клементине: «Моя дорогая и прекрасная, все склоняется к катастрофе и краху. Я увлечен, целеустремлен и рад»{161}161
Soames, Mary Speaking for Themselves p. 96
[Закрыть]. Асквит свое письмо к Венеции Стэнли от 28 июля закончил неожиданно приземленно: «В палате сегодня довольно вяло, так что попрошу Вайолет пригласить пару человек домой на ужин и бридж». Не воспарил боевой дух премьер-министра и на следующий день: «Только что вышел с заседания армейского совета. <…> Довольно интересно, поскольку дает представление о первых шагах в назревающей войне».
Кому-то разгорающийся конфликт предоставил удобную возможность нажиться. Пироксилиновая компания, производившая в Кенте кордит, пироксилин, пиротехнику для подачи сигналов тревоги и детонаторы, отправила 29 июля письмо на внушительном фирменном бланке сербскому военному министру. Правление предлагало поставить 10 000 винтовочных гранат – «часть контракта на 80 000 штук, который мы выполняем для другого иностранного правительства. <…> Перед этим мы успешно выполнили заказ на 25 000 штук, которые использовались в военных действиях и вполне себя зарекомендовали. <…> 10 000 штук готовы к отгрузке и могут быть отправлены в течение суток. Предлагаемую гранату можно применять и как ручную, в ближнем бою». Сведений о том, сделал ли Белград заказ, нет, тем не менее пироксилиновой компании не откажешь в предприимчивости{162}162
SSA Belgrade 80-7-356-7
[Закрыть].
Вечером 28 июля российская военная разведка донесла, что в процессе мобилизации находятся 3/4 австрийской армии – 12 корпусов из 16 – гораздо больше, чем необходимо для похода на Сербию. И хотя царь еще не подписал приказ, этим же вечером начальник российского штаба телеграфировал командующим всех военных округов, предупреждая, что «30 июля назначается первым днем всеобщей мобилизации»{163}163
McMeekin p. 73
[Закрыть]. Царь уступил Сазонову и согласился начать общую мобилизацию на следующий день. С 24 июля Россия – опережая все страны, кроме Австрии и Сербии, – начала готовиться к войне, уверившись, что Австрия намерена сокрушить сербов силой. Надежды Петербурга на мирное урегулирование рухнули 29 июля – при известии о том, что австрийцы начали обстрел Белграда из артиллерийских орудий.
Российские политики и дипломаты пришли к единодушному мнению – нужно сражаться. Глава дипломатической миссии в Софии А. А. Савинский, признанный центрист, заявил, что, если Россия даст слабину, «наш престиж в славянских государствах и на Балканах будет подорван безвозвратно»{164}164
Lieven p. 147
[Закрыть]. Ему вторил Александр Гирс из Константинополя: если Россия склонится перед Австрией, Турция и Балканы незамедлительно перейдут в стан Центральных держав. Другой дипломат, Николай де Базили, с достоинством отвечал своему знакомому – австрийскому военному атташе, предупреждавшему об опасности внутренней катастрофы для России, если царь ввяжется в войну: «Вы глубоко заблуждаетесь, если полагаете, будто страх перед революцией помешает России исполнить свой национальный долг»{165}165
ibid. p. 86
[Закрыть].
Бетман-Гольвег предупредил Санкт-Петербург, что Германия намерена начать мобилизацию, если Россия не остановит свою. Это известие лишь укрепило уверенность Сазонова в том, что схватка неизбежна, однако посеяло сомнения у царя. Он получил личное послание от кайзера, после которого принялся требовать, чтобы Россия вернулась на шаг назад, к частичной мобилизации. Однако Сазонов стоял на своем. В 5 часов вечера 30 июля, не переставая сокрушаться о том, что «тысячи и тысячи приходится посылать на смерть», Николай II подписал приказ о всеобщей мобилизации, вступающий в силу со следующего утра.
Тем же вечером многие российские войсковые соединения были предупреждены по телефону – ждать курьера с секретным пакетом. Сумские гусары получили приказ о 36-часовой готовности к погрузке в эшелоны, которые последуют к польской границе с Восточной Пруссией, в то время как их соседи по казармам под Москвой – гренадерский полк – направлялись к австрийской границе. Солдатам раздали консервы из неприкосновенного запаса, и хотя корнет Соколов заметил, что они датированы 1904 годом, солдат это не остановило. К стыду гусарских офицеров, уже через час двор казармы был усыпан пустыми консервными банками. «Чистое ребячество!» – вспоминал раздосадованный Владимир Литтауэр, сравнивая поведение солдат с тем, как держались немецкие пленные, захваченные гусарами через несколько месяцев. Еле живые от усталости, голодные, они не притронулись к неприкосновенному запасу продовольствия – дисциплина в армии кайзера была превыше всего{166}166
Литтауэр, p. 127
[Закрыть].
Когда последний на 30 июля пассажирский поезд из Восточной Пруссии в Россию пересек границу, один российский пассажир, до тех пор молчавший, вдруг начал громко сокрушаться, что у него не нашлось бомбы, чтобы сбросить на немецкий железнодорожный мост в Диршау. Он же радовался, что караул на мосту по-прежнему в парадной форме, а не в полевой, – значит «немецкие свиньи» не совсем готовы{167}167
Knox p. 39
[Закрыть]. Российские власти понимали, что ввязываются в авантюру, превышающую возможности страны. Маловероятно, что они решились бы выступить против Центральных держав в 1914 году без гарантированной поддержки Франции. В дипломатическом и даже военном отношении было бы лучше отложить мобилизацию до тех пор, пока австрийская армия не вторгнется в Сербию. Однако петербургских вершителей судеб, особенно Сазонова, подстегивал страх, что промедление позволит Германии перехватить инициативу. Колебания относительно характера мобилизации почти наверняка никак не повлияли на дальнейшее развитие событий. Германия в любом случае отреагировала бы на решение Санкт-Петербурга начать военные действия против Австрии.
Россия не делала тайны из масштабной подготовки к войне: в ночь на 30 июля царь без стеснения заявил кайзеру в очередном раунде переписки между «Вилли и Ники»: «Решение о вступивших сейчас в силу военных мерах было принято пять дней назад с целью укрепить оборону в связи с действиями Австрии»{168}168
Geiss, Immanuel July 1914 Batsford 1967 p. 132
[Закрыть].
Те, кто сегодня предпочитает перекладывать на Россию основную вину за Первую мировую, руководствуются тем же доводом, что и кайзер в июле 1914 года: в целях сохранения мира в Европе царю следовало позволить Австрии развязать небольшую войну и расправиться с Сербией. Довод понятен, однако его необходимо дополнить фактами, прежде чем строить сомнительные предположения, будто Россия намеренно вела двойную игру. Апогей июльского кризиса пришелся на 23-е, когда Австрия перестала скрывать намерение уничтожить Сербию, и 24-е, когда Россия начала активно готовиться к отпору. Пока не появятся надежные доказательства того, что сербское правительство участвовало в заговоре против Франца Фердинанда, а Россия знала о готовящемся покушении заранее, стремление царя противостоять попыткам стереть с лица земли Сербию вполне оправдано. Удержать Николая II могли бы не сомнения в законности действий России, а страх за собственную власть, которую чрезвычайная ситуация грозила пошатнуть.
3. Германия выступает
Самой несостоятельной, пожалуй, является точка зрения, будто июльский кризис стал следствием череды роковых случайностей. Как раз наоборот, власти всех великих держав считали, что действуют разумно, преследуя четкие, вполне достижимые цели. Однако вопрос о том, под чьим руководством на самом деле находилась в тот период Германия, остается открытым. В предыдущее десятилетие система власти, несмотря на растущую экономическую мощь страны, постепенно прогнивала. Новое поколение политиков, среди которых много было социалистов, толкалось локтями в борьбе за доступ к власти перед дворцом, где по-прежнему заправляла бряцающая шпорами военизированная аристократия. Кайзер из правителя давно превратился в символ агрессивного немецкого национализма, однако беспорядочного вмешательства в дела страны не прекратил. За власть соперничали отдельные деятели, институты и политические группировки. Армия и флот были друг с другом в натянутых отношениях. Генеральный штаб не желал общаться с Военным министерством. Земли в составе империи то и дело пытались отстоять независимость перед Берлином.
В 1910 году один немецкий писатель предрекал, что в период политической и военной напряженности, предшествующий любому конфликту, «огромным влиянием (к добру ли, к худу ли) будет пользоваться пресса и ее ключевые орудия – телеграф и телефон»{169}169
Hesse p. 2
[Закрыть]. Мольтке с этим соглашался. Какой бы мощной ни была армия, начальник штаба понимал: в XX веке призвать миллионы граждан на войну можно лишь убеждением, что они будут воевать за правое дело. «Мольтке говорил мне, – писал прусский офицер в 1908 году, – что время кабинетных войн закончилось и что война, которую немецкий народ не желает, не понимает, а значит, не одобряет, будет чрезвычайно опасным предприятием. Если… народ сочтет, что война – это прихоть властей, которая нужна лишь затем, чтобы помочь выпутаться из затруднения правящему классу, она начнется с того, что мы будем вынуждены стрелять по собственным подданным»{170}170
Mombauer p. 118
[Закрыть]. Вот почему Германия отказывалась вступать в войну вместе с Австрией в самом начале балканского кризиса. Именно поэтому в июле 1914 года Мольтке так старался выставить Германию – прежде всего в глазах собственного народа – невинной жертвой, а не агрессором. Зреющий в Европе кризис накладывался на беспорядки внутри страны. Рабочие протесты, выражающиеся в частых забастовках, беспокоили берлинское правительство ничуть не меньше, чем британское, французское или российское, – схожие проблемы вызывали опасения за социальную стабильность во всех великих державах.
Поведение кайзера оценивать нелегко – слишком часто он менял свое мнение. Пометки на государственных документах отражают его неисправимую несдержанность во всей красе: «Как бы не так, мистер Сазонов!», «Проклятие!», «Нет!», «Не ему решать!», «Образчик британской наглости!» Восклицательный знак был его любимым политическим инструментом. Осторожность обычно включалась слишком поздно, когда ущерб, нанесенный куда более привычной неосмотрительностью, становился непоправимым. 5 июля кайзер сказал Бетману-Гольвегу: «Мы должны всеми силами помешать австро-сербскому противостоянию перерасти в международный конфликт». А на следующий день выдал Вене «карт-бланш».
27 июля, прочитав по возвращении из норвежского вояжа на яхте скромный ответ Сербии на ультиматум Вены, Вильгельм II сказал сперва, что не видит «больше причин для войны». Однако в тот же день Бетман-Гольвег заявил немецкому послу в Австрии: «Мы должны делать вид, что нас вынуждают к войне»{171}171
Keith Wilson p. 39
[Закрыть]. Генерал Эрих фон Фалькенхайн, прусский военный министр, после встречи с кайзером и Мольтке 27 июля писал: «Решено сражаться до конца, чего бы это ни стоило». Тремя днями позже, 30 июля, баварский генерал Крафт фон Деллмензинген отметил у себя в дневнике: «Кайзер хочет только мира, и императрица делает для этого все возможное. Он даже готов надавить на Австрию, чтобы предотвратить ее дальнейшие шаги. Это будет огромнейшая катастрофа! Мы подорвем все доверие к нам как союзникам»{172}172
ibid. p. 199
[Закрыть].
Однако к тому времени полученные генералом из придворных сплетен сведения уже два дня как устарели. 28 июля кайзер убежденно провозгласил, что «катящийся шар не остановить». Он метался, словно актер-любитель, заполучивший роль монарха в шекспировской исторической хронике. Боясь испортить спектакль, Вильгельм II изо всех сил старался соответствовать роли императора-полководца, совершенно не понимая при этом сути происходящего, поэтому то и дело вступал невпопад или путал реплики.
Несмотря на июльские колебания, к августу военная машина Германии набрала ход. 29 июля в Берлине Фалькенхайн попытался ускорить темпы, заявив, что время на раздумья истекло, довольно ждать повода от России, пора начинать мобилизацию. Чтобы избежать напряжения внутри страны, Бетману-Гольвегу и Мольтке требовалось создавать видимость ответных, а не опережающих действий, однако они понимали, что час близок. Был подготовлен ультиматум для нейтральной Бельгии с требованием пропустить немецкую армию через бельгийские земли. После этого Бетман-Гольвег совершил дипломатический промах. Пока настроения в Британии еще колебались, он направил предложение сэру Эдуарду Грею – не хочет ли Британия сохранить нейтралитет в обмен на гарантии бельгийской и французской территориальной целостности со стороны Германии? Эта попытка шантажа, ясно дающая понять, что Германия готовится нанести удар в западном направлении, разгневала Лондон не на шутку. «В немецкой дипломатии чувствуется топорность и какое-то ребячество», – с презрением писал Асквит{173}173
Asquith to VS 30.7.14 p. 136
[Закрыть]. Грей отрезал, что Британия ни при каких обстоятельствах не примет столь бесстыдное предложение.
Ответ из Лондона чуть не довел Вильгельма и Бетмана-Гольвега до нервного срыва в ночь на 30 июля. Они осознали, что ввергают страну в величайшую за всю историю вооруженную схватку, в которой Британия к тому же не намерена сохранять нейтралитет. Кайзер вдруг пошел на попятный, предложив австрийцам ограничиться взятием Белграда и удерживать его, пока не будут приняты условия ультиматума. В 2 часа 55 минут ночи 30 июля Бетман-Гольвег телеграфировал в Вену, призывая принять дипломатическое посредничество. Послание попало в руки Берхтольду, когда мобилизация в Австрии уже началась. В этот же день пришла телеграмма от Мольтке, убеждающего империю отказаться от посреднического вмешательства и двинуть армию сразу на Россию, а не на Сербию. Таким образом (еще до того, как он узнал о мобилизации в России), начальник немецкого штаба проявил приверженность большой войне и воспользовался своим дипломатическим влиянием, существенно превысив должностные полномочия. Прочитав два противоречащих друг другу послания, Берхтольд поинтересовался у Конрада: «Кто правит в Берлине – Мольтке или Бетман?»{174}174
Mombauer p. 205
[Закрыть] Австрийцы между тем фигурально (а может, буквально) пожали плечами и продолжили мобилизацию и обстрел Белграда.
На вопрос Берхтольда в тот момент следовало отвечать, что правит Мольтке. Бетман-Гольвег больше не пытался противостоять настойчивым требованиям начальника штаба полным ходом вести подготовку к войне. Кроме того, вскоре канцлер станет приверженцем далеко идущих военных планов, явно направленных на утверждение немецкого превосходства в Европе. Как ни бросало из стороны в сторону кайзера и Бетмана-Гольвега в июле, они так и не решились на один-единственный шаг, который, возможно, помог бы избежать катастрофы: отказать Австрии в поддержке при вторжении в Сербию. К концу июля Мольтке и Фалькенхайн безапелляционно ставили перед страной военные задачи. Они отстаивали приоритет военных в принятии решений, мотивируя это тем, что столкновение неизбежно. Вильгельму II, как и его канцлеру, не хватало решимости публично пойти на попятный, когда генералы на каждом шагу твердят, что его долг – принять испытание боем. Фалькенхайн доказывал однажды, что дуэли как средство разрешения личных споров между офицерами запрещать нельзя, поскольку они помогают «поддерживать честь армии». Теперь с таким же воодушевлением он резко обрывал запоздалые сомнения кайзера: «Я напомнил ему, что эти вопросы больше не в его власти».
Ключевую роль в немецком эндшпиле сыграл Мольтке. Армия представляла собой самый влиятельный институт государственного устройства, а Мольтке им заведовал. Даже если не соглашаться с историками, утверждающими, что начальник штаба с первых дней кризиса намеренно добивался столкновения, нельзя сбрасывать со счетов довод, что он все же повел страну курсом войны, несмотря на глубокие сомнения в его последствиях и в шансах империи на успех. Если даже со стороны такого недалекого человека, как Конрад, было безнравственно толкать страну к Армагеддону, для проницательного ума вроде Мольтке это вдвойне подло. Самое правдоподобное объяснение, которое подтверждают и дальнейшие действия Мольтке, когда страна угодила в военное пекло, состоит в том, что начальник штаба, как и его августейший повелитель, был человеком слабым, но отчаянно пытался казаться сильным и жестким. Вена и Берлин (Санкт-Петербург и Париж тоже, однако в меньшей степени) жаждали крепкой руки и сильной воли, которые положат конец череде неразрешенных кризисов, длящихся больше десятилетия.
Многие немецкие военные, как и консервативные политики, видели в войне возможность осадить социал-демократическую волну, которая представлялась им угрозой национальному величию и их собственному авторитету. А еще генералы понимали, что через два-три года возросшая мощь России разобьет последние надежды Германии на исполнение мистических планов Шлиффена – разгромить Францию и двинуться на восток. Независимо от решения Британии, промедление грозило Германии провалом, поскольку в 1914 году, по мнению армии и руководства, у нее имелось куда больше шансов победить Антанту в любом составе. Берлин хотел лишь одного: чтобы на российского царя легла вина и за мобилизацию, и за «вынужденный» ответный удар.
Бельгийцы внезапно осознали опасность, грозящую их собственной стране. Барон де Геффье д’Эструа, руководитель бельгийского Министерства иностранных дел, отдыхавший с семьей в Энгадине, был спешно вызван из отпуска и 29 июля отбыл в Брюссель. Как выяснилось, многие поезда уже были реквизированы Германией и Австро-Венгрией для транспортировки войск – только случайная встреча обеспечила ему место в частном вагоне бельгийского промышленника, чтобы добраться до Брюсселя к утру 30 июля.
Английский посол во Франции сэр Фрэнсис Берти писал в тот день (заблуждаясь, однако отражая в какой-то мере парижские настроения): «Европа висит между миром и войной. Куда склонится чаша весов – зависит от нас. Итальянцы предлагают нам вместе с ними постоять в стороне. Французы этому не обрадуются. Я уже писал Грею, что здесь считают, будто мир между державами зависит от Англии, и, если она объявит о своей солидарности с Францией и Россией, войны не будет, поскольку Германия не осмелится лишить себя морских поставок, которые перекроет ей Британия»{175}175
Bertie diary 30.7.14
[Закрыть]. Днем 30 июля стало известно, что французов, пытавшихся пешком перейти границу с Германией, заворачивают обратно, а автомобили и даже железнодорожные составы задерживают, телефонная связь между Францией и Германией оборвалась.
Новости всколыхнули всю Францию. На небольших производствах коммуны Борепер в департаменте Изер встала работа, на улицах толпились мрачные люди, скорее угрюмо, чем оживленно, обсуждая события. По словам одного из местных жителей, это «напоминало похороны. Весь городок словно погрузился в траур»{176}176
Flood, P. J. France 1914–18: Public Opinion and the War Effort Macmillan 1990 p. 10
[Закрыть]. В Германии 30 июля около тысячи клиентов Фрайбургского муниципального сберегательного банка опустошили свои счета, вынудив банк ограничить дальнейшее снятие средств. Такие же длинные очереди змеились и у большинства других европейских банков. Многие торговцы отказывались принимать платежи ассигнациями, другие просто закрывали магазины. В Гавре официанты предупреждали посетителей перед заказом, что оплата принимается только золотом.
Всплески оптимизма тем не менее были. Вечером 30 июля во дворе Бурбонского дворца журналисты окружили министра внутренних дел месье Мальви, который рассказал им о ходе переговоров между Санкт-Петербургом, Берлином и Веной. «Как только за дело возьмутся дипломаты, – уверял он, – можно надеяться на урегулирование»{177}177
Recouly p. 110
[Закрыть]. Однако ближе к вечеру, когда Раймон Рекули писал текст для своей колонки в Le Figaro, в его кабинет ворвался коллега с криками: «Там внизу Анри де Ротшильд. Он обедал с чином из Министерства иностранных дел, который сказал, что война – вопрос нескольких дней, может, даже часов!»{178}178
ibid. p. 111
[Закрыть] Вскоре к Рекули зашла знакомая с вопросом, отменять ли запланированную на следующую неделю автомобильную поездку по Бельгии. Рекули ответил не раздумывая: «Если вам действительно хочется прокатиться, езжайте лучше в Биарриц или Марсель».
К вечеру 30 июля Мольтке уже не собирался ждать, пока Россия объявит о мобилизации. Он заявил Бетману-Гольвегу, что Германии пора действовать. Они договорились, что независимо от действий царя Германия объявит о мобилизации завтра в полдень, 31 июля. Однако, к облегчению немцев, за несколько минут до крайнего срока Санкт-Петербург объявил о своих намерениях. Теперь Берлин мог поднимать войска с «чистой совестью», добившись поставленной дипломатической задачи – Россия первой (после Австрии) взялась за оружие. После официальной «декларации состояния военной угрозы» (Zustand der drohenden Kriegsgefahr) 31 июля армия начала патрулировать немецкие рубежи. Нарушения границы войсками отмечались с обеих сторон – в частности, в Эльзасе. Немецкие саперы взорвали железнодорожный мост под Ильфуртом, получив ошибочное донесение, что французы уже близко. Однако официальный приказ вступить на французскую территорию немецкие войска получили только 3 августа{179}179
Reichsarchiv (ed.) Der Weltkrieg 1914–1918, Vol. I Berlin Mittler 1925 pp. 104–5
[Закрыть].
Подписав в 5 часов вечера 1 августа приказ о мобилизации в Звездном зале Берлинского дворца, кайзер со своей склонностью к анекдотичным поступкам заказал в личные покои шампанское. Баварский генерал фон Веннингер вскоре после получения известий о мобилизации в России наведался в Военное министерство Пруссии: «Повсюду сияющие лица, обмен рукопожатиями, поздравления с тем, что барьер взят». Россия полностью оправдала страстные надежды Веннингера, Мольтке, Фалькенхайна и иже с ними. Когда 31 июля Германия готовилась к мобилизации, они опасались только одного – как бы Франция не отказалась следовать примеру и не обошла расставленную ловушку. Вильгельм презрительно называл французов «женственной нацией, которой далеко до мужественных англосаксов или тевтонцев» – неудивительно, что перспектива сражаться с ними его не пугала.
В тот же день Берлину пришлось пережить еще один критический момент: когда Мольтке уже вышел из дворца после церемонии подписания приказа о мобилизации, кайзеру доставили телеграмму из Лондона, от Лихновского. Согласно телеграмме, Грей обязывался сохранять нейтралитет со стороны Британии и гарантировать нейтралитет французов, если Германия откажется от вторжения во Францию. Вильгельм II возликовал. Мольтке позвали обратно – сообщить, что теперь можно сосредоточить все силы на восточном направлении. Последовал легендарный обмен репликами: начальник штаба возмущенно заявил, что планы мобилизации изменениям не подлежат и, если дергать войска туда-сюда, на поле боя окажется не армия, а толпа. Его возмутило, что Вильгельм II пытается вмешаться, когда время для дипломатии истекло, настало время войны, а война – это его, Мольтке, обязанность.
Вскоре стало ясно, что депеша от Лихновского – глупое недоразумение, отражающее его ошибочный взгляд на позицию Британии. Французы приступили к мобилизации, и Германии пришлось воевать на два фронта. Однако разговор с Вильгельмом II сильно подействовал на Мольтке. Он вернулся в Генштаб, пылая от гнева, весь в красных пятнах. «Я намерен вести войну с Францией и Россией, но отнюдь не с кайзером», – заявил он адъютанту{180}180
Mombauer p. 223
[Закрыть]. Его супруга позже свидетельствовала, что, скорее всего, он перенес легкий апоплексический удар. Здоровье Мольтке и без того было слабым, нервы на пределе. Теперь же, когда огромные армии вот-вот должны были столкнуться в битве, которую он сам так старательно приближал, стали заметны первые признаки нервного и физического расстройства, которое через полтора месяца сведет его в могилу.
Мобилизацией Германия не ограничилась и объявила войну России – на шесть дней опередив Австрию. Четырнадцатилетний баварский школьник Генрих Гиммлер писал в своем дневнике 1 августа: «Играл утром в саду. Днем тоже. В 7:30 Германия объявила войну России»{181}181
Longerich, Peter Heinrich Himmler: A Life OUP 2011 p. 19
[Закрыть]. Францию проинформировали, что ее нейтралитет будет признан лишь при условии сдачи пограничных крепостей Германии «в знак искренности намерений». Бетман-Гольвег возмущался, что военные отодвинули его на второй план: декларацию, с которой кайзер должен был выступить перед немецким народом, составлял офицер Генерального штаба майор Ганс фон Хафтен. Канцлер и генерал испытывали друг к другу давнюю и взаимную неприязнь. Теперь она переросла в открытую вражду. Днем 1 августа толпа приветствовала кайзера, ехавшего из Потсдама по Унтер-ден-Линден в полном кирасирском облачении. «Чувствуется восхитительный подъем… единодушие и целеустремленность», – радовался Вильгельм II. Журналист Теодор Вольф, встречавший кайзера вместе с остальными, описывал настроение толпы так: «Был теплый солнечный день. В прогретом воздухе уже чувствовалось потное лихорадочное возбуждение и запах крови»{182}182
Verhey p. 59
[Закрыть]. Правофланговая газета уверяла, что после проезда Вильгельма «толпа преисполнилась благоговения перед величием момента». Незнакомые люди жали друг другу руки.
Мобилизация в России устранила одну острую для Мольтке политическую проблему: если бы Германия сделала решающий ход первой, немецкие социал-демократы могли продолжить антивоенные протесты. Теперь же, несмотря на то, что правительство втайне уже какое-то время готовилось к наступлению, Берлин мог оправдывать свои действия вынужденной необходимостью защитить рейх от славянской агрессии. Адмирал Мюллер писал 1 августа: «Настроение великолепное. Правительству с успехом удалось представить все так, будто нападают на нас»{183}183
Keith Wilson p. 39
[Закрыть]. Слегший Мольтке писал знакомому фельдмаршалу: «Ужасно быть обреченным на бездействие в войне, которую сам приближал и готовил»{184}184
Mombauer 14.6.15
[Закрыть]. Мольтке был не единственным из выдающихся немецких деятелей, кто без стеснения признавался в том, что приложил руку к грядущим ужасам. Министр иностранных дел Готлиб Ягов впоследствии говорил знакомой, что его преследовало неотвязное ощущение (оказавшееся таким ошибочным), будто «война необходима»{185}185
Keith Wilson p. 28
[Закрыть]. В 1916 году магнат-судовладелец Альберт Баллин отказался встречаться с Яговом, поскольку «не хотел иметь никаких дел с человеком, приблизившим ужасную катастрофу и повинным в смерти сотен тысяч людей».
Вильгельм фон Штумм, подручный Ягова, сообщил Теодору Вольфу в феврале 1915 года: «Мы свыклись с мыслью, что войны с Россией не миновать. <…> Не начнись война тогда, она разразилась бы через два года, но мы были бы в гораздо менее выгодном положении. <…> Кто же мог предугадать, что мы обманемся в своих стратегических расчетах?»{186}186
Wolff diary 17.2.15
[Закрыть] Бывший канцлер князь фон Бюлов обвинял Бетмана-Гольвега в выдаче Австрии «карт-бланша» 5 июля. Он не утверждал прямо, будто Германия добивалась войны, но все же считал, что канцлер должен был настоять на предварительном обсуждении условий венского ультиматума Белграду, и осуждал отказ Берлина от дипломатических переговоров, предложенных Британией.