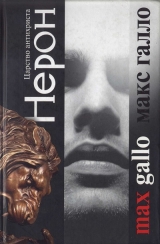
Текст книги "Нерон. Царство антихриста"
Автор книги: Макс Галло
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)
«Нерон – богоподобный сын Аполлона!» – принялись скандировать августианцы.
Толпа подхватила этот клич. Император торжественно снял свою маску, открыв красное от удовольствия лицо. Он был подобен пьянице, которого окружающие подначивают пить еще, подыгрывая его пьяным выходкам. Он читал стихи. Он танцевал, перебирая заплетающимися ногами. Он потребовал кифару, тут же сочинил поэму и исполнил ее, сопровождая нехитрыми аккордами, что привело слушателей в восторг. После этого он вовсе потерял голову и, забыв все свои обещания, объявил, что намерен пересечь Адриатическое море и направиться в Ахайю, чтобы его голос могли услышать там, где во времена расцвета Афин демонстрировали свое искусство греческие актеры. Его речи были встречены с одобрением.
Императорский кортеж покинул пределы империи и направился в Беневент, где я увидел одно из самых чудовищных и отвратительных существ, которых когда-либо встречал.
Его звали Ватиний. Когда он направился к Нерону, показалось, что передо мной рептилия. Безобразное тело, вылезающие из орбит глаза на громадной голове, сидящей прямо на плечах, руки и ноги короткие и узловатые, будто кто-то хотел их сломать – он не шел, а подползал, то подпрыгивая, то раскачиваясь из стороны в сторону. Скорее животное, чем человек. Я видел его в Риме, в императорском дворце; он служил у Нерона шутом.
Император, а за ним и придворные принялись высмеивать Ватиния. Он играл ту роль, которую ему отвели, но однажды, воспользовавшись минутным молчанием, выкрикнул «Торкват Силан» и расхохотался.
Нерон посмотрел на него внимательно и серьезно и пообещал спустить кожу живьем, если тот не объяснит причины своего веселья, поскольку человек, носивший это имя, был богат и знатен, происходил из рода Юлия Цезаря, был родственником Нерону, а значит, возможным соперником.
Высунув язык, с пеной на губах, Ватиний ответил, ухмыляясь, что Силан похвалялся, будто богоподобный Август, отец отечества, был его прапрадедом. И дом его – настоящий императорский дворец, а вольноотпущенники носят такие же звания, что и те, кто находится в услужении у Нерона. У Силана были даже секретари, занимавшиеся перепиской, ходатайствами в суде и счетами.
– Совсем как у тебя, сын Аполлона, – добавил Ватиний сиплым голосом. – Он утверждает, что является прямым потомком Августа и ровней тебе.
Ватиний отступил назад.
– Ты – наш император, Нерон, а Силан играет твою роль, как в театре.
Позже стало известно, что вольноотпущенники Торквата Силана были арестованы, закованы в цепи и подвергнуты пыткам. Они свидетельствовали, что их хозяин надеется наследовать после Нерона императорский трон, с нетерпением ожидает этого и готовится, подстрекая сенаторов.
Узнав о выдвинутых против него обвинениях, Торкват Силан опередил палачей и перерезал себе вены.
Нерон захотел увидеть тело. Он пнул его, а потом весело объявил, что Силан напрасно поторопился, не пожелав выслушать приговор суда. Конечно, ему трудно было бы опровергнуть обвинения, но он мог хотя бы надеяться на милосердие императора.
И Нерон принялся рассыпаться в похвалах Ватинию, отвратительному доносчику, которого он одарил домами и землями в провинции Беневент. Там я его и увидел вновь, еще более отталкивающего, с блестящими от тщеславия и могущества глазами, на коленях перед Нероном, что делали лишь шуты и рабы, умоляя императора присутствовать на гладиаторских боях, организованных в его честь.
Это было примерно то же самое, что предложить Нерону стакан редкого вина. Он направился в амфитеатр, Ватиний бежал впереди, как верный пес, подпрыгивающий и вертящий хвостом при виде хозяина, представляя ему две сотни гладиаторов, которые шли сражаться. И Нерон стал принюхиваться, заранее предвкушая запах крови.
Кровь текла ручьями по обнаженным телам этих несчастных, которых связали, чтобы по приказу Ватиния бросить диким животным или другим пожирателям плоти, более свирепым, чем тигры.
Выпирающий живот Нерона не скрывала даже широкая туника. Император смеялся, глядя на судороги жертв, чьи тела разрывали когти и клыки хищников.
Тигеллин наклонился и что-то прошептал Нерону. Тот встал, жестом приказал умертвить всех, кто еще подавал признаки жизни, и вышел.
Только через несколько дней я понял, почему Нерон отказался от своих планов переплыть Адриатическое море и вернулся в Рим: в столице было неспокойно, чернь волновалась.
Приближалось время сбора урожая. Нужно было, чтобы император отправился на форум, в храм Весты, куда имел право входить только он, верховный жрец богини. Чернь ждала его, ждала жертвоприношений Весте, чтобы она послала народу Рима хороший урожай. И если император хотел, чтобы на улицах города воцарился покой, он должен был исполнить этот обряд. Свидетели, видевшие, каким он вошел и каким вышел из храма, были поражены: это были два разных человека.
Это уже был не сияющий от радости Нерон, уверенный в себе и насмешливый, – из-за колонн вышел шатающийся и дрожащий от ужаса человек. Позже он рассказал приближенным, что в храме кто-то – возможно, сама Веста – схватил его за тогу, не давая уйти. Здание заполнилось серым плотным туманом, императора окружили призраки Агриппины, Британика и Октавии.
И вот он стоял, дрожащий, перед народом, который ждал его слов и удивлялся долгому молчанию, бледности, судорожно сведенным плечам и гримасе, исказившей лицо властителя. Наконец он заговорил. Он понимает беспокойство римлян. Он видит печаль на лицах подданных. Его долг – успокоить их, дать им уверенность и право оставаться рядом с ним в столице. Вскоре будет большая раздача зерна и вина, потому что Веста предсказала обильный урожай. Он считает своей обязанностью сделать свой народ счастливым и разделить с ним это счастье.
Чернь восторженно приветствовала императора, благодарила его, и Нерон быстро обрел свою обычную беззаботность.
Однако смерть не так переменчива, как простой люд. Ее подкупить невозможно.
В последующие дни распространился слух, будто Нерон в приступе гнева убил свою супругу за то, что та постоянно осыпала его упреками. Она была нездорова, беременна вторым ребенком, а император тем временем продолжал распутничать, но уже без нее. Он отдавался, как женщина, своим эфебам, вольноотпущенникам, Пифагору, которого хотел сделать своим супругом. Какой позор: император позволяет использовать свое тело придворным куртизанам, как последняя подзаборная шлюха первому встречному самцу!
Накинувшись на жену, Нерон жестоко избил ее ногами в живот, и она рухнула замертво.
Он тут же принялся ее оплакивать и клясться, что Поппея была единственной женщиной, достойной его любви. Ей следует устроить пышные похороны, а он вознесет покойной супруге такую хвалу, что боги устроят ей прекрасный прием.
Так и было сделано.
Окруженный сенаторами Нерон декламировал поэмы в честь усопшей. Чем дольше он их читал, тем более страстным становился его голос и зрители все громче приветствовали его, забыв, что погребальная церемония требует сдержанности. Каждый его стих встречал восторженный прием, стиравший с лица императора печаль, которую сменяло тщеславное удовольствие. Церемония закончилась так: Нерон объявил, что желает устроить во всех публичных местах Рима пиры, чтобы почтить память Поппеи, а также свидетельствовать, что он счастлив жить среди римлян, которых любит не меньше, чем свою покойную супругу.
Какой ловкий извращенец этот Нерон!
Сенека не мог не восхищаться своим учеником. Двойственность его натуры ослепляла учителя: тиран, умеющий польстить черни, запугать патрициев, следовать своим склонностям и заставить толпу аплодировать, когда он выставляет напоказ свою порочность.
– Он опасен не только потому, что у него в руках неограниченная власть и в глазах плебса он фигура неприкосновенная, верховный жрец, сын Аполлона, – рассуждал Сенека. – Он опасен и потому, что его любят, Серений, за то, каков он есть, каким осмеливается предстать перед другими. Ты слышал восторженные крики в Неаполисе? Через несколько месяцев и в Риме чернь окажет ему триумфальный прием, когда он выйдет на сцену или взгромоздится на колесницу, чтобы состязаться с другими.
Толпа приветствовала государя-благодетеля, когда он расхаживал по улицам Рима с одного пира на другой, наблюдая, как народу раздают вино и снедь. Он шагал медленно, под охраной преторианцев и конных германцев, окруженный августианцами и неронианцами.
Я шел за ним до Марсова поля. Там, на берегу озера Агриппы, Тигеллин устроил пир в честь Нерона. Никогда прежде не видел я такой роскоши и такого откровенного, публичного разврата. Берега озера и Марсово поле превратились в огромный кабак, где выставлялись напоказ всевозможные пороки.
Пировали на плоту, прицепленном к нескольким шлюпкам, которые были отделаны золотом и слоновой костью. Специально подобранные гребцы отличались особой, вызывающей красотой и были рассажены в соответствии с их возрастом и эротической специализацией. Говорили, что Тигеллин собирал их по всей империи – от восточных границ до Британии, от Испании до Дуная, Армении и Нарбоннской Галлии.
В расставленных на плоту клетках порхали птицы и дремали дикие звери, привезенные из разных провинций. В озеро были запущены морские животные, привезенные с океана. Пение происходило под аккомпанемент кифар. На одном берегу виднелись строения, освещенные ярко, как дома терпимости. По приказу Нерона там собрали благородных дам, которые восторженно приняли волю императора. На противоположном берегу прогуливались обнаженные проститутки. В мгновение ока тела гостей переплелись в диком приступе свального греха. С наступлением ночи их можно было различить лишь в свете факелов и канделябров, освещавших строения и рощи.
Шлюпки были вытянуты на берег, и нагие гребцы разбрелись по берегу. Некоторые из них, под присмотром преторианцев, собрались вокруг Нерона, но он внезапно направился к домам терпимости, где благородные дамы приветствовали его громкими криками. А женщины с другого берега зазывали императора к себе, суля ему такие наслаждения, каких он никогда не испытывал.
Все казалось Нерону возможным и легко исполнимым.
Я видел его несколькими днями позже: скромно, как юная девственница, потупив глаза и робко ступая под фатой шафранного цвета, какую носят невесты во время брачной церемонии, он шел рядом с вольноотпущенником Пифагором к жрецам, которые должны были освятить их союз. Нерон выступал в роли молодой женщины, принеся мужу приданое, брачное ложе и свадебные факелы.
Никто не удивлялся, что император выходит замуж за вольноотпущенника, устраивает публичную церемонию, отдавая себя Пифагору на глазах у всех, словно желая, чтобы каждый знал и видел, что сын Аполлона волен делать все, что хочет, и наслаждаться так, как хочет.
В этом состояла его привилегия императора. Ничто, даже фаллос вольноотпущенника, не могло опорочить его титул, подорвать его могущество.
36
После всех этих игр, пиров, скандальных и кощунственных венчаний я был уверен, что достоинство, популярность и власть Нерона окажутся погребены под пеплом пожара, который шесть дней и семь ночей и, после небольшой передышки, еще три дня опустошал Рим. Молва обвиняла Нерона в том, что это ужасное бедствие на город навлек он.
Рим лежал как будто разграбленный: от трех кварталов осталась лишь обугленная земля, семь других представляли собой руины, и только четыре беда обошла стороной.
Я видел, как пламя бежало, подгоняемое ветром, от Палатина до Велабра. Я видел, как занимались лавки и жилища, как обрушились трибуны цирка. Пламя карабкалось по холмам, буйствовало на равнине, в долине реки. Переулки превращались в огненные ручьи. Я слышал крики ужаса и стоны. В этом пожаре погибли женщины, дети, старики, десятки тысяч граждан и рабов.
Никогда еще город не испытывал такого ужаса. Черный дым накрыл его, как плащом. Дома с грохотом обрушивались на людей. Толпа превратилась в стадо, обезумевшее от страха. Я бежал вместе со всеми.
Деревянные опоры, на которых стояли дома, сперва начинали скрипеть, а через несколько секунд обращались в пепел. Невозможно было бороться с пламенем, которое охватывало дома один за другим.
Женщины тщетно искали своих детей, выкрикивали их имена, огонь лизал их волосы и туники, пожирал тела. По приказу Нерона преторианцы распахнули ворота императорских садов и открыли толпе дорогу на Марсово поле, где можно было укрыться от огня. Некоторые выбегали из огня голыми и пытались спастись в полях за городом.
Я попытался собрать нескольких мужчин, чтобы остановить огонь. Но воды не хватало, а все витрины и прилавки вокруг были охвачены пламенем. И те, кто поначалу присоединился ко мне, отступали. Наши закопченные сажей лица отпугивали желающих вступить в схватку со стихией.
Но главное – я видел поджигателей. Они даже не особенно скрывались. Кто это был? Рабы, послушные Нерону? Некоторые из них кричали, что исполняют приказ. Неужели и вправду император мог отдать такой приказ? Верилось с трудом: неужели его низости, кощунству и злобе нет предела?
Рим, наш Рим, погибал спустя четыреста лет после того, как его разрушили галлы.
Только безумец мог бестрепетно предать огню тысячи жилых строений, служивших кровом горожанам. Только лютый враг Рима мог радоваться при виде полыхающих храмов, возведенных в честь наших богов – Юпитера, Весты, при виде исчезающих дворцов и вилл, наполненных произведениями искусств, военными трофеями, свидетельствами воинской доблести, славной памятью истории Рима! Почему? Зачем?
Поначалу никто не обвинял Нерона открыто. Он находился в Анции, но быстро вернулся. Его дом, считавшийся «временным», был частично разрушен. Какое же жилище ему было нужно, если это, которое он считал слишком тесным, на самом деле было огромным, более пяти тысяч шагов в длину, с галереями, парками, бассейнами? Можно ли обвинить его в поджоге Рима на том лишь основании, что императору не нравились узкие улочки, зловоние, беспорядочная, хаотичная застройка?
Но слухи распространялись так же быстро, как огонь. Кто-то видел, как рабы Нерона разрушали каменные стены, мешавшие огню свободно разгуляться, – император давно хотел их снести.
Рассказывали, что, вернувшись из Анция, этот человек, который вроде бы хотел спасти погорельцев и дал им прибежище в своих садах и на Марсовом поле, поторопился вскарабкаться на Эсквилин, на самый верх Микенской башни, где, в театральном одеянии, пел, играл на кифаре и читал одну из своих поэм – «Падение Трои», о великом городе, который также погиб в пламени. Он говорил, что великолепие огненной стихии завораживало его.
Вместе с тем император приказал доставить по морю из Остии зерно и обязал торговцев продавать его по три сестерция за меру, чтобы погорельцы не умерли с голоду.
Кем же он был – чудовищем или великодушным правителем?
Вроде бы утихнув по истечении шести дней и семи ночей, огонь вдруг вспыхнул с новой силой. Первые языки нового пламени появились на краю владений Тигеллина – вдохновителя и исполнителя преступлений Нерона.
Тут же вспомнили, что император во время одного из празднеств приказал представить на сцене пожар и впал от этого зрелища в экстаз. Услышав стихи Еврипида: «Когда умру, пускай земля огнем горит!» – он воскликнул: «Нет, пусть это случится, пока я жив!» И разве не он, вспоминая о троянских корнях своей семьи, семьи Цезаря, вскричал: «Счастлив Приам, троянский царь, которому выпало увидеть собственными глазами, как погибли его империя и его родина!»
Возможно ли, чтобы он принес в жертву память и храмы Рима, десятки тысяч его жителей, ради того только, чтобы насладиться этим зрелищем, аккомпанировать ему на кифаре, вплести свой голос в гул пожара и крики страдания, заодно разрушая постройки, мешавшие перестроить Рим в соответствии с его желаниями? И построить новый дворец, Золотой дом, Domus aurea, который бы соответствовал наконец его величию?
Он хотел новый Рим, с широкими проспектами, с галереями, выстроенными в одну линию, уходящую за горизонт. И ради этого мог отдать приказ поджечь город. Или использовать обстоятельства, чтобы возвести новые дворцы, новый город, Нерополис.
Я чувствовал, как в городе зреет гнев, сначала среди простого люда, понесшего наибольшие потери. Каждый бедняк потерял ребенка, жену, отца – их поглотило прожорливое пламя, не говоря уж об их жалком скарбе. Однако Нерон запретил погорельцам возвращаться на пепелище, чтобы поискать там труп близкого человека или остатки домашней утвари. Он пообещал убрать трупы и расчистить завалы.
Многие думали, что он стремился завладеть уцелевшей добычей. Его обвиняли в том, что он намерен ограбить тех, кто и так все потерял. Публика осталась равнодушна к искупительным церемониям, устроенным, чтобы успокоить богов и молить о пощаде Вулкана, Цереру и Прозерпину. Перешептывались о том, что император впал в немилость у богов, разрушивших город, дворцы и храмы. Если, конечно, причиной бедствия не был сам Нерон.
В городе, на дымящихся руинах, крепла уверенность, что Нерон – главный преступник или правитель, от которого отвернулись боги и судьба.
37
Когда я рассказал Сенеке об обвинениях против Нерона, которого подозревали в поджоге Рима, он прошептал, подняв на меня глаза:
– Горе нам всем!
Он сидел у себя в библиотеке в любимой позе: наклонившись вперед, поставив локти на колени и опершись подбородком на сцепленные кисти рук.
Должно быть, учитель слегка успокоился: пожар лишь слегка опалил строй кипарисов на краю сада; рабам удалось быстро потушить языки пламени, занесенные ветром на крышу его виллы и в цветники. Дом Сенеки оказался одним из немногих на Палатине, оставшихся невредимыми.
Не сводя с меня глаз, учитель все повторял: «Горе нам всем!»
Поняв мое удивление, учитель добавил:
– Если любое действие, предпринятое с целью успокоить богов, любое проявление великодушия императора по отношению к простому народу…
И, встряхнув головой, продолжил уже гораздо тише:
– Видел ли кто-нибудь раньше, чтобы верховный правитель, как это сделал Нерон, пустил в свои владения несчастных и раздавал им хлеб в таких количествах, ограничив его цену тремя сестерциями за меру? И если этого недостаточно…
Выражение, появившееся на его лице, и так изрытом морщинами, старило учителя еще больше.
– …если ничто – ни жертвоприношения, ни обращение к богам, ни принесенные дары не могут уничтожить оскорбительные подозрения и заставить замолчать тех, кто распространяет эти слухи о Нероне, тогда лишь реки крови будут в состоянии погасить это пламя. Нужны сотни обвиняемых, самые утонченные пытки, которые бы потрясли чернь, отвлекли ее внимание таким зрелищем, какого она до сих пор не видела, такой резней, которая заставила бы ее забыть пожар и виновность или бессилие Нерона. Тогда у плебса возникнет ощущение, что его уважают и за него отомстили. А Нерон, наказавший виновных, вновь окажется чист. Народ решит, что боги снова на стороне императора и Фортуна покровительствует ему. Но сколько страданий! Сколько крови! Возможно, и нашей, Серений.
Он поднялся и положил руку мне на плечо.
– Но наших жизней будет недостаточно. Многие простятся с жизнью раньше нас.
В этот день он долго говорил со мной об учениках Христа, о Павле, иудее из Тарса, о Петре, знавшем Христа, распятого при Тиберии по решению прокуратора Понтия Пилата. Теперь Петр начал собирать вокруг себя римских христиан.
– Чернь их не любит: они не совершают жертвоприношений нашим богам и ждут нового пришествия Христа. Они проповедуют о нем. Павел говорил мне: Христос вернется в языках пламени.
Последние слова он повторил дважды.
– Разве этого недостаточно, чтобы обвинить их? Наши маги, к которым прислушивается Нерон, – Симон и Бальбил – уже объявили их врагами императора, шарлатанами, безбожниками и святотатцами. Иудеи завидуют христианам, подстрекают римские власти покарать их. Не забывай, что Поппея была дружна с иудеями, которые, возможно, обратили ее в свою веру и до сих пор свободно входят в императорский дворец. У христиан же повсюду враги. Любить их трудно, невозможно! Они так тверды в своей вере, что это кажется высокомерием. Они призывают отказаться от радостей жизни и даже от самой жизни. С нетерпением ждут смерти, которая освободит их из темницы плоти, и они смогут восстать из мертвых.
Он сжал мое плечо, и я почувствовал, что его худые пальцы сводит судорога.
– Я верю в бессмертие души, Серений, но не верю в этот предрассудок, свойственный рабам и женщинам, – в воскрешение. Иногда мне приходит на ум, что настоящее и единственное преступление христиан – это ненависть к жизни.
Разжав пальцы, он прошептал:
– Многие из них потеряют ее. Нерон и Тигеллин уже, конечно, поняли, что на съедение черни можно бросить христиан. Их обвинят в разрушении Рима теми самыми «языками пламени», потому что Рим для них – город наслаждений, столица радостей плоти!
После некоторого молчания он добавил:
– Христиане должны благодарить своего Бога за пожар, увидеть в нем справедливое возмездие – провозвестника пришествия Христа на землю, конец несовершенного мира, тот самый апокалипсис, которого ожидают евреи, и Павел из Тарса в их числе. И они его увидят, верь мне! По ужасу своему он превзойдет все, что они могут себе представить. И даже ты, Серений, не разделяющий их верований и видевший уже множество преступлений, будешь потрясен. А возможно, и я тоже.
Я понял, что мой учитель вновь оказался провидцем, когда услышал на форуме, возле таверн на Марсовом поле, где собралась толпа погорельцев, как люди Нерона, шпионы и убийцы, обвиняли христиан. Члены секты, говорили они, и все, верящие в отвратительную выдумку воскресения, все эти мужчины и женщины – носители преступных нравов, они не участвовали в церемониях искупления, организованных во славу богов Рима. Они сожалеют, что пожар, этот «огнь пожирающий», нетерпеливо ожидаемый ими, не уничтожил до основания Рим – город, который они считают грязным.
Они говорят об этом открыто. Они призывают на нашу столицу кары небесные. Именно поэтому император Клавдий около двадцати лет тому назад жестоко наказал их. Даже сами иудеи желали истребления христиан, так как считали их врагами рода человеческого.
Чернь загоралась от этих речей, как поле, покрытое сухой травой. Это пламя не рушило зданий и храмов – огонь мести выжигал души людей.
Вот уже преторианцы провели закованных в цепи христиан. Раздались крики: «Христиан – львам!», «Христиан – на кресты!» Из толпы вырвались несколько мужчин и принялись избивать узников.
Количество узников постоянно росло, потому что те, кого взяли первыми, уже выдали под пытками места, где они собирались с Петром и Павлом из Тарса, первыми учениками Христа, и с Линусом, тем худым человеком, который как-то заговорил со мной. Когда он вышел на арену, я узнал его сразу.
Я был там, среди вопившей толпы, прославлявшей Нерона, когда император появился в своей ложе и жестом приказал ввести обвиняемых. Среди них был и Линус.
Это зрелище должно было понравиться плебсу, заставить снова проникнуться к Нерону доверием, которое пошатнулось из-за недавнего бедствия. Мужчин и женщин с детьми на руках одели в шкуры хищников, запятнанные кровью. Запах привлечет выпущенных на арену диких псов, которые будут рвать несчастных в клочья. Я видел, как нагие женщины своим телом старались прикрыть младенцев от звериных клыков.
На следующий день их начали прибивать гвоздями к крестам. Петр, ученик Христа, попросил, чтобы его распяли вниз головой, – в знак смирения. Он не хотел быть заподозренным в стремлении уподобиться своему Богу.
Я смотрел на это, окаменев. Каждое следующее действие приносило жертвам все более изощренные страдания.
Однажды под вечер, когда солнце уже садилось и под распятиями развели костры, выяснилось, что тела жертв обмазаны смолой, чтобы они ярче горели и освещали сады Нерона, заполненные простым людом.
Император, в костюме возничего, крепко держа поводья своей квадриги, окруженный августианцами, неронианцами и конными германцами, шагом проезжал по садам. Его улыбающееся одутловатое, блестящее от пота лицо ярко освещали факелы из человеческих тел. Они горели, слегка потрескивая.
Запах этих костров пропитал воздух всего Рима.
Живые светильники озаряли сады и обелиск из Гелиополиса, перенесенный сюда, в самый центр города, в сердце империи, которая казалась мне теперь более жестокой и бесчеловечной, чем любое, самое варварское королевство Азии.
Последующие дни были еще страшнее. Рабы насиловали на арене нагих женщин с помощью гигантских горящих фаллосов. Других, как телок, подставляли под разгоряченных быков с трепещущими ярко-красными членами. Некоторых женщин нагими привязывали к рогам быков; говорили, что этого потребовал сам император, чтобы напомнить о судьбе, постигшей Дирку, жену Лика Фивского.
В этом был весь Нерон: утонченность в пытках и любовь к Греции, к ее богам, легендам, играм, театру. Жестокость рука об руку с прекрасным.
Я наблюдал за ним. Он наслаждался: все происходящее было для него зрелищем, спектаклем, постановкой из жизни богов и правителей Греции.
Рим горел, как и Троя. Теперь он знает, что чувствовал Приам. Но он превзошел всех, Рим победил Грецию. Сила стоит наравне с философией, римские легионы приобщаются к играм и театру.
В натуре Нерона соединились все личины: актер, военачальник, возничий, поэт, верховный жрец, сын бога, властитель рода человеческого.
В последний пыточный вечер на арене в финальном параде соединилось все, что можно было видеть в предыдущие дни: живые факелы, освещавшие происходящее в садах Нерона, псы, рвущие живую плоть, женщины, которых насилуют огромными фаллосами или волокут по арене разъяренные быки, встряхивающие рогами, чтобы освободиться от привязанного к ним тела. Казалось, толпа уже не чувствовала ни ненависти, ни восторга. Отупевшая, она безмолвствовала, испытывая какое-то отвращение, возможно даже жалость, как будто понимая, что Нерон одурачил ее, что гибнущие христиане умирали не ради всеобщей пользы, но ради удовлетворения жестокости одного.
Голос рядом со мной прошептал:
– Я знаю, что рискую, говоря это. Одно звание христианина звучит как приговор. Но римский прокуратор распял нашего Христа, а Он воскрес. Император Нерон распял Петра, отрубил голову Павлу, замучил сотни наших, но мы восстанем из мертвых, и я говорю тебе: Нерон – животное, которое смертельно боится своего конца. Он будет гореть в аду, испытывая вечные муки. Он – воплощение Зла. Он – Антихрист.
Я обернулся. Мне хотелось видеть лицо того, кто говорил со мной.
38
Я не забыл слов, произнесенных незнакомцем. Каждый день я повторял их Сенеке, чьи снисходительность и равнодушие изумляли меня. Казалось, ничто не трогало и не удивляло его в этой вакханалии надругательства над христианами. Но когда я начал описывать ему распятые тела, облитые смолой, он остановил меня.
Речь идет, пояснял он, о традиционном наказании поджигателей. Единственная новость состояла в том, что сжигаемых живьем людей использовали как факелы, чтобы освещать эти жестокие игры. Он пожал плечами, и на его лице появилась гримаса. Просто Нерон испытывает тягу к прекрасному. Да, это слово здесь вполне уместно. Он не более жесток, чем другие тираны, но у него есть склонность к выдумкам, к творчеству.
Я возмутился.
– Рим превратился в город, где царит зло!
Сенека поднял брови и протянул ко мне руку, как бы призывая соблюдать умеренность и не позволять страстям возобладать над разумом.
В конце концов, Нерон всего лишь следовал настроениям толпы и иудейских священников, ненавидевших христиан. Могу ли я поклясться, что обвинения, выдвинутые против них, необоснованны? В своей ненависти к Риму они гораздо хуже евреев. Те более ловкие, они способны найти подходы к Нерону, получить доступ во дворец, развлечь императора шутовством. А христиане – сектанты. Им вполне могло прийти в голову разрушить Рим, предав его очистительному огню.
Я не любил в Сенеке эту черту, его манеру выворачивать наизнанку факты, доказательства, слухи так, словно он рассматривал изнанку туники, чтобы убедиться, что она чистая.
Мы сидели в верхней части сада, откуда был виден почти весь город, и разговаривали. Повсюду простирались одни лишь строительные площадки.
Толпы рабов заканчивали разбирать оставшиеся после пожара руины, другие уже разгружали присланные с берегов озера Альба строительные блоки. Как уверяли, этот пористый камень был огнеупорным, поскольку вышел из самых недр земли при вулканических извержениях. Нерон приказал, чтобы при возведении цокольных этажей зданий вместо дерева использовали его. Он настаивал также, чтобы улицы стали более широкими, строения более низкими и отделялись друг от друга внутренними дворами, а не стенами. Император назначил наблюдателей за городскими фонтанами, чтобы воду из них не отводили в дома и все могли ею пользоваться, в том числе и в случае пожара. Он потребовал также, чтобы в нижних этажах зданий были устроены галереи, в которых легко бороться с огнем.
– Ты хочешь сказать, что все это, – Сенека указывал на стройки, где начинали подниматься здания, – этот огромный рынок, цирк, – все это строится потому, что один человек поджег город?
И жестом, и взглядом он запрещал мне опровергнуть этот довод, который начинал входить в моду среди тех, кто хотел нравиться Нерону и его окружению.
– Знаю, знаю, – продолжал он, – ты возразишь мне, что Нерон хочет прославиться, заложив новый город на развалинах старого. Я полагаю, он хочет, чтобы город носил его имя, как египетская Александрия. А у него будет Нерополис. Он хочет стать новым Ромулом, новым Цезарем и новым Александром. Почему бы нет? Но это доказывает не то, что именно он поджег Рим, а всего лишь то, что он использует этот пожар, чтобы достичь своей цели. Стал ли он из-за этого Зверем, Злом, Антихристом, как утверждают христиане, которых ты слушаешь?
Я поднялся и окинул взглядом Палатин, стены и галереи, на которых копошились рабы, возводившие в самом сердце города новый дворец для Нерона – Domus aurea, Золотой дом.
Мы несколько раз видели императорский кортеж севернее Палатина, на вершине холма Велия. За какие-то три недели там выросла тройная колоннада парадного входа, отделанная золотом и драгоценными камнями. Уже было ясно, что здание будет огромным. В некоторых помещениях были устроены вращающиеся с помощью специальных механизмов потолки, показывающие смену времен года и движение небесных светил. В других залах потолки собирались обшить подвижными пластинами из слоновой кости со множеством отверстий, через которые на приглашенных будут изливаться благовония и сыпаться лепестки цветов.








