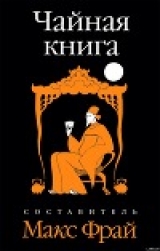
Текст книги "Чайная книга"
Автор книги: Макс Фрай
Соавторы: Сергей Малицкий,Алексей Толкачев,Ольга Лукас,Елена Касьян,Юлия Боровинская,Марина Воробьева,Оксана Санжарова,Лея Любомирская,Марина Богданова,Н. Крайнер
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц)
Она сидела у самого окна, помешивая ложечкой бледный чай, глядя поверх чашки, куда-то между сахарницей и букетом поникших ромашек в уродливой керамической вазочке.
Мимо окна проходили редкие прохожие, проезжали машины.
Она взяла еще один кубик сахара и опустила в чай.
На другой стороне улицы вислоухая собака, привалившись боком к стене, сосредоточенно выкусывала блоху из хвоста.
– Мам!
Она вздрогнула, ложечка звякнула о чашку.
Девочка лет пяти, стриженная под мальчика, с большими пластмассовыми бусами на шее, сидела рядом, комкая угол скатерти.
– Ма-ам! – Она тронула женщину за локоть. – Ну пошли уже, а?
– Да-да, сейчас, – легко согласилась та и взяла еще кубик сахара.
Девочка тяжело вздохнула, откинулась на спинку стула и скрестила руки на груди. Бусины сухо стукнулись друг о дружку.
Мимо окна медленно прошла полная дама в цветастом платье, толкая перед собой коляску с сидящим малышом. Он был упитан, розовощек и смешно морщил лоб, пытаясь двумя руками стащить с себя вязаную пинетку.
– Мам, – оживилась девочка, – а ты теперь братика мне родишь или сестричку?
– Что? – Женщина медленно повернула голову, словно выныривая из густого тумана.
На другой стороне улицы какой-то мужчина трепал собаку по голове, она благодарно виляла хвостом и тыкалась ему в ноги.
– Почему ты не пьешь чай? – вместо ответа спросила женщина и погладила девочку по голове.
– Не хочу. Я хочу домой. – Девочка пыталась уклониться от маминой руки.
Женщина посмотрела на часы, потом на унылые ромашки в вазе, потом в окно…
Она разгладила рукой складку на скатерти, взяла еще кусочек сахара и занесла его над чашкой.
Собака на другой стороне улице увязалась за мужчиной, а он кричал на нее и махал руками. И даже делал вид, что поднимает с земли камень, чтобы бросить.
Девочка смотрела на кусочек сахара и думала: «Если я буду считать до ста и мама успеет положить только один кусочек сахара в чашку, то у меня родится братик. А если успеет два – то сестричка».
На секунду все вокруг замерло: машины на дороге, люди на тротуаре, собака, поджавшая хвост, мужчина, кричащий на собаку…
«Раз, два, три, четыре…»
Девочка старалась считать очень медленно. Ей хотелось сестричку.
Женщина вдруг выпрямилась, выдохнула и сказала:
– Ладно, пойдем уже.
И положила кусочек сахара обратно в сахарницу.
Грустный чай
Готовится рано утром сонным барменом для первых посетителей.
Зеленый чай засыпать в пол-литровый керамический чайник, «на глазок».
Залить 0,4 литра кипятка – из расчета на две чашки.
Сахар подать отдельно, желательно рафинад.
Добавлять сахар по кубику, сколько поместится в чашку, регулярно помешивая.
Думать о грустном, пока чай окончательно не остынет.
Пить не обязательно.
Сергей Малицкий

Картошку в этом году Зуев не сажал. Полтора мешка лежало в подполе, стояла уже середина мая, и он рассудил, что до августа, до яблок хватит, а дольше не протянет. И то, если не заболеет или еще какая авария не случится. И так уж растянул жизнь, как резинку, на семьдесят два года, тронь – зазвенит, вот-вот лопнет. И когда решил так, сразу стало легче. Тяготившие заботы, такие как поправить сарай, прополоть огород, приготовить дров на зиму, – исчезли, а новые, менее обременительные, заняли время и наконец-то придали остатку жизни ясную цель и понятный смысл.
Деревня умерла уже лет десять назад, когда отнесли на кладбище последнюю бабку. Дворы и огороды заросли одичавшей сиренью, шиповником, крапивой и лебедой. В переулках и прогонах поднялись громадные стебли борщевика и раскрылись крылья лопухов. Некоторые дома были проданы на снос, другие покосились, прогнили и вместе с почерневшими заборами повалились навзничь. Прямая деревенская улица, прежде радовавшая глаз бархатом зеленой травы, исчезла в зверобое и мышином горошке и теперь отзывалась стрекотаньем перепелов. Еле заметная проселочная дорога, пробегающая вдоль дикого оврага и подходившая к самому началу бывшей деревни, где непроходимой стеной вставал бурьян, уходила в поля. Деревня превращалась в ничто. Только дом Зуева чернел коньком невысокой крыши среди макушек пожилых ив и раскидистых кленов. Но кто бы заметил узкий, едва вытоптанный в репейнике проход к невидимому дому и такую же тропинку к роднику, шелестевшему в овраге?
Ни радио, ни телевизора у Зуева не было. Деревянные электрические столбы начали падать еще лет пятнадцать назад, со временем кто-то собрал куски вьющихся страшных проводов и, видимо, нашел им лучшее применение. Жаловаться было некому, да и незачем. Единственной связью Зуева с поселком и со всем миром служил двоюродный сорокапятилетний племянник, который работал егерем и забредал в его сторону раз в месяц, чтобы привезти нехитрую еду и те жалкие деньги, что оставались от пенсии после покупок. Газет племянник не привозил. Читать Зуев еще мог, надвигая на затылок серую ленточку, на которой держались старые очки, но не хотел. Он не хотел знать, что происходит там. Он доживал последние три месяца жизни.
Зуев доживал последние три месяца жизни и все делал медленно, не торопясь, аккуратно, словно боялся расплескать остатки жизненной влаги, что все еще переливались в груди. Он выпивал их по капле. По одной на каждые оставшиеся девяносто или сто дней. Сердце казалось булькающим комочком, зависшим в центре тонкой паутины, и каждое резкое движение грозило оборвать одну из невесомых нитей, отчего весь его остаток мог тут же упасть и разбиться вдребезги на потемневших от времени половых досках. Отныне жизнь была посвящена только подготовке к смерти и воспоминаниям. Первое он почти уже закончил. У окна на лавке стоял с осени гроб, накрытый белой скатертью, который он использовал как стол. В платяном шкафу висел обсыпанный нафталином и закутанный в марлю вычищенный темно-синий костюм и лежала стопка белья. В чулане таились две бутыли самогона. За иконою – выменянная племянником зеленая иностранная деньга с цифрою пятьдесят, два желтых обручальных кольца, серебряная ложка и пачка старых непогашенных облигаций какого-то безвозвратного займа. В ящике замасленного буфета – серый конверт с надписью: «Вскрыть, если я уже умер». В конверте пряталась составленная дрожащей рукой подробная инструкция, как и что делать, кому и что забирать, где и что лежит, включая убедительную просьбу перед закапыванием потрясти за плечо и громко крикнуть в ухо: «Зуев, подъем!» Да что там забирать? И кому? Жена уже тридцать лет лежала на заброшенном деревенском кладбище, сгорев в один месяц от неизвестной болезни. Сын, единственный сын через десять лет после смерти матери уехал в город, прислал письмо, что устраивается и скоро сообщит адрес, но не сообщил. Сгинул как дым. Зуев сходил в милицию, отнес фотографию, присланную из армии. Сына объявили в розыск, но тут же в коридоре опер сказал, что если за месяц сам не объявится, то вряд ли уже найдут. Зуев еще три года ездил в милицию каждый месяц, каждый раз выслушивал один и тот же ответ: «Ищем», – потом ездить перестал. Привык. Вел понемногу тихое и неторопливое существование, поддерживал чистоту в доме и во дворе, подолгу отдыхал, думал о чем-то. Одно беспокоило теперь в этих приготовлениях: угадать со смертью как раз перед приездом племянника, чтобы не пухнуть месяц в пустой избе, не доставлять дополнительных неприятностей людям.
Вторым и, может быть, главным смыслом проживания последних, отмеренных самому себе дней были воспоминания. Зуев словно теребил память ослабевшими пальцами, смакуя отзвуки прошлого, двигаясь по вершинам повторяющегося и никогда не повторяющегося пятиугольника. В один день рассматривал фотографии на стенах, листал альбомы и перекладывал коробки с карточками. Во второй читал письма, смотрел школьные рисунки и тетрадки сына. В третий перебирал старые вещи, детскую одежду, любимую чашку своего парня, незатейливые игрушки, дешевые украшения жены. В четвертый день понемногу продирался через бурьян по бывшей деревне, ходил по двору или дому, трогал стволы деревьев, упавшие калитки, угадывал в зарослях крапивы погибающие яблони, называл по именам хозяев разрушенных домов. В пятый сидел на обломке полусгнившего бревна у вздрагивающего зеркальца затененного родника и думал. Сегодня опять смотрел фотографии. Безымянный кот презрительно поглядывал с подоконника, где-то рядом куковала кукушка, предсказывая совершеннейшую чушь, а он рассматривал лица давно ушедших людей и плакал. Иногда со слезами, иногда без слез. Летом смеркается поздно. Под вечер Зуев садился на скрипучий стул, укладывал на стоящий у окна гроб полотенце, наполнял из разогретого на уличной печке чайника стакан, вставленный в металлический подстаканник, бросал в кипяток четверть ложки дешевой заварки и застывал неподвижно с куском сахара в руке. Где-то за одичавшим садом садилось красное солнце, щебетали непуганые птицы, изредка по проходившей в трех километрах от его убежища трассе районного значения проезжала какая-то машина, и все замирало. В комнату заползали сумерки, через разодранный тюль проникали комары и беспомощно звенели в воздухе не в силах пронзить тонкими хоботочками провяленную стариковскую кожу. Зуев невольно вздрагивал, делал несколько глотков холодного чая, опирался о крышку гроба, вставал и, скрипя пружинами, опускался на узкую железную кровать, не зная, удастся ли ему уснуть сегодня или нет.
Мертвая деревня замирала. В развалинах ухали сычи и вскрикивали потревоженные дневные птицы. Где-то поскуливала то ли лиса, то ли брошенная собака. Шуршал и скрипел старый дом, в котором, как сердце, мерно тикали такие же старые часы. На них была только одна стрелка, да и та не двигалась с места, являя собой не указующий перст ушедшего времени, а символ непоколебимости и трагической устойчивости. Со стороны трассы послышался шум проезжающей машины, на секунду замер, затем усилился и стал приближаться. Зуев лежал на спине и смотрел в потолок, на котором в голубоватом лунном сиянии зимними оживающими узорами шевелились отраженные переплетения ночных ветвей и листьев. Звук машины приблизился, стал еще ближе, на потолке блеснул отраженный свет, и вот мотор затих. Хлопнула дверца, захрустели тяжелые шаги, открылась еще одна дверь. Что-то упало на землю. Тишину тронул слабый стон, раздались злобные голоса, ругань, глухие удары, вновь звук падения и выстрел! Все замерло. Только зашумели вдруг крылья взлетающих ночных соглядатаев. Кто-то громко сплюнул. Вновь хлопнули дверцы, и машина уехала. Зуев по-прежнему неподвижно лежал, смотрел в потолок, и ему казалось, что голубой квадрат уменьшается, расплывается, качаясь из стороны в сторону, или сам он неудержимо проваливается куда-то. Булькающий комочек запутался в тонких нитях, судорожно забился, пытаясь разорвать их и наконец упасть на дощатый пол, чтобы замереть облегченно и навсегда. Зуев тяжело и медленно дышал и уже в полузабытьи, ловя спасительную прохладу и успокаивая себя, поглаживал дрожащими ладонями холодную металлическую раму кровати, пока сквозь выступивший на лице и груди липкий и противный пот на него не навалился черным беспамятством сон.
Он проснулся вдруг. Где-то за тонкой стеной опущенных век уже звенело солнечное утро, а он словно замер на границе этого мира и того. Тело понемногу давало о себе знать слабостью, дрожью и уже привычной ноющей болью. Булькающий комочек оставался на месте, несмотря ни на что. Зуев открыл глаза, разглядел клок паутины, свисающий с потолка, огорчился на мгновение, снова закрыл глаза, тяжело сел и, сжав ладонями виски, несколько минут унимал головокружение. Кровь утомительно щелкала по вискам, вызывая волны стонущей боли, простреливая из головы в поясницу. Наконец он медленно встал и вышел во двор. Вчерашний кот, лежавший теперь на низкой поленнице, недоброжелательно смотрел, как старик набирает поленья, укладывает в печку и запихивает в дрова сухую лучину и бересту, чтобы не пришлось переводить спички зря. Вот огонек пополз по деревянным кудряшкам и ожил. Зуев громыхнул чайником и пошел к роднику, стараясь ступать по центру узкой тропы, чтобы не поймать на ноги, плечи, живот искры обжигающей холодной росы. На извилине проселка у края оврага медленно выпрямлялась трава, постепенно скрывая следы машины и еще что-то. Зуев подошел ближе и увидел. На краю оврага лежала девушка.
На краю оврага скрученной и брошенной тряпкой лежала девушка. Голова запрокинулась в овраг, поэтому Зуев сначала подумал, что головы нет вовсе, и замер, но и потом, когда понял, что показавшийся окровавленным осколком шеи над обрывом задрался подбородок, сжавшие нутро спазмы не ослабли. Девушка лежала на спине, слегка вывернувшись в талии из-за стянутых узким шпагатом посиневших рук. Блузка и юбка, потерявшие из-за грязи и крови первоначальный цвет, были сбиты и скомканы. Босые ноги косолапо уткнулись друг в друга. Она лежала как мертвая. Машинально двигаясь в сторону родника, Зуев сделал еще два шага и увидел лицо. Голова откинулась вниз, рот приоткрылся, а ниже, начиная от небольшого заостренного носа, все заливала кровь. Только пряди обесцвеченных волос торчали по сторонам. Зуев остановился на неловкое мгновение и, чувствуя напряжение в груди и гудение в висках, медленно, но все же быстрее, чем следовало, спустился к роднику, наполнил чайник, опустил в воду негнущиеся пальцы, смочил лицо, провел по колючей шее и обессилено закрыл глаза. Все было как всегда. Отраженные осиновыми листьями, мелькали блики солнечного света. Шуршала по свинцовому илу вода. Только колени и стопы дрожали больше обычного. Надо привыкнуть. Зуев часто сидел тут с закрытыми глазами, не отдавая себе отчета, что мысли, ранее имеющие вид предложений или обрывков внутреннего монолога, с некоторых пор превратились в образы и безымянные картины. Вот и теперь в голове отчетливо отпечаталось зеркало его жизни, состоящее из дома, мертвой деревни, двух картофелин «в мундире» по утрам, старых писем и фотокарточек, одичавшего кота и теней на потолке. Зеркало, в которое, как камень, недоброй рукой брошено это тело, и кто его знает, успокоится ли оно, разбежавшись в стороны волнами, или разобьется на мелкие осколки.
В воздухе послышался надрывный звон летящих из крапивной глубины оврага комаров. Зуев несколько раз глубоко вдохнул, тяжело поднялся и начал подъем к дороге. Пятнадцать шагов, которые он знал наизусть. Ну вот. Он с трудом выпрямился, прищурился, вглядываясь в скорчившийся силуэт, снял с головы засаленный картуз, собрал ладонью пот со лба и лица на бороду. Снова присмотрелся. Большой палец одной из двух вывернутых за спину рук еле заметно дрожал. Зуев медленно опустился на колени, еще раз пригляделся к дрожащему пальцу, словно надеялся, что ошибся, увидел неожиданно живую розовую кожу на шее под спутанными волосами, снял крышку с чайника, сунул туда ладонь, протянул руку и уронил холодную каплю на губы. Она застонала.
Зуев никогда не считал себя трусом, впрочем как и смелым человеком тоже. Он был обычным. Все несчастья, обошедшие его дом, провожались им со вздохом облегчения, несчастья, стучащиеся в двери, встречались со вздохом покорности. Если бы счастье наконец отыскало дорогу к его заброшенному дому, вряд ли бы оно увидело что-нибудь еще, кроме вежливого и радостного удивления. И эта фатальная покорность судьбе, соединенная с трудолюбием, живучестью и выносливостью, делала Зуева одной из тех миллионов незаметных песчинок, из которых отливаются железобетонные фундаменты для глиняных исполинов. Но время – тяжелый жернов, который стирает песчинки в пыль, оставляя печальное недоумение ищущим плоды собственного труда. И вот, наполненный этим неосознанным недоумением, еще не пыль, но уже почти не песчинка, Зуев стоял на коленях над окровавленным, но живым телом и пытался найти в себе силы, чтобы выполнить то, к чему обязывала природа. Помочь себе подобному.
Силы не находились. Судорожно выдохнув, Зуев достал из кармана кривой садовый нож и с трудом перерезал шпагат. Девушка еле слышно вздохнула, плечи ее ослабли, руки дрогнули, тело обмякло и распласталось навзничь. Зуев осторожно взял ее за плечо, упираясь о землю дрожащим коленом, повернул тело на левый бок и перенес правую руку из-за спины вперед. Сколько на его памяти перемерло мужиков, которые, залившись самогоном до «отключки», захлебывались в собственной рвоте! Нет уж, на бок! Если Бог жизнь оставил, тем более нельзя ее затаптывать! Эх! Силенок бы! Да откуда же их взять, если стучится булькающий комочек не в груди, а на тонких и слабых нитях?
Старость – это усталость. Сил все еще не было. Подставляя солнцу зажмуренное лицо, Зуев подождал немного, но, когда тело окончательно дало знать, что сил уже не будет, когда стянуло железным обручем голову, онемели колени и заныла спина, сделал то же, что и пятьдесят, и сорок, и тридцать, и двадцать лет назад, когда и сил, и здоровья хватало с избытком. Встал и начал работать. Никакого другого способа жить Зуев не знал. Он доплелся до дома, поставил на печку чайник, добавил в огонь пару поленьев и водрузил рядом с чайником ведро с дождевой водой. Затем с трудом вытащил из-под просевшего навеса заскорузлые деревянные сани на низких полозьях, на которых возил по первому снегу к избе дрова и которые уже не собирался трогать, и поволок их к оврагу. Добрался за четверть часа. Не слишком быстро, если учесть, что всей дороги полсотни шагов. И не слишком медленно. Тропинка была вдвое уже саней, подрастающая лебеда поддавалась неохотно, а толстые стебли репейника не поддавались вовсе, и их приходилось перепиливать все тем же садовым ножом. Вот и овраг. Зуев подтащил сани, поставил вдоль тела, присел. Минут пять смотрел на открытое загорелое плечо и безвольно взмахивал правой рукой, чтобы отогнать мух. Левую руку удерживал на груди, уговаривая булькающий комочек: «Ну ничего, ничего. Потерпи. Еще немного. Ну? Потерпи». И вот, продолжая уговаривать измученное нутро, Зуев встал, перевернул неожиданно легкое тело на спину, затем на живот так, что девушка плечом и левой ногой попала на сани, и опять на спину. Убедившись, что лежит она устойчиво, засунул под изуродованную голову картуз и пустился в обратный путь, повторяя про себя, как печальный марш, появившуюся на языке фразу: «Легкая, значит, живая. Легкая, значит, живая».
Легкая, значит, живая. Зуев сидел у привычного «стола» и посасывал кусочки холодной картошки, перемешанные с укропом, огуречным листом и каплею кукурузного масла. Голова от усталости норовила упасть на грудь, а челюсти с остатком зубов еле двигались, гоняя по измученному рту нехитрую пищу. День, понемногу пропитываясь сумраком, уже заканчивался, когда Зуев вспомнил про письма. Сегодня он должен был читать письма. Он совсем забыл про это, пока втаскивал девушку в избу, разрезал тупыми ножницами спекшуюся панцирем одежду, смывал теплой водой грязь с покрытого синяками и кровоподтеками тела. Кровь стекала с лица вместе с полосами туши и застывала на полу красно-черными узорами. На щеке была рассечена кожа, вокруг глаз наливались синяки, опухали разбитые губы и нос. На лбу на три-четыре пальца выше бровей багровел след скользнувшей пули, опалившей волосы и обжегшей кожу. «Повезло тебе, птица, – подумал тогда Зуев, намазывая раны единственным оставшимся у него лекарственным средством – зеленкой, подсовывая сброшенный с кровати матрас и накрывая серой простыней. – Повезло тебе, птица. Почитай, овраг тебя наш и спас. Овраг и ночь. Стрелок-то точно целился!» Сейчас она дышала почти уже ровно, не вскрикивала, как тогда, когда Зуев тревожил раны. Он еще раз вгляделся в ее лицо, пытаясь понять, не смотрит ли она на него, потом сунул руку в полиэтиленовый пакет и вытащил первое попавшееся письмо. Письмо было от сына из армии. Серый конверт без марки, нехитрый солдатский адрес. И, еще сжимая конверт в ладонях, Зуев начал тот привычный ритуал, который повторял уже несколько лет почти каждый день. Он закрыл глаза, прижал конверт к щеке, вдохнул его запах, открыл и достал сложенный тетрадный листок. Затем вдохнул запах листка, пытаясь услышать исчезнувший отголосок прошлой жизни, открыл глаза и расправил листок на белой скатерти, застилающей гроб. Бумага еще белела на покрывающемся сумраком «столе», он разобрал неумелый почерк сына, пятнышки от слез жены, плакавшей над этим письмом, какой-то непонятный штрих, напоминающий след ружейной смазки, и, чувствуя, что день стремительно катится к своему окончанию, нарушая ритуал, начал торопливо читать. Сын писал простые, обязательные слова. Рассказывал, что у него все в порядке, что служить ему осталось чуть больше года, что он получил какой-то значок, что кормят неплохо, но очень вспоминается ему Пеструхино молоко, спрашивал о здоровье, о деревенских, о том, не начали ли строить клуб на центральной усадьбе, как там Машка, что провожала его в армию, жив ли еще их пес Каштан, и еще, и еще о чем-то, разрывающем сердце и душу в мелкие клочки!








