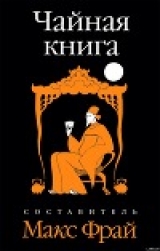
Текст книги "Чайная книга"
Автор книги: Макс Фрай
Соавторы: Сергей Малицкий,Алексей Толкачев,Ольга Лукас,Елена Касьян,Юлия Боровинская,Марина Воробьева,Оксана Санжарова,Лея Любомирская,Марина Богданова,Н. Крайнер
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 20 страниц)
Танда Луговская

Возьми чашку. Возьми-возьми, не бойся. Да любую, какая по руке придется. Чашка? Нет, не оружие, но тем не менее. Это тоже важно. Ну что значит – «не знаю»? Да, от этого тоже зависит. Но в первую очередь от чая, конечно.
Ладно, давай по порядку. Стеклянные стаканы – да-да, вот эти, карандашной невыигрышной огранки, – можешь вообще не трогать. Ни с подстаканником, ни без него. Потому что один – о дороге ночной, безудержной, покачивающей головой: «Может, так, а может, совсем иначе, но как-нибудь точно». А потом знойно-разморенный, совершенно незнакомый перрон и липкий асфальт под ногами, может, растаявшее мороженое, сплюнутая жвачка, а может, и дорога кончилась, вот ты и тут, а дальше рельсы загнулись кверху, как детские санки, если смотреть, когда уже свалился с них, и всё, надо отфыркаться от набившегося в рот, протереть глаза, ну вот и нормально, только сейчас ты не в снегу, это акациевый цвет шуршит, проскальзывает в трещины у домов и люков, и пахнет головокружением и чьими-то губами, еще неведомыми, но ты так быстро, охотно сдашься, потому что не сможешь сделать шага в сторону: жарко, радужно-липкий асфальт, а еще и акация, вот эта, столетняя, сыплет манну небесную, а то пшено, конопляное дурманное семя, – птицам нередким, совершенно не желающим перелетать Днепры и Амазонки, а желающим сладкого, разве это странно, разве это плохо, ну вот хотя бы эскимо с отслаивающимся шоколадом снаружи и кусочками шоколада внутри, слизнуть-поймать-удержать, приди и возьми, руку протяни, сладкая-сладкая акация, губы нежные, ну как тут устоять, а потом упустишь кусочек глазури, упадет на асфальт, вмиг растает, а ночь южная и звезды увесистые, словно мускатные розовые виноградины, руку протяни, но ты это уже знаешь, слышал, вдыхал, а не двинуться: жарко.
Не туда. Рано.
А второй стакан – о черной лестнице, черном ходе и о жизни несветлой, тусклая лампочка, никотин осыпается из воздуха пылью и оседает в морщинах, и разговоры невеселые, тупик, птица такая, большой клюв перевешивает маленькую голову, и что-то невнятное течет по пищеводу, а потом взрывается в солнечном сплетении, но и взрывается фальшиво, а определишь ли фальшь, иного не зная, тепло – ну да, вроде тепло, а что еще надо, и газеты, желтеющие от солнечного луча, вот странно, старые хорошие книги желтеют куда меньше, приобретают оттенок слоновой кости, а вот эти «провел заседание президиума» – будто протекшее сквозь простыню нищенское, стонущее безнадежно и онкологически время, и всё пахнёт подгоревшей перловкой и еще чем-то прогорклым и эмалированно-облупившимся, и не надо бы смотреть, а не подняться, словно силы туда же вытекли, в несвежие газеты и неоттираемые пятна на столе, и коричневый ободок по дну стакана, – не туда тебе, не надо, совсем никому не надо, там вообще не жизнь, там друг друга не узнают и бьют только затем, чтобы хоть в боли себя ощутить.
В общем, на полку со стаканами можешь не смотреть. Не дам. Не тебе.
Керамическая пиала, бирюзовая, и треугольники ободком, хорошая, но нелепая, делавший не знал, откуда он сам и кто он, только томило его что-то невнятное, подсасывало между лопатками, может, крылья, может, остеоартроз, – …теоа, гавайский напев, а то горящие полотна-паруса Гогена, клинопись не клинопись, Самарканд не Самарканд, то ли Междуречье, то ли покатые пески на закате, долгие тени, долгие протяжные напевы, кувшин с вином, нагретые за день стены, языком прицокнуть да прищуриться, белая ткань – и праздничная, и погребальная, да о погребении ли речь, не костер ли и не разорванное ли крыльями грифов небо, а пиала будет неполна, лишь на донышке, чтоб остывало, а взять еще чурчхелу, гранатовую, венозной красоты, тягучую, с грецкими орехами, что глухо падают во дворе, а потом желто-коричневым соком запоминаются рукам, как бы те ни были загорелы, желто-коричневое из зеленого, и не вывести никак, ну можешь и взять, и сыплются черные лепестки, этот чай крутым кипятком заварим в чугунном чайничке, он простой, как напев вполголоса за мойкой посуды или шитьем, иголка-иголка, сколько мне лет?
Бирюзовая пиала
Дерево
Очнешься. За окном – зной. Пробивается даже сквозь многослойную листву, на дощатом полу – пятнистом от солнца – вытянулся черный до вороновой синевы кот. Еще утро, в самую пекельную пору он будет забиваться под ванну, наполненную холодной водой, а пока вытянулся в полтора себя – от пошарпанного табурета до края ковра, когти там – когти тут, хороший такой кот, ну просто классный, суперский, уже начинающий заматеревать, жутко гордый тем, что вчера набил морду вон тому рыжему с белыми передними лапами и половиной хвоста, а это стоит порванного уха и даже чтобы потом заливали почти невидимой на черном зеленкой, но сделал же, вот, вот! И валяется, и гордится весь, до последнего волоска, а все одно жарко меховому.
А тебе еще жарче. И тяжесть от носа до половины черепа, и слабость – что лишний раз до туалета идти не хочется, потерпеть еще, полежать, и серебряная полоска на термометре уже длинная, и врач уже был – цепкие, белые до жемчужности пальцы, скажи «а», скажи «а», словно другие буквы алфавита тоже заболели, и в школу не выйти, а там сейчас контрольные, а их придется писать в августе, не хочется, да и сейчас не хочется тоже, но там Маришка-Марьям, и Сашка, и еще один Сашка-рыжий, и Арам, который взял Жюль Верна, а пообещал принести Уэллса, и Мирра Афанасьевна, а тут только длинный кот. Потягивающийся шлагбаум для ничего. Зато очень длинный, угу.
Мама приходит с работы, держи, в почтовом ящике новый «Юный художник», какой я художник, максимум кривую елку нарисую, будто не в шестом классе, а в шесть лет, но дети должны гармонично развиваться, да, мама, конечно, мама, и перед глазами эта выгнутая дугой гармонь, и звук отвратительный, фальшивый, – так играет в переходе полусумасшедший безногий лысый Марек, и ему кидают денег, а потом жена Дина вечером увозит его домой, а если раньше того надо разбираться с милиционерами, то Марек поднимает шум, и плачет, и кричит такое, чего быть не может, а милиционеры не верят сразу, и тогда через какое-то время заступается толстая голосистая Лора, которую ты должен звать Лариса Сигизмундовна, что торгует на выходе с угла, она или сама приходит, или Дину зовет, но чаще милиционеры предпочитают обойти, как будто не видят. А играет Марек плохо, не зря говорят: «из рук вон плохо», – потому что хочется вырвать инструмент из рук и чтоб больше не слышать совсем.
Но сказать это можно только закрытой двери, еле удерживающейся на двух болтах (еще два выпали) дверной ручке. Мама уже ушла, много дел, а журнальные страницы блестящие, и даже запах у них словно бы проблеском, и можно открыть, и скользить по разворотам…
И наткнуться – на стену. Дальше – ни вдоха, и как удар в солнечное сплетение футбольным мячом на разгоне, когда стоишь на воротах и отшатнуться нельзя. И рука наотлет, и синее шелковисто-атласными волнами, и кружева белые, зыбкие, и в самом деле как из глубокой морской пены, – а в глазах такая беда, что не закрыть страницу, взгляда не отвести, полчаса ли, час прошел, а в руке приоткрытая книжка, а глаза черные, как у Маришки, а на скулах – печати от смерти, как будто в пять букв и две точки: Ds: tbc, – хотя никогда раньше такого не видел, только читал, уже и не вспомнить где. И легкие слезы – бессмысленные, как узоры от волн на песке, ведь давным-давно умерла, и даже если вдруг ошибка, то посмотри на дату картины, все равно умерла, от старости, может, и ошибка, может, у нее внуки сейчас живы, вот такие, как Сашка или Арам, например, или ты, или Виола Беренштейн из параллельного класса, она даже похожа немного, и Маришка похожа, чего не бывает, тасуется колода, Булгаков уже прочтен…
Не расстраивайся, когда болеешь, нельзя, поспи, а журнал я заберу, я тоже хочу почитать.
Только ты точно знаешь, что никакой ошибки нет. Не в парке она – на кладбище. И не потому руку отвела, что книга неинтересная, а чтобы просто равновесие удержать. Качает. Тебя тоже качает, но это совсем другое.
– Бабушка, бабушка, отчего у тебя такие большие глаза?
– Чтобы лучше видеть смерть, внученьки мои, чтобы хорошо-хорошо ее рассмотреть, пристально, внимательно…
– А она от этого уйдет?
– Это вряд ли…
И ты плачешь, неуспокаиваемо, навзрыд, зарываясь в подушку, и когда слезы всё не прекращаются, ты вцепляешься зубами в чурчхелу, лежащую на столике, чтобы ну наконец перестать, и поворачиваешься под лампу – и вдруг понимаешь, что чурчхела, наверное, цвета той крови. Шедшей – горлом.
И затихаешь. И только проминаешь между языком и нёбом вязкую сладость – пополам с присолью. Чтобы через пятнадцать лет узнать, кто в споре был прав, – да, действительно, за несколько месяцев до смерти от туберкулеза талантливая красавица художница Мартынова, земную жизнь не пройдя даже до половины, конечно, все понимала, какая уж тут врачебная тайна: чахотка в те времена, до изобретения антибиотиков еще лет двадцать оставалось, и автор картины, с которым дружили, тоже все прекрасно знал, вслед глядел, потому и картина такая – не над гробом еще, но перед ним, чтобы хоть так осталась, молодой, прекрасной, в памяти. Известная история, а что?
* * *
Не стакан, так, жестяная кружка, не обо всем сказано «рано», не все предупредить, вот не углядеть бы тебе ее за прочими, но нет же, тусклым отблеском – а притянет, сначала из банки четырехугольной с какими-то там китайцами в ярких расписных халатах, лапсанг сушонг, «чай с лыжной мазью», как ехидничают не любящие его, не понимающие, а вдохнувших притянет запахом тем смолистым, костровым, и веткой в котелке размешать, и ягод можжевельника кинуть, но это в самом начале, потом сухой морозный хруст, и горелка-голубой-огонек, и сгущенка вареная, что дома в кипяток и там позабыть часа на два, а потом – разнообразие царское, сгущенка обычная, сгущенка кремовой густоты и витаминки-аскорбинки бело-круглая кислота, разгрызть и застыть, и в закаты поглядеть, коричневые тучи и васильковый снег, старая песня, где бы та девушка-напарник, кудряшки по плечам, а к ночи собирается нехорошее, закрепиться получше надо, а то унесет-костей-не-соберешь, да всего не предусмотришь, но еще с час в запасе есть, а то полчаса, но ложку облизать уж всяко найдется время, по алюминиевым выбоинкам-щербинкам языком провести, а закаты рериховские, алые, фиолетовые, изумрудные, немыслимые, бьющие по глазам, красота неземная, не всем людям видать, а кому-то видать да не расплатиться, обмороженными пальцами да слепотой от бриллиантового блеска под ногами, – хорошо еще, дешево, выгодная сделка, оттого что не торгуется, не выгадывает, а берет свое властно, словно Снежная королева сердца, и только выдох вслед, воздух осыплется, непразднично, не о том мечталось-говорилось, не новогодний дождик-перезвон, и самые звуки померкнут, и девочка-напарница, где же ты, девочка – богиня вымечтанная, прочный уступ вовремя, веревка, что не протрется о камни, лучик, родное слово, а может, и марилась-миражилась, никогда и не была, и только холод, и закаты, анилиновые, пронзительные закаты, преломление-в-атмосфере, заворожившие – нет, выворожившие, как выморозившие, закаты, – да, вот они никуда не денутся, и через год, и через век, и когда самой Земли уже не станет.
Жестяная кружка, вдавленная посредине
Металл
Ну слушай, чего уж там.
Я, в общем, знала, что – так или иначе, когда-нибудь – придешь говорить. Имеешь право. Твой отец, в общем.
Был.
Ты ведь – в него удался. И скулы его рубленые, и волосы темной проволокой, и повадка. Удача ли это – понятия не имею. Так получилось.
Погоди, сейчас сигарету достану. Не хочу без сигареты. Знаешь ли, тяжело.
Да, я с ним рассталась. Потому что – ну достал!
И меня он не любил, и тебя не любил.
Не ври себе.
Любил бы – не ушел бы через два месяца, как ты родился, в поход очередной. Ах-ах, категория, ах-ах, важные соревнования, мужиков подведу.
Только горы свои проклятые любил.
Видишь, кстати, сколько фотографий осталось? Я не выбрасывала.
Я и так долго терпела.
Пять лет. Если такую жизнь считать как год за три – максимальный срок. Выше разве что за убийства дают. А мне за что?
Толку мне с его регалий? И тебе – толку-то?
Тебе на всякие фрукты, между прочим, я зарабатывала. А у него – сна-ря-же-ни-е.
Я долго терпела, честное слово. Ну да, понятно, что там действительно хорошее сна-ря-же-ни-е нужно. Потому что иначе замерзнут, важное что оборвется, ну и все такое, в общем.
А потом поняла – закончилось. Не потому, что поскандалили, тарелки-плошки-горшки побили, или там мне денег не заплатили на работе и совсем край, или еще что. Родители его, опять-таки, все же немного подбрасывали; чтоб совсем голодали мы с тобой – нет, не было никогда, врать не буду.
Просто почувствовала – не люблю больше.
Пришел из похода – сказала.
Такое – не скроешь.
Да и не хотела.
И не хочу.
Как бы то ни было – не жалею.
Дай еще сигарету, в общем.
Нет, я не предполагала, что он на следующее же утро опять в поход уйдет.
Но и когда узнала – ну и что? Ну психанул. Бывает, в общем. Думаешь, я не психовала?
Да и потом, кстати. Он же с Андреем Семилавочкиным пошел, а Андрей вечно молодняк водил, ну какая там категория, первая-вторая разве что. Твой отец к тому времени почти снежным барсом был, только какой-то горы не хватало или двух, не помню. Скольки-то-тысячников, он-то их всех наизусть знал. Снежный барс. Ирбис, блин, кошак драный пятнистый. Дурак в крапинку. Пятая, пятая-бэ, пальцы веером, сопли пузырями…
Сама уже во всей этой мутотени разбираться научилась. Тьфу.
Потом узнала, что Андрей на вокзале сломал ногу. Анекдотично – не поверишь, как в дурной комедии, – он действительно поскользнулся на банановой кожуре. Чушь, чепуха, разве что посмеяться, а вот – двойной перелом и разрыв связок. Наташка его рассказывала. Потом два месяца лежал в гипсе на растяжке, в общем.
Как узнал через неделю – запил, да.
По-черному.
Первый раз и последний.
Потом несколько лет – никуда. И дальше тоже – не в горы. Пешие, водные…
Ну да ты знаешь.
Вот потому тебя и не брал.
В общем, пошли они тогда с одним руководителем.
А чего, кстати, он ведь опытный.
А поход совсем легкий, почти матрасный.
Дальше – ну как, совсем за детали не поручусь. Может, что напутаю. Просто пересказываю. Как запись на диктофоне.
Много раз слушала.
Если хочешь – могу тебе полный список выдать – тех, кто в том походе был.
Ну да, вот. Держи. Порасспрашивай. Не всё мне рассказывать, кстати.
Гюльнару Салимову только не трогай.
Она беременная сейчас.
А ты безжалостный. В отца.
Наверное, это хорошо. Для тебя. Хотя – не знаю.
Да, и еще: Виталика Финозёрова уже больше нет. Давно нет.
Нет, не в горах.
Автокатастрофа. Встречный грузовик: водитель заснул за рулем.
Нет, ничего похожего.
В общем, так.
Они остановились на краю какого-то ледника. В смысле, вот так – язык ледника по склону, а они параллельно ему. На каком-то там плюс-минус устойчивом месте.
Надо было перейти перевал. Там того ледника не до фига было, на самом деле. Чуть ли не единственное небезопасное место за весь поход. То есть в связках немного подняться, перевалить – и снова нормально. Они в связках и уже были, это так, не привал был, а передохнуть да головой повертеть.
Говорю же – Андрей молодняк водил.
Твой отец пошел посмотреть на перевал.
Один.
Нет. Без страховки.
Я не знаю почему. Может, хвост распустить, какой он крутой. Может, горная болезнь в голову ударила. Хотя вряд ли – он же только с гор был. Перепады давления, может… ну не знаю, действительно. Вернее же всего – просто забыл. Чего там – подняться да посмотреть, да ведь, в общем?
А остальные – они понятно чего, они смотрели не на перевал, а на твоего отца.
Он же гуру. Почти снежный барс.
А у них у кого второй поход, у кого третий, у кого вообще – вроде как с почином, Глеб Егорыч.
А там гора, кстати, еще и достаточно пологая была. Но скользко, да, ледник.
Он поскользнулся.
Попытался остановиться сначала просто за счет трения тела.
Потом попытался зарубиться. Ну, ледорубом.
Ледоруб вырвало из рук.
Они стояли и смотрели, как он скользил к трещине. Я же говорю – стояли параллельно леднику.
Уже в связках были, да. В тройках, как обычно.
Андрей их учил, что в таком случае – двое из тройки зарубаются, один прыгает вперед, падает поверх и останавливает скольжение. Ну или замедляет. Потом те двое этих двоих вытаскивают на веревке.
Они же на устойчивом месте были, в общем.
Если бы кто из них поскользнулся – так бы и сработали.
Андрей их учил. Точно. Говорил потом. Много раз говорил – а куда деваться?
Он хорошо учил вроде.
Но тут-то – гуру.
Он ведь знает что делает.
Он опытный. Он опытней их всех, вместе взятых. На самом деле, как ни считай, – и по походам, и по категориям этим…
С ним ничего не может случиться. Просто потому, что не может. Никак. Нельзя же в такое – поверить.
Стояли и смотрели.
А на помощь он не звал.
Так и не позвал.
До конца.
Думаю, и сам – не поверил.
А трещина была – глубиной восемьдесят девять метров.
Любому гуру – хватит.
Промеряли, конечно.
Именно такое число было – в протоколах.
Запомнила.
Потом, когда пошли следствия да разбирательства, – а это всегда, если из похода, как говорится, с «грузом-двести», – их кучу раз спрашивали и переспрашивали: «Как же вы так? Вы что, не видели? Не понимали?»
А они всё повторяли, как в трансе или под гипнозом, что он был самый опытный и что с ним ничего не могло случиться.
Ну, они так думали.
На самом деле так думали. Не врали.
Нет, я не слишком много курю. Еще сигарету – и хватит.
Да, я не говорила его родителям, что мы расстались.
И до сих пор не сказала. Теперь-то зачем?
И он не говорил. Видимо, просто не успел.
Или не счел важным, в общем.
Вот, кстати, фотография их того, последнего, похода.
Я не выбрасывала фотографии. Ни одной из них. Ничего не выбрасывала. Две полки – всё эти проклятые горы.
Хотя действительно красивые есть. Особенно закаты.
Тут твой отец – второй справа, ну, это ты и без меня узнаешь.
Виталька Финозёров и фотографировал. Потому его на снимках нет.
У меня, кстати, вообще с ним фотографий нет.
Но он погиб в автокатастрофе.
На следующее лето.
Сейчас уже – твой ровесник, в общем, да.
* * *
А вот еще – чашка из бутылочно-зеленого стекла. Посмотри внимательно сквозь, а налить в нее чай каркаде, винный цвет, лепестки по воде… Видишь, что проступает сквозь воду – да нет, сквозь века, – что отражается в тонированных модерновых стеклах, и за радугой, бьющей в небо, заметался зайчик солнечный, прыгает, словно в настольном теннисе, бьется о ракетки, да нет, все же о стекла, под немыслимыми углами, и все равно в небо, а лужи-осколки, а не поранься, лучше быстро бежать, босыми пятками бить, между мокрыми машинами танцевать и звук «р» дробить-выкатывать горлом, он и сам – окатанная галька, черная-черная да прожилка золотая, веселая, как подруге руку протянуть, по доске-деревяшке через ручей перевести да нацеловаться потом от души, и кружиться по траве, и рухнуть в маки да лопухи придорожные, и небо вымытое, быстрооблачное, среднезападноевропейское, отражение Гольфстрима, растянутое в года тепло, и темные, памятные соборы, не отшатывайся только, не отворачивай головы – химера не химера, выглаженный временем водосток. Капля за каплей – чашка полна, а столик маленький и округлый, и витражи леденцовый свет бросают на разгоряченные лица, и смешливая вишнёворотая официантка, и блины-крепы с каштановым кремом, пар от книжно знакомого лакомства, а вот тут оно, совсем рядом, почти на языке, и желтые известняковые стены да набережные, бережные к таким вот лопоухим и очкастым туристам с куртками, повязанными на пояс, и фотоаппаратами на вытянутых, по-гусиному подвижных шеях: смотрите-смотрите, от нас не убудет, а не побоитесь в какую подворотню заглянуть – так там, над ржавеющим автомобилем и смятыми кока-кольными жестянками, будет граффити – подарок-сонет, и только жалеть, что французский в школе учил через пень колоду, но вчитаться, автора не узнать, конечно, но расскажут полустершиеся буквы тебе, что любая беда – лишь заморозки, лед на реке, а весной все растает, обязательно растает, и снова будет веселый ручей и солнечные зайчики на каждой волне, и камнем в воду будут нырять удачливые зимородки, и – в самом деле, разве вы никогда не видели зимы? Честное слово, бывало и хуже – и все прошло!
Чашка из бутылочно-зеленого стекла
Огонь
От Орли – маршрутка до Данфер-Рошро. Там – транспортный круг, и бабушки-старушки на автобусной остановке: «О, вы так хорошо знаете французский язык! А где вы его учили? А Одесса – это где? А Украина? Да, конечно, знаем, если это рядом с Россией – то Чечня!» Так, ясно, в следующий раз будешь объяснять, что Украина – это рядом с Польшей. Спокойнее будет. Кстати, французский ты знаешь из рук вон плохо, если по совести. Пятерки в школе и на курсах тут никого не обманут. Но приятно.
Рюкзак тяжелый – вроде стандартная автономка твоя, двадцать два килограмма, – но то, что органично по сосновой хвое, притягивает к плавящемуся асфальту. Денег ку, почему так ма, разве что на бомж-пакет какой в китайской забегаловке, времени еще куёвее, и тратить его на заезд в камеру хранения – немыслимая, запредельная роскошь, при мысли о которой вспоминаются попугайские цитаты навроде: «Ассигнациями печку топила, ассигнациями!»
Люксембургский сад. Спокойный – несообразно тебе: посмотреть! в Париже первый раз! на два-с-половиной-дня-как-мало-как-мало, голову вправо-влево-не-свернуть-бы-напрочь. Бегают дети. В колясках дети. Много маленьких детей. Не зашибить бы, да-а? У детей впереди вся жизнь и Париж. Немыслимое счастье, которое почти никому из них не осознать. Кто осознает, станет поэтом. Ты понимаешь, что надо бросить все, броситься оземь на перекрестке, обернуться деревом и пустить тут корни навсегда. Например, каштаном – чтобы по осени бросаться коричневыми, съедобными, сладкими перекатывающимися плодами-камешками вот в этих, еще не понимающих счастья, и вон в тех, целующихся и полагающих, что всё понимают, и бабушкам вы-так-хорошо-говорите-по-французски, чтобы улыбнуться и вспомнить, как целовались…
Но ты с напарником, и он разумный человек, и вы оба понимаете, что на два-с-половиной-дня-как-мало-как-мало! И стихает музыка Дассена, и дальше-дальше-дальше, не бегом, но не остановиться.
Бульвар Сен-Мишель. Потом – в сторону, к Сорбонне. Музыка названий кружит голову: Сен-Жермен, рю Данте, рю Лагранж, каждая улица, переулочек, чуть не каждый дом – гиперссылка, на историю ли, литературу, ассоциации толпятся и отдавливают друг другу ноги и выпрыгивают из тебя, словно разыгравшиеся рыбки-меченосцы из аквариума, куда вода щедро налита до краев, и двадцать веков спокойно глядят на тебя сквозь прозрачные веки, и ты видишь эти кое-где просевшие, но отчетливые слои, двадцать веков терпеливого труда, двадцать веков бесчисленных людей в этом городе, прикоснись к камню – отзовется, дрогнет кожа. По дороге попадается крохотный магазин чайников, и там сова, такая сова, что сердце замирает, ладно-черт-с-ней-с-едой-за-три-дня-не-сдохну, и магазин уютный, словно сквозь века тут хорошо, и ты понимаешь, что, как «сова» по-французски, не вспомнить, варварски просишь чайник с «oiseau», сиречь псисой, продавщица смотрит на тебя ласково, как преподавательница школы для дебилов на любимого ученика, и уточняет, какую именно «уазо», – и ты понимаешь, что тут же роскошный петух, конечно же, Галлия, и жаркий гребень, и гордый вид, и оперение, изумрудное в золотой перелив, всем майским жукам завидовать срочно, а бронзовкам бледнеть, но сова уже твоя, и ты протягиваешь руку и лепечешь: «Cette oiseau», и продавщица расплывается в улыбке, чуть наклоняется, глаза с поволокой, и доверительно-мечтательно говорит: «О, oiseau de nuit…» И ты захлебываешься навсегда городом, где сова – о птица ночи… – и ты хочешь уже стать вон тем чайником-с-виноградной-лозой-ручкой, или хоть крышкой от него, ну или хоть чем-нибудь, но здесь.
А потом набережная, и – настоящие! живые! – парижские букинисты, и ветер кружит лист каких-то старых рисунков, беги, лови, закружись – и будешь, как те, в Jardin de Luxembourg, счастья не осознающие, и блики на воде, но двадцать два килограмма даже хорошо упакованной автономки притягивают, и жара-жара, очень знойное лето, вы долго шли, и не пробежаться, но ты еще держишься, потому что вокруг Париж, и нельзя пропустить, даже глаза нельзя закрыть, твои веки не прозрачны, не века, отмерено ведь мало, хочется больше, хочется бессмертия, здесь – острее, чем где бы то ни было, а Сена действительно бутылочная, такую воду не глотнуть, не окунуться в нее, а протереть бы до блеска мягким замшевым клочком. Не джинна вызвать – а просто отполировать. И любоваться. Молча. Застывши.
Но не получится, дальше-дальше, и вот вы уже на островке Ситэ. Petit Pont. Ма-а-а-аленький такой мост. И Notre Dame de Paris.
И тут ты понимаешь – всё. Баста, карапузики. Пари не пари – ресурс выработан. Ты пялишься на многотысячноразно прославленный Нотр-Дам, и рюкзак на земле, но это уже неважно, и химеры плывут у тебя перед глазами, и ты понимаешь остатками – не мозгов, но воли: перегрев, перебор с нагрузкой, и сердце начинает готовиться к приступу, и вспоминается, как это будет по-французски, о мон дьё, парблё, чертовски красиво, attaque cordial, тебя атакует твое же сердце, да нет, конечно, это оно будет атаковано, осадные машины приведены в действие, унылая тупая морда тарана обращена к выщербленным уже воротам, камни, словно кладки доисторических яиц – эпиорнисов или фороракосов, – лежат у катапульт, а сердце, поседевший верный комендант крепости, спокойно и негромко предупреждает: «Пока держусь… как могу… но, монсеньор, до начала приступа осталось… шесть… пять… четыре… три…»
Ты стоишь, красная, взмокшая, взъерошенная, с безумными глазами, чуть покачиваясь, в экс-Юнион-Совьетик тебя точно приняли бы за наркоманку и бросили бы на асфальт отработанным четким ударом дубинки, с такими и разбираться не будут, а тут лето, и Сена, и Нотр-Дам, и ты еще держишься. Как можешь.
«…два…» – говорит сердце.
А мимо проходит парень, веселый до озорной звонкости, как двухтысячелетий юный Париж-Парис, за которым любой Елене забыть обо всем, и волосы рыже-золотые на ветру, и глаза зеленоватые, и любви да солнца в нем через край, шаги размашистые, и он глядит на тебя, и приостанавливается, и улыбается, и говорит искренне: «Vous êtes très belle», и легко дальше уходит, и ты замираешь, не доверяя плохому своему французскому: это я очень красива? сейчас-то? – и только успеваешь в спину, на выдохе пискнуть: «Merci!»
И вдруг понимаешь, что сердечного приступа – не будет.
* * *
Фффф, что ж тебя тянет на черт-те что, вот это пластмассовое ядрено-ядовито-зеленое, ты откуда… гм, м-да, сколько всякого хлама, оказывается, есть на полках. Все-таки до дрожи железнодорожное, хоть и не так в лоб, как подстаканный звон, систола-диастола от стыков, – но то, что кидают в сумку, когда лень собираться или бежать на поезд через три минуты, через четыре уже опоздаешь, а что тут ручка, например, сломается, ну так и не жалко, все равно цена этому убожеству пятачок пучок в базарный день, как взялось дома, еще вспомнить бы, а, да, кто-то из мельком вписывавшихся на ночь позабыл, а потом и рукой махнул, решив, что в крайнем случае хозяева сами выкинут, до мусоропровода пол-этажа, в конце концов, если не пригодится уж совсем и неудачно подвернется во время генеральной – то есть больше, чем сдвинуть грязную посуду на столе, – уборки. Попалось раньше, то есть вовремя, в сумку и бегом, через три ступеньки, в несколько прыжков на автобус, ну давай же, а, ч-черрррт, красный свет, ну же, ну, ползи, грёбаная улитка, по склону Фудзи, семь минут до отхода, два перекрестка, вокзал, пятнадцатый путь, а-а-а-а, зараза, кого сбиваю – я всем прощаю, уже тронулся, последний рывок, уф. Вдоль состава до нужного вагона, ну и можно передохнуть, да, билеты вот, да, надо заранее, ага, конечно, в следующий раз, как говорит дедушка, «чтоб я был такой умный до, как моя жена после», нет, газет не надо, без календарей с голыми красавицами системы «доска-два-соска» я тоже проживу, о, кстати, очень вовремя тетка с корзинкой, поужинать дома все равно ведь не было шансов, восполним, с чем у вас там пирожки, с капустой, луком-яйцами и повидлом? Давайте по два, нет, которые с повидлом, тех три. Пакетик чая, который одни называют «утопленником», а другие «тампаксом», в общем, понятно, что труха для окраски воды, но сгодится, а пирожки очень даже ничего, конечно, когда с утра не жрамши, тут и жареные гвозди сойдут за деликатес. А все равно хорошо. Благодушно. И вагон симпатичный попался, тихий, даром что плацкарта. Только в конце вагона какая-то компашка с гитарой, но тоже вроде не орут. Что поют-то хоть, прислушаться…
Ядовито-зеленое пластмассовое черт-те что с отломанной ручкой
Вода
Проснуться – ночью, резко, будто выдернули за уши и встряхнули. Сна как не бывало. Вообще. Ни в одном глазу. Хотя просыпаешься обычно тяжело, еще с полчаса, а то час тормозишь, и не помогает ни чай-кофе-и-покреггче, ни холодный душ, ни утренний ветер с дождем в лицо, если все-таки проспал и выбегать уже вот прямо пятнадцать минут назад.
Что за черт? Середина ночи. Сколько там – три часа, четыре? Лезть за мобильником – наручные часы на тебе долго не живут – лень. Поезд как поезд, Москва – Ульяновск, вроде не холодно, от окна в голову не сквозит, хоть и по зимнему времени (согласно прогнозу, если верить синоптикам, минус десять. Если не верить – минус пятнадцать) укутаться невредно. И вправду вполне пристойный вагон. Чего б не отсыпаться, спрашивается?
Дрыхнуть, однако, больше не хочется. Но и глаза открывать не хочется.
Какая-то станция. Стоим. Долго стоим.
Ладно, потянуться, немного поежиться и встать. Любопытно же. Может, что интересное продают, как в Гусе-Хрустальном, например, хотя это в середине ночи вряд ли. Таких сумасшедших полуночников – что увидишь в зеркале – мало.
Сугробы слева. Справа – довольно ухоженная станция. Свежевыкрашенный вокзальчик. Молочно-белые фонари – снег от их света синий. И табличка станционная, тоже свежевыкрашенная, аккуратными белыми буквами по синему:
ПОТЬМА
И с удивлением узнать в услышанном сдавленном хрипе – свое дыхание.








