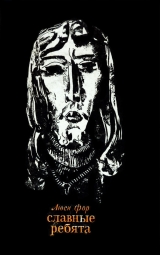
Текст книги "Славные ребята"
Автор книги: Люси Фор
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц)
Еще немного, и начнется настоящая сцена ревности. Марк даже застыл от изумления.
– А Надин Форстер?
– Ах да, я и забыл, что вас интересует она… По правде говоря, я мало что о ней знаю, но, по-моему, она не лучше старухи.
Марку стало как-то не по себе; неприятно ощущать, что ты попал в паутину, запутался в ней. Ален сразу потерял в его глазах все свое обаяние.
– В сущности, ты зачем сюда пришел?
Ему ужасно хотелось добавить: «Раз ты не голоден». Но он вовремя спохватился. Зачем зря унижать мальчишку.
Тут удивился Ален:
– Я думал, что я вам не помешаю…
И он тоже не посмел добавить: «Думал, что вам будет приятно».
– Я и не говорю, что ты мне помешал.
– Допустим, я просто пришел с вами поболтать…
– О том, как я провел сегодняшний день?
– И об этом и о многом другом.
– Например?
– Сам не знаю. Ну обо мне, о наших парнях, которых вы тогда видели. Как они вам?
– Занятные люди.
– А что значит «занятные»?
– Ладно тебе… Я и сам не знаю. – Он пожал плечами. – А что вот они думают о таком старикашке, как я?
– Говорят, что вы очень милый… Матье заявил, что вы можете снова к нему прийти. А Серж в следующий раз покажет свои гравюры.
– Почему же он тогда не показал?
– Вот он такой. Не желает, по его словам, продаваться. Если вы еще раз придете, тогда иное дело.
– Весьма польщен.
– Не надо издеваться. Он вполне заслуживает уважения. Ингрид и еще младенец. Ох, как же я о них тревожусь.
Марк тоже начал тревожиться. Но его вдруг пробудившаяся жалость обратилась если не на все человечество, то, во всяком случае, на людей, мало знакомых с их горестями. Ален с его лицом Христа. Серж с его будущим младенчиком. Надин с ее теткой. Сколько же нелепостей разом, и нужно поскорее выбросить их из головы.
– Ну что ж, как-нибудь на днях.
Ален поднял на него разочарованный взгляд.
– Ты уж извини меня, но я еле на ногах держусь. Не привык, очевидно, к климату.
Внезапно ему стало скучно с Аленом.
– Спокойной ночи.
Ален допил апельсиновый сок и уже поднялся, когда к Марку подошел портье и сказал, что его зовут к телефону.
Здесь Марк никого не знал… Значит, Париж… Какая-нибудь неприятность… И серьезная… Может, и больше. Несчастье. Ему сразу же представилась вереница автомобилей, окровавленное лицо. Он поднял трубку, его била дрожь.
– Алло! Марк.
Он едва нашел в себе силы ответить… Мыслями он был так далеко… Надин… Оказывается, Надин!
В трубке повторили:
– Это вы, Марк?.. Ничего не слышу.
– Да, я. Простите, пожалуйста.
– Я вас потревожила?
– Нет…
– Может, разбудила? Да, да, наверняка разбудила. По голосу слышно.
– Нет, не разбудили. Я даже не у себя в номере.
– А где же вы тогда?
Сразу же этот инквизиторский тон!
– Я говорю из холла.
– А что вы там делаете?
– Спустился выпить.
– Как так, в одиночестве?
– Да.
Теперь он уже напропалую врет этой милой даме. А ведь он ей, как говорится, ничем не обязан. Даже не обязан ей врать.
– Ну ладно, я позвонила просто, чтобы пожелать вам доброй ночи. И спросить, не слишком ли я вам надоела.
Все они одним миром мазаны. Даже в пустыне и то кокетничают. Кокетничают и любопытствуют.
– Вы же сами отлично знаете, что это не так.
Господи, до чего же хочется спать! Да еще в этой кабинке можно задохнуться. А если приоткрыть двери, тут же бросится портье, решив, что разговор кончен.
– Ну… до скорого.
– До скорого…
Следовало добавить еще что-то, но не хватило сил. Выйдя из кабинки, он был неприятно поражен, увидев Алена, который с вызывающим видом шагал по холлу.
– Еще не ушел?
– Я с вами не успел попрощаться. А когда вас позвали к телефону, у вас такое испуганное лицо сделалось, что я не мог… а вдруг какое-нибудь плохое известие. – Потом добавил, дерзко улыбнувшись: – Но, я вижу, все в порядке. Чао!
Взбешенный, еле волоча ноги, Марк, ничего не ответив, поплелся к лифту.
Очутившись один в номере, он успокоился. В конце концов что ему до всего этого?.. Никогда больше он этих людей не увидит. И не дастся им. Завтра все забудется. И хотя нужно признаться, что была минута, когда он поддался чарам Алена, но сейчас все уже позади, и мальчик скорее даже ему не нравится. И он не сомневался, что та же участь ждет и Надин.
«Подумать только, что люди говорят о Париже, о Нью-Йорке, как о каких-то проклятых богом городах. Смешно, ей-богу! Именно здесь попадаешься в их вонючие силки, запутываешься в их сплетнях, тем более что у них, видимо, существует свой телеграф, как в пустыне, так называемое „длинное ухо“, и свирепствуют наркотики. В больших городах хоть существует свобода быть самим собой, быть тем, кем хочешь быть. Затеряешься в толпе и свободен. А Катманду – это провинциальный городок, где все болтают, болтают. Оставьте меня ради бога в покое с чистотой хиппи, с их бунтом… Они бегут из дома, все разрушают, а потом преспокойно восстановят то, что, по их словам, яро ненавидят. Очевидно, остается денежный вопрос… А те две американки просто распутницы. Нанимают себе альфонсов. Чтобы те доставляли им в постели удовольствие. А еще говорят об экстазе и лиризме.
Пожалуй, лишь Надин не коснулись здешние пересуды. Конечно, если приглядеться получше, то и у нее можно обнаружить какое-нибудь извращение, только она его ловко скрывает».
Он уже задремывал, когда перед ним возник образ Дельфины, что-то хрупкое, наплывающее на него; тут он заснул окончательно…
ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава первая
– Дарлинг! Нет, нет, не снимайте перчаток! Мы еще не вошли в дом.
Мадемуазель и Доротея возвращались с прогулки в Булонском лесу и как раз проходили мимо сторожки привратника. Гувернантка даже нарочно ускорила шаги, потому что ее маленькая воспитанница имела малопохвальную склонность болтать с прислугой.
Перед домом лежал мощеный двор, в середине которого шла дорога, выложенная плитами поменьше, по обе стороны ее торчали тумбы, соединенные между собой тяжелыми черными цепями.
На крыльце гувернантку с девочкой встретил старик метрдотель.
Отель Демезонов, огромное строение, без претензий на какой-нибудь определенный стиль, был построен в конце прошлого века семейством госпожи Демезон, урожденной Эдвиг де Ла Сер. Колоннаду приделали попозже, чтобы, по словам владельцев, «походило на Белый дом», но, откровенно говоря, никакого сходства не получилось. Впрочем, отель производил впечатление величественное, хотя и слегка пошловатое, но в целом выглядел скорее благопристойно. Вечером дом подсвечивался прожекторами, искусно размещенными во дворе, и пятна света и тени эффектно ложились на фасад. Правда, злые языки утверждали, что во всей этой роскоши все-таки чувствуется что-то купеческое, но основные владельцы с полным правом могли гордиться своим дворянским «де», той самой частицей, с которой, к великой своей досаде, пришлось после брака расстаться Эдвиг.
Первое время она еще не теряла надежды, что из новой ее фамилии можно будет выкроить это самое «де». Фамилия Демезон вполне это позволяла. Но муж ничего и слышать не желал. Такое с ним бывало – упрется без всякой причины в каком-нибудь второстепенном вопросе. Раз он родился Демезоном в одно слово, так Демезоном в одно слово и умрет. Будучи от природы человеком одновременно скромным и гордым, он не слишком-то разбирался в таких тонкостях. Из Политехнического училища он вышел пятым и вынес оттуда вкус к пунктуальности, любовь к деталям, что создавало ему, к великому его удовольствию, известный престиж в глазах родни. Но престиж этот ценился только в его семейном кругу и не мог даже равняться с престижем де Ла Серов. Впрочем, Эдвиг и Шарлю Демезонам не представлялось случая вступать в споры ни по поводу злополучной дворянской приставки, ни вообще по какому-либо другому поводу, поскольку супруги не разговаривали добрых двенадцать лет. Хоть и жили они под одним кровом, их вряд ли можно было бы назвать супружеской четой.
Особняк был трехэтажным, не считая антресолей, где ютилась прислуга, та самая прислуга, которая, по едкому замечанию Эдвиг, вообще скоро перестанет работать, ссылаясь на новые «возмутительные» законы.
В нижнем этаже по фасаду шли парадные комнаты. Две гостиные, кабинет, музыкальный салон занимали одно крыло. В другом помещались: столовая, буфетная, кухня и различные службы. Себе Эдвиг оставила ту часть нижнего этажа, что выходила окнами в сад. Получилась как бы отдельная квартирка, правда, всего в несколько комнат, но зато просторных, обставленных с изысканным вкусом, что особенно подчеркивала прочая меблировка особняка, которая так и не изменилась со времен его первых владельцев. Эдвиг считала, что это, так сказать, ее святой долг. Недаром же она родилась в семье, где каждое поколение подымалось одной иерархической ступенькой выше, значит, и она тоже обязана положить свой камень в стены дедовского дома. Правда, не обошлось без специального декоратора, но ни о нем, ни о его помощи никогда не упоминалось. Ведь заплатила же она ему? Значит, они квиты. Она искренне считала, что все дело в ее личных талантах, и весьма ими гордилась.
Второй этаж отвели детям. Там свободно можно было разместить если не коллеж, то, во всяком случае, несколько семей. А занимали все это помещение только трое: Ален, Доротея и их гувернантка. В последнее же время, после того как старший, Ален, ушел из семьи, там осталось всего двое. Доротея с гувернанткой совсем затерялись в этих хоромах, не слишком приспособленных для нужд ребенка. К великому ужасу мадемуазель, отец разрешил дочке использовать не по назначению этот блестящий паркет, и, несмотря на свои двенадцать лет, Доротея носилась по комнатам на роликах, на автомобильчике с яркими фарами, даже на самокате. Кроме того, раз в месяц ей позволяли приглашать своих друзей – причем в неограниченном количестве.
На третьем этаже жил господин Демезон и его матушка. Каждый занимал свое крыло. Но на разделявшей оба крыла лестничной площадке шла непрерывная ходьба и вечерами, и даже поздней ночью.
Конечно, было бы куда естественней поселить детей в третьем этаже и таким образом освободить для взрослых роскошные апартаменты второго. Но предположить это – значило бы недооценить силу воли и независимость господина Демезона. Он желал быть начисто отрезанным от супруги; поселись он во втором этаже, он мучился бы от этой непозволительной близости.
Так оно и шло в течение десяти с лишним лет.
Сразу же после свадьбы между мужем и женой – которые добровольно соединили свои жизни для радости и горя, – воцарилась ненависть. Поначалу ненависть безмолвная, удобная, ненависть людей светских. Если уж говорить начистоту, ненависть, которая в известном смысле сродни любви. В иные минуты оба эти чувства порой сливаются в одно. Выпадали вечера, когда Шарль искренне считал, что влюблен в жену. А если он верил… На самом же деле она импонировала ему своей красотой, суровостью, нескрываемым к нему презрением. И когда он брал ее, ему чудилось, будто он некий сверхчеловек, поваливший богиню. Даже холодность ее привлекала. Если бы Эдвиг захотела, возможно, между ними и установилось бы согласие, близость, но она этого не хотела. Ее ненависти требовалась каждодневная пища.
Зато приемы, которые они время от времени устраивали, равно как и воспитание сына, не давали никаких поводов для споров.
Более того, Демезоны иной раз решались на рискованный шаг. Ведь попытались же они установить демократические контакты между их Аленом и сыном привратника. Предполагалось, что дружба, отвечающая требованиям хорошего тона, избавит Алена от скуки одиночества. Жозеф приходил к ним играть, учился вместе с Аленом, и его даже сажали с господскими детьми за стол. Эдвиг охотно поверяла друзьям, что все-таки пошла на этот рискованный шаг. Детская дружба, особенно дорогая Алену, крепла с каждым днем, но ей пришел конец, когда привратнику надоело выслушивать критические замечания собственного сына, воротившего нос от их скромной пищи и недовольного обслугой в их домике. Привратник попросил аудиенции у господина Демезона и разъяснил последнему, что, хотя дружба с барчуком великая для них честь, но мальчишка дерет нос и он, отец, отнюдь не желает, чтобы ребенок, которого ждет скромное существование, привыкал к подобной роскоши. По правде-то говоря, он был не так уж убежден, что его сынка действительно ждет такое скромное существование, но не собирался терпеть, чтобы пащенок – пусть даже собственная его кровь и плоть – глядел на него свысока. Скоро все забылось. Страдал один лишь Ален, огорченный тем, что нынче ему запрещается то, что еще вчера всячески поощрялось.
Через шесть лет после брака родилась дочь. Супружеское согласие, видимо, упрочилось. Теперь чету Демезонов видели там, где положено видеть: в театрах, на концертах и вернисажах.
Так могло бы идти и дальше: ведь сколько супружеских пар вполне довольствуется такой видимостью близости…
Будничный ход этой жизни, где на поверхности ничего не происходит, был в один прекрасный день нарушен госпожой Демезон-старшей – в девичестве Жанна Лалуа. В приливе злобы, она полунамеками высказала правду, отлично известную всем главным участникам драмы. Но когда эта правда была ни с того ни с сего выражена словами – причем злобными, – и без того непрочное супружеское равновесие разлетелось в прах.
Вот о чем шла речь:
Лет двадцать назад, вернее, чуть меньше двадцати, заботливые друзья из тех, кто желает счастья другим, вбили себе в голову выдать Эдвиг замуж. Она только улыбалась и отказывала всем претендентам: свобода казалась ей милее супружеских уз. И все-таки в один прекрасный день она вдруг переменила мнение и согласилась выйти за Шарля Демезона, молодого человека, не имевшего, правда, крупного состояния, единственным богатством которого было блестящее будущее, что подтверждало начало его карьеры. Лично Эдвиг де Ла Сер не слишком интересовали материальные вопросы. И тем легче ей было разыгрывать роль бескорыстия, что ее родители, деревенские дворянчики, уже давно обосновавшиеся в столице, сумели приумножить свои капиталы, и без того довольно крупные. Откровенно говоря, это обстоятельство не помешало бы иной девице мечтать об округлении капиталов, но Эдвиг была не из таких. Во всяком случае, – тогда не из таких.
Мадемуазель де Ла Сер была красива, считала себя интеллектуалкой, человеком высокой культуры, что было отчасти и справедливо, особенно в той среде, где она вращалась.
Щеголяя своей интеллектуальной независимостью, – которую она путала с распущенностью, – Эдвиг проводила ночи в Сен-Жермен-де-Пре, что давало ей прекрасный повод поболтать о Сартре. Да и впрямь она не раз его там встречала.
Эта бурная духовная жизнь закончилась тем, что через несколько месяцев Эдвиг, к великому своему горю, обнаружила, что беременна.
Сделать аборт? Об этом и речи быть не могло, она ведь верующая. В действительности же она боялась, но скрывала это даже от самой себя: в пятидесятых годах такое не легко сходило с рук. Выйти за виновника несчастья? Да, но как решиться на мезальянс? Какой-то музыкантишка из ночного ресторана! Быть девушкой-матерью казалось ей более заманчиво, тут есть хотя бы шик. Однако она сообразила, что подвергать родителей такому унижению будет жестоко с ее стороны.
Оставался единственный выход: сочетаться браком с кем-нибудь вообще. Чего-чего, а женихов было предостаточно.
Так-то и появилась на свет чета Демезон, а через несколько месяцев – Ален.
Эдвиг была достаточно честной, чтобы при первой же встрече с Шарлем не признаться в своем положении. А он достаточно простодушным, чтобы не сообщить об этом своей матушке. Но при таком приданом можно было согласиться и на ребенка. Имя настоящего отца никогда не упоминалось. Так было решено с общего согласия, и договор свято соблюдался.
Шарль привязался к ребенку; когда родилась Доротея, он настоял, чтобы ее крестным отцом стал Ален. Все, что могло способствовать укреплению семейных уз, Шарль считал полезным. Мало-помалу прошлое стушевалось, и можно было надеяться, что в будущем воцарится более или менее прочное согласие.
Гроза разразилась как-то утром за первым завтраком. Обычно семья собиралась для этой трапезы в одной из комнат нижнего этажа, именуемой «малой столовой». Эдвиг, по обыкновению, запаздывала, а Ален заупрямился и не желал идти учиться прежде, чем не поцелует маму. Госпожа Демезон, в девичестве Жанна Лалуа, взорвалась:
– Экая шлюха!
Шарль выразительно взглянул на мать и с беспокойством оглянулся на мальчика. А тот совсем разошелся, топал ножонками и вопил:
– Не пойду! Сначала маму поцелую.
Гувернантка ждала в холле.
Вот тут-то бабушка окончательно сорвалась с цепи. Словно вызов, бросила она фразу, хотя годами сдерживалась, но почему, почему именно эти слова вырвались как раз в эту минуту, в присутствии ребенка?
– Хоть бы знать, кто его отец… Эта шлюха никогда о нем словом не обмолвилась. Купила себе за деньги мужа и рада!
Тут и вошла Эдвиг. Она все слышала.
Непоправимое свершилось.
Ален бросился к матери, расцеловал ее, потом спокойно и тихо отправился за мадемуазель.
Если он и не понял бабушкиных намеков, он никогда ни у кого не спросил – что означали ее слова. Поэтому все с легким сердцем решили, что он вообще ничего не слышал. Слова эти ничего для него не означали, во всяком случае ничего доступного его детскому пониманию. Но тем не менее эта фраза врезалась ему в память, и с каждым годом она все больше высветлялась, так что однажды и не осталось ни одного темного уголка. Именно в этот день – без объяснений и без денег – он покинул родительский дом. Ему только что исполнилось восемнадцать.
Ну а взрослые? Для них эта злосчастная фраза не открыла ничего нового; просто на какой-то миг направила луч прожектора на всем известные факты. А жизнь с тех пор стала окончательно непереносимой, как для тех заключенных, которых день и ночь держат под ослепительно яркой лампой.
Пока царило молчание, как-то еще можно было мириться с этими фактами. Или делать вид, что ты ничего не знаешь, или что ты все забыл. Истину пробудили к жизни произнесенные вслух слова. Истину унизительную, как в отношении себя, так и в отношении других. Ложь еще как-то помогала найти форму совместного существования, но истина, выраженная в слове, сделала его невозможным.
Через несколько месяцев после разыгравшейся сцены Эдвиг потребовала развода. Получить вновь свободу, воспитывать детей, не зная материальных забот – ведь особняк в Нейи останется, надо полагать, ей, – что может быть завиднее такой участи. Но Шарль рассудил иначе. Он наотрез отказался от сенсационного развода до совершеннолетия Доротеи. А ведь Доротея еще только-только появилась на свет! Шарль – этот предусмотрительный отец – утверждал, что для девушки развод родителей – прямое бедствие. Он еще верил в то, что на таких детей неодобрительно смотрит свет. А вот о том, какой моральный ущерб наносят тем же самым детям семейные раздоры, он и не подумал.
Он потребовал только одного, чтобы после громового удара, вызванного его же матушкой, весь уклад жизни в их доме переменился. Отныне любое общение с Эдвиг, даже словесное, стало ему непереносимым. Вот тогда-то между ними и залегло молчание.
«Скажи маме… Спросите мадам… Хочешь видеть Эдвиг?» Только такие фразы и можно было от него услышать. Однако к обеду сходилась вся семья. Долгое время Ален и Доротея считали, что так оно и полагается в хороших домах; в их детских головенках смешались понятия аристократизма и богатства. Но когда дети стали кое в чем разбираться, их охотно просветила прислуга.
Когда супруги Демезон принимали у себя или отправлялись на званый вечер, им требовалась известная изворотливость, чтобы продержаться на теперешнем уровне отношений, но с годами они понаторели и в этом искусстве.
Заказывая себе меха, кольца или платья, во время бесконечных вечеров в Опере, где Эдвиг считала нужным появляться, она любила поговорить о потерянном времени: еще столько лет отделяют ее от того блаженного дня, когда она наконец обретет свободу.
Вполне можно понять, какой удар был нанесен Шарлю вспышкой, от которой не смогла удержаться его матушка. Бывало, в иные вечера ему удавалось убедить себя, что он был по-настоящему влюблен в Эдвиг и женился на ней, «хотя она и была беременна», забывая, что именно «потому, что она была беременна», она согласилась на их брак, в ее глазах не слишком-то блестящий. Муж, по ее мнению, не принадлежал даже к числу тех, что числят себя интеллектуалами.
Шарль не желал признавать, что единственной их связью с Эдвиг была ненависть, и безропотно выносил дерзости и презрение жены вплоть до того дня, когда все разлетелось после легкого толчка. Его податливая до этого события воля тут уж взяла верх. Позже, когда Ален исчез, он был буквально сражен, а главное опечален тем, чего никак не мог взять в толк – такой легкий, такой одаренный ребенок… Бабушка и здесь нашла случай вставить словечко: «Кровь, она всегда скажется! Успокойся, в конце концов ведь это не твой сын».
Вопреки суровым мерам, принятым в отношении Эдвиг, Шарль как-то даже забыл – силою воли или просто забыл, коль скоро результат получился один, – что сын не его. Для него существовали лишь следствия, а не причины. И тут снова матушка постаралась спустить его с небес. Неизвестно, в кого уродился Ален… Но Шарль привык любить сына и беспокоился о нем.
А Эдвиг, когда сын ушел, никого не предупредив, из дома, Эдвиг очень огорчилась. Впрочем, после событий 1968 года разве мы не вправе ждать от молодежи самого худшего? И она пришла к выводу, что бунт в конце концов – это довольно мило. Ей нравилось на светских приемах распространяться на эту тему.
Считалось хорошим тоном провозглашать свободу и в то же время утирать слезы, потому что «одно дело одобрять в принципе, но когда речь идет о собственном сыне…» Она все понимала, со всем смирилась. Кругом восхищались ее мужеством, широтой взглядов. В сущности, роль матери, которой приходится выбирать между любовью к сыну и идеалом, очень ей шла. Она играла ее превосходно и с каждым днем все больше совершенствовалась; а тем временем госпожа Демезон-старшая, ворча, поносила «сына какого-то музыкантишки» и требовала, чтобы никто не смел и пальцем тронуть ее обожаемую внучку Доротею.
Такова была семья Алена, прах которой он с гневом отряхнул с ног своих.








